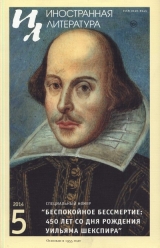
Текст книги "Беспокойное бессмертие: 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира"
Автор книги: Уильям Шекспир
Соавторы: Гилберт Кийт Честертон,Грэм Грин,Хилари Мантел,Стивен Гринблатт,Дмитрий Иванов,Уистан Хью Оден,Литтон Стрэчи,Тед Хьюз,Тамара Казавчинская,Питер Гринуэй
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Трехликий брат Просперо
Придворные, пережившие кораблекрушение и выбравшиеся на берег невредимыми, – это Неаполитанский король Алонзо, его брат Себастьян, брат Просперо Антонио (ныне герцог Миланский) и Гонзало (единственный из всех придворных, заслуживший благоволение Просперо еще в ту пору, когда снабдил своего господина, брошенного в море на утлом суденышке, всем необходимым: едой, водой, богатыми одеждами, а главное – книгами по магии).
Эта сцена состоит из двух частей. Вторая ее часть (в основном еще раз воплощающая мотив братьев-соперников) разворачивается в следующем порядке: Ариэль усыпляет всех придворных, кроме Себастьяна и Антонио, которому приходит в голову, что сейчас самое время привести в исполнение одно давно задуманное им преступление. На самом же деле, он попадает в ловушку, расставленную Просперо: демонстрируя свою жестокость, он невольно оправдывает неутихающую ярость Просперо, что приводит в движение весь механизм пьесы.
Антонио подбивает Себастьяна свергнуть с трона Алонзо и для этого убить его во сне. После минутного колебания Себастьян соглашается, а убийство Антонио готов совершить собственноручно. Былое преступление, извлеченное из души Антонио хитростью Просперо и с быстротой молнии перенесенное в настоящее, в наэлектризованную обстановку острова, представляет собой нечто большее, чем искажение временной перспективы, необходимое, чтобы вновь разыграть преступление, которое двенадцать лет назад совершил Антонио, низложив с миланского трона Просперо. Все это отчасти меняет расстановку действующих лиц, но зато проясняет отношения между ними.
Король Алонзо как подстрекатель и соучастник захвата власти (в Милане – А. М.), с точки зрения Просперо, виновен не меньше Антонио. Однако когда Алонзо становится, с одной стороны, жертвой собственного брата, а с другой – злоумышленника Антонио, направляющего на него, спящего, «трехдюймовый» кинжал, он как бы освобождается от вины и отождествляется с самим Просперо.
Такое отождествление оказывается благоприятным для Фердинанда как будущего зятя Просперо, способствует усилению неаполитанской короны благодаря счастливой коронации Миранды, дочери Просперо (как и было задумано им с самого начала), ведет к примирение Алонзо и Просперо, а также – к возвращению Просперо в его герцогство.
…Таким образом, брат Просперо – это Антонио-Алонзо-Себастьян, а не просто Антонио, то есть трехчастный комплекс, одно звено которого – личность довольно мелкая (Себастьян), другое – лицо беспредельно злобное и готовое применить оружие (Антонио), а третье – при всей своей несомненной жестокости способное к раскаянью (Алонзо). Все три компонента необходимы Шекспиру для задуманной им хореографии. Если посмотреть на героев под этим углом зрения, становится ясно, что разные штрихи и детали, обогащающие повествование (вроде вскользь упомянутого храброго сына Антонио), необходимы для достижения общей гармонии пьесы и благополучного решения «трагического уравнения»…
«Буря» и Дидона
<…> В памяти елизаветинцев Дидона жила постоянно, все помнили ее трагическую историю, как она изложена в первых четырех книгах «Энеиды» Вергилия, служившей одним из краеугольных камней культуры Возрождения, а значит, и елизаветинского театра, и творческой фантазии Шекспира. Под особо сильным впечатлением он, надо думать, был от первой части «Энеиды», которая как бы стала реестром образов и сюжетных ходов его пьес. На оркестровку его «трагического уравнения» поэма повлияла далеко не косвенным образом. Так, в «Буре» много откровенных аллюзий на «Энеиду», которая, как и последняя шекспировская пьеса, начинается штормом, выбросившим героя на берег таинственного острова. Спасаясь от бури, он попадает туда, где Дидона создает свое новое государство.
Забравшийся вглубь острова Эней встречает Диану – целомудренную богиню-охотницу, которая выдает себя за одну из служанок Дидоны… Как и Лукреция в шекспировском трагическом мифе, Диана – одно из воплощений Великой Богини, другая ее ипостась – богиня любви Венера. Таким образом, Венера предстает перед собственным сыном в одном из своих обличий: как безусловная, абсолютная, первобытная любовь, но – любовь целомудренная.
<…> Дидона была дочерью короля Тира. Брат Дидоны погубил ее богатого супруга, который приходился ей и ее брату дядей. Здесь нельзя не увидеть сходства с судьбами многих шекспировских героинь: например, матери Гамлета (так, вергилиевский призрак мужа Дидоны, который возвращается, чтобы поведать правду, скорее всего, является прототипом Тени отца Гамлета)…
Позже Дидона переселилась в Ливию… Согласно «шекспировскому уравнению», она очутилась в безлюдной, дикой местности… И убедила короля Иорбаса дать ей столько земли, сколько сможет покрыть воловья шкура. Затем разрезала шкуру на полосы, связала необыкновенно длинную кожаную веревку и, растянув ее поперек мыса, получила остров чуть ли не целиком. Там она и построила новый город, куда попал Эней.
Из рассказа Энея о Трое и его плавании понятно, что это путешествие – нечто вроде сокращенной «Одиссеи». Выслушав этот рассказ, Дидона влюбляется в него, как Дездемона – в Отелло, повествующего о своих доблестных подвигах. Но, следуя зову судьбы, Эней оставляет Дидону. Тогда, выкрикивая страшные проклятья вслед уплывающим кораблям, она бросается в погребальный костер.
Главное в этой истории – ее фатальная страсть, представленная как победа Венеры над Юноной, а ее смерть – как ритуал, совершаемый в честь Юноны и Персефоны…
История Дидоны весьма созвучна шекспировскому «трагическому уравнению». Это самый великий и самый известный классический пример преступления против женского божества. Сам Эней – чистое воплощение Адониса: он сын Венеры, жертвенный бог, предшественник Христа и основатель Рима. <…> Шекспир на протяжении многих лет возвращается к этому сюжету. Впервые он использует его в 1592 году – когда Адонис отвергает Венеру, и несколько позже, в 1600 году, – когда Бертрам отказывается от Елены [103]103
Бертрам и Елена – герои пьесы «Конец – делу венец».
[Закрыть].
«Блестящая пьеса», настолько восхитившая Гамлета, <…> что он просит актера прочесть из нее монолог, – это как раз трагедия «Дидона и Эней».
Не вызывает сомнений, что Шекспир вставлял в свои пьесы реплики, подобные вышеприведенной, когда находил нужным, что вовсе не означает, будто у него были неопубликованные пьесы, которые он выбросил за негодностью. <…> Зато это показывает, как много значила для него драма Дидоны и Энея, с которой он начал свою трагическую серию, а также свидетельствует о том, что за кулисами его фантазии роились и рвались на сцену (даже во вред той или иной конкретной пьесе) рожденные Вергилием сходные сюжеты.
«Буря» как партитура полного собрания пьес
«Буря» подобна музыкальному инструменту, на котором можно исполнить симфонию всех шекспировских драм. Раскатные волны органного эха проникают в последнюю пьесу, как только Просперо, Калибан, Антонио, Фердинанд и Миранда слегка касаются клавиш-слов.
<…> Когда Миранда приветствует придворных словами «О, дивный новый мир», отец ее бросает в сторону: «Он новый для тебя», ибо распознает старое, облаченное в новые одежды. Так, у имен Алонзо, Антонио и Себастьян имеется богатая «этимология». Образ Антонио, к примеру, восходит к фигуре Клавдия, который умертвил короля Гамлета, к Макбету, который убил Дункана и Банко, к Эдмунду, который сместил Эдварда, к восставшему Оливеру и графу Фредерику [104]104
Оливер, граф Фредерик – герои комедии «Как вам это понравится».
[Закрыть]. А поскольку именно Антонио внушает Себастьяну мысль об убийстве, он становится продолжателем линии Яго и линии леди Макбет, и каждое его движение, каждое слово, равно как и отсутствие таковых, отзываются в пьесе эхом соответствующих сюжетов.
Просперо тоже выходит за рамки своего образа, если учесть его предыдущие воплощения. Это первый герой, оставшийся в живых после встречи с Вепрем: Адонис, у которого есть иммунитет к безумию Тарквиния. <…> Но хотя Просперо выживает и вершит шекспировскую теофанию (священный брак Миранды с новым Адонисом/Фердинандом), он не кажется прозревшим и очищенным: он не переживает ни возрождения Постума [105]105
Леонат Постум – герой пьесы «Цимбелин».
[Закрыть], ни просветления Лира. Кажется, что за свое спасение он не заплатил ни единой капли крови и так ничему и не научился. Любовь Лира к дочери поражает своей святостью, но любовь Просперо к Миранде более походит на отношение собственника к своему имуществу.
Мы с трудом следим за ходом пьесы до тех пор, пока нас не осеняет мысль, что перед нами – вторая половина сюжета, берущего свое начало в прошлом: в поэме «Венера и Адонис». <…> Там, в прошлом, Просперо и живет на самом деле. Это прошлое – трагическое воображение Шекспира, населенное персонажами его предшествующих пьес. Просперо воплощает рациональное начало – победу над первой частью «шекспировского уравнения». И вопрос о том, заплатил ли он за свое спасение, имеет вполне определенный ответ: заплатил – еще в поэме «Венера и Адонис».
Такой подход дает нам несколько иное понимание Просперо: раздражительность ревматика, бдительность и суровость – все это своеобразная оптическая иллюзия, обманчивый ракурс сценического действия: кожа волшебника загрубела от шрамов. Он единственный из пятнадцати [106]106
Ранее Хьюз говорит о тринадцати предшественниках. (Прим. ред.)
[Закрыть]героев, спасшийся от Вепря, но смерть каждого из них была его собственной смертью. Просперо был раненым молодым охотником, глядящим на опечаленную Богиню, был путешественником Бертрамом, был пристыженным, наказанным судьей Анджело, как и отчаявшимся и озлобленным идеалистом Троилом; он был принцем Гамлетом, ошеломленным собственной участью, был обманутым Отелло, был Макбетом, ужасавшимся самого себя, был сломленным и переродившимся Лиром, был Тимоном, которому не удалось «подражание Христу » [107]107
Аллюзия на известный религиозный трактат немецкого католического монаха Фомы Кемпийского (ок. 1379–1471) «О подражании Христу» (ок. 1427).
[Закрыть] .И за всеми этими образами стоит Просперо-Эней, уплывающий из Карфагена, Шекспир, уезжающий из Стратфорда вместе с труппой актеров, Одиссей, переживший шторм и после двадцатилетнего отсутствия вернувшийся домой, а теперь рассказывающий свою историю.
Просперо разбирает «трагическое уравнение»
Теперь Просперо с большой осмотрительностью и одновременно с неослабевающей настойчивостью возвращается к самому началу пути – еще один шаг, и он в последний раз выйдет на освещенную сцену. Он вновь позволяет себе-молодому (Адонису/Фердинанду) повстречать Богиню – как и в первой поэме. И начинает так же, как когда-то: досаждая Венере, отчего похотливая Темная Богиня (в данном случае Сикоракса) выпадает из действия.
Обычно так выглядит завязка трагедии. Как и в предыдущих просперовских существованиях (в более ранних пьесах), верх берет безумие Тарквиния – разражается буря. Но теперь благодаря своей возросшей магической силе Просперо способен предотвратить ее трагические последствия. Безумие Тарквиния – результат «двойного ви́дения» – наталкивается на непреодолимый барьер: Просперо навсегда останавливает весь демонически драматический механизм «трагического уравнения».
Таким образом, «Буря» – это не просто выявление скрытой трагедии. Это и ответ на нее – причем ответ отрицательный. Шторм – сюжетный ход, который требуется, когда прибегающий к магии Адонис останавливает механизм «трагического уравнения» и направляет его энергию в пульсирующую Полноту бытия.
Уравнение силится воплотиться, оно дергает лапками, как насекомое, но Просперо насаживает его на булавку и прикрепляет к стене. Попытка Калибана захватить Просперо и завладеть Мирандой, попытка Антонио, родного брата Просперо, натравить Себастьяна на Алонзо изначально обречены на провал: все эти узурпаторы способны передвигаться лишь с соизволения Ариэля.
Несмотря на всю свою бесхитростность, сюжет «Бури» обладает великой силой. Это даже не сюжет, а его разбор, демонтаж: мифологическую динамику трагической последовательности разнимают на части. При помощи магии Просперо предотвращает следующие события:
убийство брата-соперника – Антонио и Алонзо, высадившись на берег, оказываются совершенно беспомощны;
подавление «двойного ви́дения»: по сюжету Сикоракса мертва уже двенадцать лет и находится под землей волшебного острова; Миранда заключена в башню просперовской магии (она и любима, и отвержена – два воплощения Богини с самого начала отделены одно от другого).
нападение Вепря: победив Вепря, лишив его способности причинять вред своему сознанию и чести Миранды, Просперо обращает Вепря-Калибана в рабство. <…>
Теперь, благословляя Фердинанда и Миранду, Просперо вполне уверен в том, что «двойное ви́дение» больше никогда не даст о себе знать, – Тарквиний не проснется в Фердинанде, Вепрь не загонит их в ад «трагического уравнения».
Успешен ли замысел Просперо, окончателен ли демонтаж трагического уравнения? Это измеряется лишь могуществом магии Просперо, ее силой. Видимо – и Шекспир дает нам это понять, – сила этой магии не безгранична.
Ранние теофании – «Перикл», «Цимбелин», «Зимняя сказка» – заканчивались гарантированным с самого начала божественным воссоединением влюбленных. Ни диссонирующие звуки, ни фальшивые аккорды не омрачали финальный хор и коду. Не таков финал «Бури» – это финал диссонирующий. Ее концовка подобна трагической завязке: здесь божественная любовь сталкивается с неизбежностью трагедии. Просперо обезоружил и Калибана, и Антонио, но – лишь временно. В словах Калибана о том, что он «будет мудрее и еще поищет удачи» выражается необузданность его натуры, неотступно требующей плотской любви, ничего не ведающей, кроме собственного убогого опыта, и в адской своей темноте отчасти воплощающей отвергнутую Темную Богиню, которую ему во что бы то ни стало нужно вернуть к жизни.
В то же время прощение Просперо, дарованное брату Антонио, «whom to call brother would even infect my mouth» – «чтоб уст не осквернять, / Тебя назвать я братом не хочу», звучит как проклятие; Просперо понимает, что в его узурпаторе-брате еще не остыла зависть Яго – глядящая холодными рыбьими глазами злоба, в которой угадывается первобытная мощь Калибана. Таким образом, в пьесе остаются два «агента» Темной Богини, с которыми главный герой продолжает скрыто враждовать и в финале пьесы.
К тому же магическая сила, которая их сдерживала – божественный дух Ариэль – вскоре собирается исчезнуть. Все достижения Просперо, как мы видим, сомнительны. По возвращении в Милан Фердинанд и Миранда, как и остальные, наверняка больше не будут защищены ни от козней недоброжелателей, ни от внутренних раздоров.
Питер Гринуэй
Интервью. Фрагменты одноименной книги
© Перевод С. Силакова
Вступление
Фильмы Питера Гринуэя, несомненно, идут против течения, преобладающего в современном кино. Гринуэй работает так с самого начала. Он глубоко презирает «психодраму» – стандартную эстетику того кинематографа, который он именует «голливудским». Свою позицию он разъясняет так: голливудское кино рассказывает истории, то есть переводит характерное для литературы линейное повествование на язык другого искусства, где, по идее, главное – визуальность. Но вместо того чтобы совершенствовать «картинку» и зрительную композицию, которую дала нам долгая история живописи, голливудские режиссеры увлекаются последовательностью событий: «и тут вдруг… а потом вдруг… а потом р-раз…» Голливудские режиссеры – мастаки нагнетать напряжение, использовать все: реквизит, натуру, человеческое тело, лишь бы подогреть желание узнать: «А что случится дальше?» Изображение для них – лишь эфемерный фон демонстрируемых событий, а зрительный ряд – слуга сюжетной линии. Гринуэй, напротив, говорит: «Хотите узнать, что случилось с героями? Читайте книжку». Он утверждает: когда нужно использовать возможности кино как визуального искусства, большинство кинорежиссеров беспомощны, точно слепые котята. Они почти не пользуются визуальными возможностями кино, и фильмы у них получаются неинтересные, даже скучные. Для Гринуэя же (как он сам многократно заявлял в интервью) основная задача – привнести в кинематограф эстетику живописи и ослабить роль сюжета. Гринуэй сознает: фильмы, где главенствует эстетика живописи, не вызывают сильных эмоций, а значит, никогда не завоюют широкого зрителя, не добьются грандиозного – во всяком случае по голливудским меркам – кассового успеха. Но все же картины Гринуэя достаточно успешны с финансовой точки зрения, чтобы он мог снимать в своей любимой манере. По-видимому, приверженность подобной эстетике, говорит он, «дает мне шанс углубленно изучить то, что недоступно моим весьма скромным способностям к живописи. „Я глубоко убежден, что кинематограф нуждается в бесцеремонной внутривенной инъекции“».
Впрочем, в данном случае инъекция делается не бесцеремонно, а чрезвычайно аккуратно: используются разнообразные сверхсовременные устройства «Хай-Вижен» (фирменное название телевизионного оборудования Эн-эйч-кей, которое прославилось особым форматом кадров (кинематографическим, а не стандартным телевизионным) и высокой, в несколько крат лучше обычной, четкостью изображения). <…>
Гринуэй сверхъестественно точен: он на любом этапе работы может объяснить, что именно хочет увидеть на экране – полное ощущение, будто фильм уже существует в его голове и остается лишь выманить кадры вовне, щелкая тумблерами и нажимая на кнопки. Съемочной группе он говорит: «Я хочу, чтобы на протяжении пятнадцати кадров изображение становилось ярче, потом пять секунд оставалось одинаковым и еще пятнадцать кадров блекло. Начинайте прибавлять яркость, едва исчезнет лицо».
Фильм «Книги Просперо» – по сути, нескончаемая череда переводов.
Первая стадия перевода – гринуэевская «интерпретация» «Бури». Одна-единственная реплика Просперо (он, «зная о моем пристрастьи к книгам,/ Снабдил меня любимыми томами, / Что мне дороже царства» [108]108
«Буря». Перевод М. Кузмина. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.).
[Закрыть]) становится метафорой всего происходящего в фильме. Гринуэй предполагает, что в библиотеке Просперо было примерно две дюжины книг, и «сочиняет» эти книги сам – одну за другой. Двадцать четыре книги (подобно двенадцати рисункам в «Контракте рисовальщика», последовательности чисел в «Отсчете утопленников» или особым цветовым сочетаниям в картине «Повар, вор, его жена и ее любовник») служат Гринуэю чем-то наподобие координатной сетки или арматуры.
«По распространенному мнению, распространенному среди критиков, которые ненавидят мое творчество, я невероятный педант, – говорит Гринуэй. – Но я не согласен. Мне кажется, что мое сознание открыто для интуитивных озарений, говорю это со всей искренностью. И вдобавок, – добавляет он, – на сей раз я впервые в жизни воспользовался, так сказать, чужим сценарием».
Вторая стадия перевода – чисто техническая: с кинопленки на видеокассету и обратно на кинопленку. Фильм «Книги Просперо» был снят на 35-миллиметровой пленке маститым оператором Сашей Верни, в чьем послужном списке такая киноклассика, как «Дневная красавица» и «Прошлым летом в Мариенбаде», а также несколько предыдущих картин Гринуэя, а затем переведен в формат широкоэкранного видео с высоким – 1125 строк – разрешением. В видеоформате были добавлены многослойные наложения изображений, спецэффекты и оптические эффекты, а затем полученный результат вновь пересняли на кинопленку, чтобы объединить с целлулоидным оригиналом. <…>
А третья, и главная, стадия перевода – акт превращения Просперо в Шекспира, а Гилгуда в Просперо (причем над всеми этими превращениями, пожалуй, незримо витает Гринуэй).
Гринуэй разъясняет: «Последние лет десять шекспировская „Буря“ чертовски популярна». Он немного рассказывает о «Буре» Пола Мазурски, о «Буре» Дерека Джармена, а также о «Запретной планете», прелестном, засмотренном до дыр образчике научной фантастики 50-х годов, где Уолтер Пиджон играет доктора Морбиуса – Просперо с планеты Альтаир-IV, а Ариэлем при докторе служит робот Робби.
«„Буря“, – продолжает Гринуэй, – относится к разряду произведений, которые мне особенно интересны. Они, так сказать, видят себя насквозь, честно извещают: „Я – обманка“. Как бы мне хотелось, чтобы зритель, который сидит в зале и смотрит мой фильм, понимал: никакой это не „срез реальности“, не „окно в мир“. Я больше всего хочу заставить зрителей осознать заново: кино – не окно в мир». <…>
«Есть один замысел, – говорит он немного погодя, – который мне очень хотелось бы осуществить. Называется „Твари Просперо“. О том, что было до начала пьесы. Этакая прелюдия к „Буре“. А еще я написал пьесу „Миранда“ – о том, что происходит на борту корабля потом, когда герои возвращаются на родину; о том, что происходит с невинностью, и о том, что от невинности надо избавляться».
Вернон и Маргерит Грас







