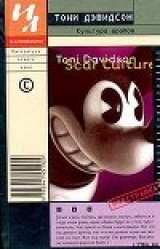
Текст книги "Культура шрамов"
Автор книги: Тони Дэвидсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
«Все в порядке, все хорошо. Дичок знает, где он, он только не знает, кто я такой. Все идет как задумано».
Неужели?Я поглядел на нее. Я ведь не просил ее ничего говорить. Откуда же тогда взялся этот вопрос?
Я чувствовал усталость и волнение.
Затем, как будто мало было шума вокруг, до меня донесся какой-то стук из коридора, и, хотя мне совсем не хотелось сейчас выходить из зала, я понял, что, видимо, придется. Стучать мог кто угодно, но втайне я дразнил себя догадкой, что, быть может, это Бет пришла помочь мне в свой выходной. Несколько дней ты мне не понадобишься, так почему бы не поехать куда-нибудь отдохнуть, ты ведь заслужила, сама знаешь…Или, хуже того, это психо-лохи-начальники из Душилища решили нанести мне импровизированный визит, как они вечно грозились. Мы к тебе как-нибудь зайдем, Сэд, поглядим, что ты там вытворяешь на наши деньги.Удачно выбрали время. То, что для них там в Душилище было, наверное, очередным тягучим послеобеденным часом, для меня являлось кульминацией нескольких недель труда. Придется угостить их кофе, разъяснить, на какой деликатной стадии находится сейчас исследование, а через полчаса выставить вон. Даже полчаса – это много. Но деваться некуда, хоть все это и некстати.
Разумеется, все вышло не так, как я думал. В приемной, на другом конце коридора, Клинок, Синт, Собачник и Лакомка барабанили в дверь, воюя с дверной ручкой.
– Сэд, когда вы нас отсюда выпустите?
– Когда мы получим обещанную награду?
Я различил голоса Клинка и Синт и немедленно подумал о том, как глупо было дарить Клинку нож. Его голос звучал громче, зато Синт достигала самой высокой ноты. Впрочем, трудно поверить, но больше всего меня испугал не звук этих двух голосов, а мощный напор четырех пар кулаков на дверь. Пусть даже Собачник с Лакомкой были чересчур робки, чтобы действовать самостоятельно, их могли легко подстрекнуть те двое. И не время сейчас звать на подмогу санитаров или кого-нибудь из больничных властей. Начнут задавать вопросы, делать наблюдения, а мне в данный момент это было куда как некстати.
– Угомонитесь, я приду к вам, как только освобожусь.
* * *
Сэд, берись-ка за телефон и набирай мой номер. Плохи дела. В хижине почти ничего больше не осталось. Томный все вытащил наружу, причем не только мебель, – он вытащил в прямом смысле все. Минуту назад он выбросил последний предмет – один только бог ведает, как ему это удалось. Он оторвал ножки от обеих кроватей, выкинул их в окно, а потом выволок и матрас. А знаешь, что он делает сейчас, знаешь, что он делает сейчас, Сэд? Он выдирает трубы от раковин на кухне и в ванной и вышвыривает их за порог домика. Здесь больше нет ванны, Сэд, поверишь ли, он отодрал даже гребаную ванну. Остался только унитаз, да и ему, видно, недолго еще стоять. Что нашло на этого мальчишку? Ведь ни в его досье, ни в беседах с его родителями ни слова не говорилось о склонности мальчика к разрушению. Подразумевалось, что этот парень смирен, как олень, ослепленный фарами. Ну, понимаешь, о чем я? Казалось, он никак не отреагирует, даже если ткнешь его электрическим прутом. А теперь ты только на него погляди. Хотел бы я, чтобы ты на него посмотрел, чтобы хоть кто-нибудь, черт подери, на него посмотрел. Он уже не тот мальчик, каким был прежде, а может, каким мне только представлялся. Теперь у меня на руках – настоящий, форменный псих, а я даже от гребаного стола оторваться не в силах. Знаю, знаю, знаю, что ты собираешься сказать, и может, потому-то ты и не отвечаешь, предоставляешь мне вариться в собственном соку, и все такое. Не надо было давать ему кислоту, Питерсон, ты сам во всем виноват, сам кашу заварил – сам теперь и расхлебывай. Я-то думал, мы с тобой ближе по духу, ведь люди, стоящие на грани революционных открытий, вроде как должны поддерживать друг друга. Не всегда дела идут гладко, тебе ли этого не знать. А может, это и впрямь кислота так действует, может, на самом деле он сидит себе тихонько перед очагом и читает книжку, а мне все это только мерещится, но нет, вряд ли. Не настолько я обдолбался, я-то знаю. Ладно, значит, кислота хорошо на него подействовала, только он не поет, не разговаривает, не кричит и не бранится. Он сосредоточенно крушит чужую собственность, и мне придется черт знает сколько за это платить. Позвони мне.
* * *
Я понесся обратно в зал и подбежал к дальнему концу, где вокруг крючка была накручена веревка для штор, подвешенных Собачником и Синт. Я отпустил веревку, и услышал наверху автомобильный шум, редкие фортепьянные аккорды, звуки шторы, окружающей машину, торопливый шелест разворачиваемой материи, и галогеновые лампы осветили цветочный узор, выхватили силуэт модели автомобиля, качающейся туда-сюда, костлявую фигуру Дичка, копошащегося среди проводов и разноцветных гирлянд на мэсленом полу.
Кертис… Кертис…
Джози – хотя я не воображал, не звал – дергала меня за рубашку. За последние несколько минут она прибавила в росте и годах и лишилась волос. Ей было шестнадцать, она собиралась уйти из дома, пуститься в долгое странствие – прочь от той Джози, которую я знал и с которой вместе рос. Теперь она доходила мне до плеч, ее бритая голова почти утыкалась мне в подбородок, длинные сережки болтались из стороны в сторону: она неодобрительно качала головой.
Тебе пора вмешаться. Какая же это терапия?
«Заткнись на хрен. Я что – просил тебя это говорить?»
Она состроила гримасу, помолодела и снова скатилась в десятилетнее состояние, как раз к концу стадии кудряшек и началу стадии светло-зеленого платьица, когда юный жирок исчез и остались почти одни только кожа да кости. Она принялась хныкать, и, несмотря на все, что творилось вокруг меня (ревела машина, проносясь по Дичковой части зала, его голос делался все более зычным, сухой лед щекотал мне гортань, беспокойные пациенты Душилища буянили в другой комнате), я решил уделить ей время, губами осушить слезы, стекавшие у нее по щекам, погладить ее по волосам. Для Джози я всегда находил время – неважно, какая была стадия или какая ночь, я всегда находил время для моей сестренки.
Но, едва только я наклонился, собираясь коснуться ее, она стремительно выросла, снова смешав все возрастные ориентиры, и оттолкнула меня к шторе.
Не прикасайся ко мне, не испытывай меня, не используй меня! – прокричала она и убежала в другой конец зала.
Щелчок шевелился. Отвлекшись на Джози, я и не заметил, как он пришел в движение. Он неожиданно принялся убирать все, что раньше вывесил. Я помчался к магнитофону, чтобы вынуть фортепьянную музыку, и, дабы почтить неомузыкантов из Эколь дю Терапи, поставил Ино [21]21
Ино Брайен (р. 1948) – английский композитор, рок-музыкант, родоначальник стиля «эмбиент» – «музыки окружающей среды».
[Закрыть]– образную запись с экзотическими звуками джунглей, длинными аккордами, приправленными звериными голосами, шелестом листвы и тому подобным. Фотографии и бумажные листы, которые он так старательно и яростно исписывал в течение нескольких последних дней, теперь срывались с веревок с прищепками, раздирались пополам, затем – на четвертинки, на восьмушки, и обрывки взлетали вверх, будто конфетти, переливаясь в красно-сине-зеленом освещении лампочек. Это не годится. Совсем никуда не годится. Щелчок явно реагирует на новое окружение, а порой реакция бывает такая, что только берегись. Оставьте кого-нибудь в поле, среди стада баранов: не всегда люди становятся пастухами, иногда они ведут себя как мясники; овцемания, ягнята на бойне… Первоначальное взаимодействие со средой, воссозданной при средотерапии, может быть самым рискованным; Щелчок же так много времени потратил на проявку и печатание фотографий, на записки, что было больно смотреть, как он планомерно уничтожает плоды собственного труда (и вещественное доказательство моего). Пока он глядел на свое прошлое в обрывках погубленных снимков и записей, я видел, как летает посреди звуков леса мое будущее, обезглавленные Выход и Паника мелькают среди разорванных снимков фургона и падают вместе с обрывками записей: Никогда не трогай мою голову… Я снова и снова слышал голос матери… Ты вышел из меня, помни это, и мои глаза видели все, что в тебе можно увидеть…
Двенадцатое правило психотерапии гласит: никогда не вступай с пациентом в отношения на личном уровне.
Тринадцатое правило психотерапии гласит: когда тебе нужно вмешаться – вмешивайся.
До меня донесся откуда-то треск древесины и бодрые восклицания нескольких голосов. Я видел, как Джози, по-прежнему бритоголовая, бросает в мою сторону злобные взгляды и продолжает пятиться от меня, прислонившись спиной к стене. Дичок стоял возле занавесок, свисавших вокруг проволочной модели автомобиля. При виде его силуэта я почувствовал дрожь, от его голоса у меня поползли мурашки по коже, он же продолжал звать пропавшего брата и яростно тер себе голову, которая хаотично тыкалась в занавеску. Почему ты мне не отвечаешь… что я тебе такого сделал?…
Через несколько минут все до единой фотографии будут уничтожены – я лишусь какой бы то ни было зацепки. Негативы останутся, но посреди такого тарарама, творившегося в зале, я не мог быть уверенным, что их не постигнет та же участь, а в таком случае я окажусь у разбитого корыта: никто не поверит, что я добился какого-то успеха с Щелчком – очередным немым, обреченным на бессловесное существование. Давай посмотрим, Сэд, значит. Щелчок провел у тебя три недели, и ты утверждаешь, что за это время он не только сам научился проявлять и печатать фотографии, которые иллюстрируют его семейную жизнь, но еще и снабдил их письменными пояснениями? И все это – после стольких лет, проведенных в различных учреждениях, где он только глазел в пустоту, не произнося ни слова. Ну, так расскажи нам, как ты добился этих чудесных перемен? Можно поглядеть на результаты твоего труда?
Все, что они увидят, если заявятся сейчас в корпус, – это то, что и я сейчас вижу: долговязое тело Щелчка в уродливых корчах.
Я отошел от нейтральной зоны, от безопасности контрольного круга. Если вы покидаете нейтральное пространство, имея дело с непредсказуемым пациентом, будьте готовы ко всему.
Сквозь редеющий дым от сухого льда Щелчок сразу же заметил меня и отреагировал, как испуганный хищник. Он выпустил из рук снимок, на котором Паника купается в горном озере, и начал кружить вокруг, не сводя с меня взгляда своих глубоко посаженных глаз. Я вспомнил студенческие годы, учебную брошюрку под заглавием «Как вести себя с беспокойными пациентами» и застыл в неподвижности, не выдавая своих мыслей или намерений ни языком тела, ни взглядом прямо в глаза.
Четырнадцатое правило психотерапии гласит: в опасной ситуации кто-то должен сохранять спокойствие.
Я не только видел, но и ощущал его запах – резкую вонь дерьма с потом, и, странным образом, только теперь припомнил, какой допустил промах, готовясь к приему пациента. Когда Бет указала мне на то, что я не позаботился об удобствах, я ответил: Они здесь ради того, чтобы получить помощь, Бет, а не ради купаний.… Было слышно только воркованье дикого голубя где-то наверху, а неистовые движения Щелчка тонули в странной тишине – его шаги оставались совершенно бесшумными. Клинок отлично поработал, и какая-то ирония крылась в том, что пациент, которого я едва знал, так хорошо откликнулся на чуждое для него окружение. А вот Щелчок совсем никак не реагировал на знакомую ему среду. Средотерапия допускает возможность того, что пациент отвергнет созданное для него окружение и примется искать альтернативу. Типичный психотреп: любая принятая близко к сердцу теория, любая непробиваемая догма обязательно оставит себе такую извинительную лазейку – исключение всегда подрывает правила, помни об этом, Сэд. Профессиональная близорукость – это еще и профессиональный риск.Бумаги же, касавшиеся Щелчка и Дичка, не дошли даже до приложения или необходимого пункта об отказе от претензий.
Щелчок был вылитый отец. Глядя, как он расхаживает вокруг меня, наблюдая его упругие круговые движения, я видел сразу десятки фотографий его отца – в деревянной халупе, на пустыре, возле моря, в озере: сухопарая, изможденная фигура, длинные черные волосы, руки и ноги, как будто ведущие собственную дерганую жизнь. Еще были фотографии Паники за рулем, являвшие его бурную ярость, готовность поубивать всех, даже не задумавшись о собственной безопасности. Во многих портретах отца, снятых крупным планом, присутствовал этот бесшабашный, отстраненный взгляд, так что теперь, когда Щелчок приближался, я с тревогой – и это мягко сказано – наблюдал, как тот же взгляд мелькает в глазах сына.
Его дыхание было несвежим, зловонным, раздвинутые тонкие губы складывались в какую-то непонятную гримасу, за ними я заметил несколько гнилых зубов: ну конечно, немому, проведшему добрую часть жизни в заведениях, достается не самая лучшая зубоврачебная помощь. Он дышал на меня, ходил мимо меня, а я краешком глаза следил за Джози в дальней части зала. Ей снова было десять лет – платье в цветочек, голова в кудряшках, – и я утратил всякое чувство текущего момента; ощущая в себе теплые чувства, я попытался заставить ее что-нибудь сказать. Мы стояли на мокрой автобусной остановке, нам не было и десяти лет, мы дрожали и жались друг к другу, машины обдавали нас брызгами, а мы все ждали и ждали автобуса, чтобы уехать домой. Она положила свою ногу на мою, я сделал то же самое; она обвила меня одной рукой за талию, а другую прижала к моей груди, и так мы слились в крепком, как замок, объятии. Нам оставалось только смеяться, когда автобус пришел и ушел, а мы, безуспешно пытаясь расцепиться, шлепнулись в лужу… Джози никак не откликалась. Может, она просто не слышала меня из-за шума леса, из-за гула машины на другой половине зала, а может, не видела меня из-за сухого льда. Это так походило на игру, в которую мы играли всю жизнь: в кошки-мышки, в доктора и больного, в добро и зло…
Но, разумеется, я отвлекался, а мне следовало быть начеку, мне нельзя было забывать, где я нахожусь и что делаю. В средотерапии врач, как и пациент, должен быть готов к тому, чтобы погрузиться в созданное окружение. Если же этого не произойдет, то вся терапия обесценится, а обесцененная средотерапия не рекомендуется.
Пятнадцатое правило психотерапии гласит: не позволяй себе отвлекаться.
Вспомни чудовищное происшествие с Хутоном, Сэд. С тем известным психологом-консультантом Душилища, который на короткое время заменял коллегу. Он разговаривал с одним очень беспокойным пациентом о том, что ему необходимо понять его поведенческие колебания, и на миг загляделся через окно на кустарники, росшие в безупречных садах перед зданием Душилища. У пациента же случилось очередное колебание, как это уже бывало раньше, только на этот раз он увлек своим колебанием увесистую настольную лампу. Консультант так и не оправился после удара. Получив тяжелую травму головы, он навсегда утратил связную речь и долговременную память.
Пока я взаимодействую с Джози, Щелчок отрывает несколько метров проволоки от задней части фургона, хватает меня за руки и быстро обматывает мои запястья проводами.
* * *
Слушай, Сэд, я наконец набрел на кое-какие догадки, пришел к некоторым конкретным выводам или хотя бы возможным объяснениям того, почему Томный с энного года отказался разговаривать. Его всю жизнь окружали разные хитрые материальные предметы, и он дошел до переломного момента, момента, когда все эти ловушки и ухищрения телесного бытия сделались для него просто нестерпимыми. Или это так, или он поступит в грузчики, когда станет совсем взрослым, или – ну, разумеется, он – прирожденный психопат, которому необходим прием успокоительных и многолетняя восстановительная терапия. Думаю, решать тут не мне. Я уже поднялся из-за стола и, знаешь, вроде как хочу извиниться за последний факс. Я не имел права тебя ни в чем винить – в чем бы я тебя ни винил, я этого уже не помню, а копии отправились туда же, куда и все остальное. Я понимаю, у тебя самого сейчас, наверное, дел по горло.
Теперь все немного улеглось, действие кислоты несколько ослабло, хотя безумные фантастические вспышки по-прежнему продолжаются и все приобрело багряный оттенок (никогда еще горы не были так красивы). Но, разумеется, другая причина в том, что я уже целый час не видел Томного: в горах Делонг все спокойно. Знаю, мне следовало бы волноваться. Если он свалился с утеса, то плакал и мой грант, и мое благополучие: я могу распроститься с карьерой. Но, честно говоря, – и пусть это останется между нами, Сэд, как и вся эта история, – я рад, что мне выпал этот час, чтобы собраться с мыслями, чтобы переварить все случившееся. Я много раз становился свидетелем чужих приходов, только раньше при этом всегда присутствовали какие-нибудь помощники, или имелись сдерживающие факторы, или сам псих был так накачан, что уже не представлял угрозы. А мы тут как были, так и остаемся совсем одни, причем в горах Делонг, где никто не услышит, если станешь кричать. Думаешь, я перепугался? Думаешь, раскаялся? Не знаю, тебе решать. Но это еще не все, я пока не сдаюсь, я просто пережил потрясение, а если ты вершишь революцию, то нужно быть готовым к тому, что порой дорога будет ухабистой. Я собираюсь отправиться на поиски Томного и готовлюсь к схватке. Хватит уже быть добреньким! Ему тоже пора отходить от своей целой таблетки, а в таком состоянии, да еще после всего случившегося, после всех этих упражнений по разносу домика, он, может, и разговорится. Знаешь, мне даже кажется, что я заслужил какое-то объяснение, каким бы способом он ни донес его до меня – словами, рисунком, мимикой, – не важно, но я это заслужил.
Похоже, я начинаю рассуждать как его родители.
* * *
Джози почти совсем повзрослела, ее волосы отросли до той длины, какой они были, когда я видел ее в последний раз. Ей было семнадцать, и она уходила из дома. Не для того, чтобы работать или учиться, – просто уходила. Чтобы вырваться отсюда, вырваться от вас, – как она выразилась. В какой-то момент что-то произошло, но неясно, что и когда именно. Однажды ночью я обнаружил, что она вернула мне все мои тетрадки и книги: они были свалены в кучу на моей кровати, выставлены на всеобщее обозрение. С того дня она перестала со мной разговаривать, у нее нашлись другие, не известные мне дела, она стала видеться с другими людьми. Она неожиданно расцвела, вылупилась в общительную бабочку, обзавелась подругами и друзьями. На двери ее комнаты появился замок, и между ней и остальными домочадцами отныне воздвиглась невидимая стена. Она обрила голову и замкнулась в себе. Ни с кем не разговаривала. Только заявила, что скоро уйдет и больше не вернется. Были какие-то разговоры глубоко за полночь, в которых я никогда не участвовал, в дверь к сестре постоянно стучались: то один, то другой, то оба родителя заходили к ней в спальню; потом слышались крики или слезы.
Такой она была и сейчас – не избегала глядеть мне в глаза, а сцепляла свой взгляд с моим, с таким выражением, какое она иногда принимала во время наших игр в подвале дома.
Я не оказывал сопротивления, когда Щелчок связывал мои запястья проволокой. В средотерапии задействованному специалисту иногда необходимо подвергаться суровым испытаниям, если пациент, привыкнув к воссозданному окружению, вдруг выкажет буйное поведение. Для специалиста это такой момент, когда нужно принимать быстрые и четкие решения, не упуская из виду ни проводящегося лечения пациента, ни собственной личной безопасности.
Щелчок покачал головой из стороны в сторону, и грива черных как смоль волос упала ему на лицо. Джози, стоя у дальней стены, продолжала в упор на меня смотреть. Закрыв глаза и начав представлять ее себе такой, какой она была дома, в ванной, в постели, где угодно, только не в этом зале, я сумел улыбнуться, но на ее губах улыбки не вызвал. Открыв глаза, я обнаружил, что она по-прежнему не сводит с меня глаз; в руках у нее был кусок проволоки, через который она скакала, но не так, как скачут дети, а со сосредоточенностью взрослого, пробующего воду, выжидающего время.
Щелчок разбирал фургон по частям, проволока за проволокой; разноцветные фонарики оказались свалены в кучу на полу – костер из красных, синих и зеленых огоньков. Он действовал осторожно, окна вынимал целиком, дверь – вместе с петлями, и все складывал на пол. Вскоре постройка Клинка и Синт превратилась в собрание двухмерных проволочных скульптур, лежащих на полу. Хотя на некоторых этапах средотерапии роль специалиста по умственным расстройствам может показаться неподобающе ничтожной, поскольку он нарочито ни во что не вмешивается, вполне допустимо, чтобы он (или она) задавал вопросы или делал утверждения, относящиеся к личной истории пациента.
– Понимаете ли вы, где находитесь?
– Понимаете ли, почему вы здесь?
– Понимаете ли вы, что никто не желает вам вреда, что вы – среди друзей, которые хотят вам помочь?
Щелчок не остался равнодушен к вопросам. У него затряслась голова, длинные черные волосы взлетали вверх и падали; движения тела сделались более оживленными. Он не говорил ни слова, но, как уже втолковывал мне Питерсон, общение ведь не сводится к одним только словам. Он гримасничал, морща бледную кожу на выступающих скулах, и все время энергично мотал головой. Без единого стона или хмыка он выворачивал и сдирал проволочную крышу фургона.
– Понимаете ли вы, зачем я сделал для вас эту модель?
– Понимаете ли вы, зачем разбираете ее?
– Вам очень неприятно находиться среди предметов, которые напоминают вам о родителях?
Внезапно Щелчок свалил остатки проволоки на пол и нагнулся, чтобы сгрести в охапку разорванные фотографии, растерзанные страницы текста. Целенаправленно, с той умело сдерживаемой, обуздываемой злостью, которую мне доводилось наблюдать у всякого рода социопатов в разные годы, он приблизился ко мне и осыпал меня клочками. Обрывки его жизни падали на разные части моего тела. Вот полетела ветка дерева, вот рябь на воде, вот вход в туннель, а вот текст – оборванные фразы и слова: но головокамера может лгать… бессильно барахтаясь… по запаху, исходившему от ее дыхания…Я закивал и улыбнулся.
– Я понимаю, почему вы это сделали. Я вижу, на то есть причины. Вы злитесь на себя самого, на свое положение, и вполне естественно, что во мне вы видите врага. Но я не враг вам, Щелчок, честное слово, я вовсе не враг вам.
Я почувствовал, как где-то в горле зарождается смешок. Я слышал собственный голос, слышал свои слова и восхищался тем, как легко вытекает из меня та исполненная самобичевания дребедень, которой я вдоволь наслушался, будучи студентом-психо-лохом; основной профессиональный этос сводился там к тому, что настоящий специалист по умственным расстройствам должен делать все возможное, жертвовать всем ради блага пациента. Ты только средство, Сэд, ты только транспорт на пути пациента к выздоровлению.
По моим ляжкам сыпались обрывки фургонной жизни.
Выход, сидящая в фургоне, глаза занавешены челкой темных волос…
У меня во рту были волосы.… отцовские волосы…
Фотоснимок полости Щелчкова рта.
Но взгляд никуда не устремлен, во всяком случае, мне не видно, куда…
Кусок картинки – море, отлив в отдалении.
Моя головокамера выхватила ее силуэт на фоне солнца.…
Отпиленный кончик Щелчкова возбужденного члена.
Автофургон – ни для кого не пристанище.…
Щелчок схватился за одну из боковых частей фургона и поставил его у меня за спиной. Джози, не спросив моего позволения, достала откуда-то тетрадку с ручкой и принялась писать, время от времени поглядывая на меня.
«Что это ты пишешь, Джози?»
Никакого ответа – сколько бы раз я мысленно ни выкрикивал этот вопрос. Когда она, хлопнув дверью, уходила из родительского дома, то даже не оглянулась. Я подошел к окну, чтобы поймать ее прощальный взгляд. Но его не было. Наши взгляды так и не встретились сквозь залитое каплями дождя оконное стекло, попытки прощального примирения не состоялось. Она ушла, оставив позади себя лед. Оставив лед во мне. Мать заскулила за дверью. Отец стоически налил себе порцию виски из графина. Я заперся у себя в комнате и не выходил несколько дней. А мне-то в ту пору казалось, что у нас самая обычная семья. Я был разочарован.
Дверь зала настежь распахнулась. Послышались гулкие шаги.
Неподходящее время для визита кого-нибудь из больничного контингента. Я уже слышал их голоса, дрожащие от недоверия и подозрительности. Вот это ты и называешь тесным взаимодействием с пациентом? Мы бы сказали, что ты вступил, пожалуй, в чересчур тесный контакт с ним.Я знал: им не понравится то, что они увидят. Может, они и вспомнят кое-какие идеи касательно среды и терапии из отдаленного учебного курса, но для них единственным приемлемым воплощением среды для исцеления умственных расстройств было совсем другое – больничные стены, белее белого, удобные комнатки и уютные гостиные, обставленные стульями в стиле 60-х годов, и разбросанные повсюду пятна коричневого и бежевого. Словом, они приняли бы только то, с чем работают сами. Все остальное покажется им слишком непонятным или слишком радикальным. Разные терапии возникают и исчезают, Сэд, а то, что нужно пациенту, то, что нужно всем нам, – это постоянство идей, некий набор правил и действий, за который всегда можно ухватиться в трудные времена.
Я собрался с духом, приготовился убедительно объяснять, почему утратил (как может показаться) контроль над одним из своих пациентов, тогда как второй, находившийся в другой части зала, явно не справляется с ситуацией как нужно. Но потом я расслышал голоса: это был не гнусавый выговор медиков и не бубнящий гул психо-лохов, а истерические выкрики Синт и угрожающий бас Клинка.
Значит, пациенты Душилища выломали дверь.
* * *
Послушай, Сэд, у меня было видение: мне примерещился газетный заголовок, крупным шрифтом набранный на первой полосе:
Эксперимент с наркотиками в горах терпит чудовищный крах. Обезумевший психотерапевт в галлюцинаторном безумии нападает на юношу-пациента.
Истина же, как это часто случается, намного проще. Я нашел Томного возле груды мебели, которую он вынес из хижины. Столы, стулья, кровати, раковины, тарелки, миски, полотенца – все, что он вытащил из дома, вырвал или выломал, – все это теперь представляло собой огромную свалку на дне оврага возле хижины. В воздухе сильно пахло бензином, и я заметил у него в руке металлическое ведро. Мне не понадобилось много времени, чтобы сообразить, что у Томного на уме, и я понял: мне придется отговаривать его от задуманного, уговаривать, на какой бы стадии он ни находился; взывать к его лучшим сторонам, убеждать, что подобный акт преднамеренного вредительства не сулит ему (или мне) ничего хорошего. Но, понимаешь, в том-то и штука, что я не смог; я не проронил ни слова; у меня в голове созрела целая речь о том, какой вред окажет подобный поступок на его шансы успешной реабилитации, о том, что пойдет насмарку возможность сделаться полноценной личностью и так далее, и так далее, но ничего из этого не вышло. Речь так и осталась у меня в уме, не добравшись до рта, а оттуда – до ушей Томного. Было такое ощущение, будто мне впервые в жизни нечего сказать, а между тем – что меня бесило – я точно знал: сказать есть что. Конечно, это кислота виновата. Под ЛСД я всегда как-то уходил в себя, борясь с виденьями и буйными полетами мысли. Когда-то, в далекие беспечные и яркие деньки, я уходил в себя, а вокруг меня все весело скакали, прыгали с крыш или вдруг находили множество причин возникновения Вселенной. Все – только не я. Я был бревнее бревна.
Но, боже мой, Сэд, дальше дело пошло хуже, дальше произошло нечто такое, от чего у меня чуть сердечный приступ не приключился, ноги сразу сделались ватными, а от будущего остался один нолик. Увидев, что я приближаюсь, он вылил содержимое ведра себе на голову, закрыв глаза, будто стоя под успокаивающим горячим душем. Раскрыв их снова, он только посмотрел на меня и улыбнулся – причем это не было улыбкой психа. Я-то знаю разницу между довольной улыбкой и такой улыбкой, которая ясно говорит: «Сейчас я убью тебя, потому что мне так хочется». Господи, я хорошо знаю эту разницу. Но он, Сэд, он улыбался сладчайшей из сладчайших улыбок. Когда я подошел к нему поближе, он выплеснул на меня остатки содержимого из ведра, а я, должно быть, все еще продолжал двигаться в замедленном темпе, потому что, прежде чем я успел бы вскрикнуть или оттолкнуть его, в руке Томного уже мелькнула зажигалка, и он занес ее над нашими головами. Все, что мне оставалось, – это закрыть глаза. Боже мой, Сэд, теперь я понимаю, что никуда не гожусь в кризисных ситуациях. Я замираю хуже пресловутого оленя, ослепленного фарами. Испуганное животное. Но, знаешь, он чиркнул зажигалкой – и ничего не произошло. Можешь, хрен побери, себе вообразить, как я стою ни жив ни мертв и отчаянно силюсь задрожать, потому что от ужаса чуть в штаны не наделал, – и ничего не происходит. Я уже мысленно превратился в живой факел, в жертву ни за что. Тут он меня отталкивает, направляется к другой стороне свалки, подбирает еще одно ведро и выливает его содержимое на нашу бревенчатую избушку. И, разумеется, когда он чиркает зажигалкой на этот раз, все вспыхивает, и жар от пламени чуть не лишает меня сознания; я гляжу, как над его головой взмывают красно-желтые языки. Мне казалось, что мое сердце пустилось наутек, поддавшись какому-то катастрофичному ритму, а Томный тем временем совершенно хладнокровно обходит костер, возвращается ко мне и начинает сушить одежду у огня, вытягивает руки, причем кажется, что ладони у него раскалены. Мне остается лишь смотреть на него во все глаза, и неожиданно дело «икс-21», или Томный, предстает передо мной в новом свете – в свете скачущих красно-желтых, пламенно-оранжевых огоньков. А потом я впервые замечаю, что от ржавого крана, торчащего из земли возле костра, тянется зеленый шланг. Я нюхаю свою одежду и чувствую только запах собственного пота. Томный подходит ко мне, все с той же неуловимой, тонкогубой усмешкой на юном лице, и говорит: «Хорошая кислота».
Теперь мне стало ясно, что делает Щелчок. Он сооружал вокруг меня нечто, и я подумал, что это может быть только хижина. Он уже набросал большое количество проволоки на то место, где раньше стоял фургон, и использовал несколько панелей, связав их вместе так, что они образовывали три стороны домика. Пока он трудился, я пытался сдвинуться, ускользнуть от его сомнамбулических действий, но он блокировал каждое мое движение. Сначала слева, потом справа, – и здесь, и там он вырастал передо мной, форсируя исход событий. Исход же этот, насколько я понимал, зависел оттого, что мне придется сделать, чтобы вывернуться из создавшегося положения.








