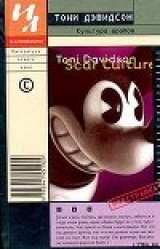
Текст книги "Культура шрамов"
Автор книги: Тони Дэвидсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
После безуспешного вмешательства Кая Во в непрекращавшуюся битву моих родителей за здоровье психики сына они решили завинтить гайки и предприняли более жесткие меры. Они разлучили нас с Джози и велели проводить как можно меньше времени друг с другом; мою сестру они попытались ограничить мирком плакатов с изображениями поп-звезд, а меня записали в целых два молодежных клуба. Да, переполошились они не на шутку.
Обычно, впервые обнаружив в спальне сына, под матрасом, эротические журнальчики или картинки, родители испытывают тайную радость; вслух они распекают и стыдят его, а в глубине души гордятся тем, что их мальчик становится мужчиной; они терпят уколы приятной меланхолии, видя, как их отпрыск переходит от детства к зрелости… Но мои родители были лишь крайне озадачены тем, что обнаружили у меня. Под моим матрасом находились вовсе не «Хастлер» [6]6
«Хастлер» (Hustler) – эротический журнал Ларри Флинта.
[Закрыть]или «Плейбой», а «От детства к отрочеству» К.-И. Сандстрома и «Нормальное детство» Ф.Баркера – научные труды, напичканные фотокопиями из «Введения в биологию» Маккина, рисунками женских и мужских половых органов, схемами и графиками, иллюстрирующими различные возрастные изменения, происходящие у подростков от начала полового созревания до наступления отрочества.
Они были озабочены тем, что я не трачу карманные деньги на конфеты и комиксы, не ухожу шляться с дружками по городской площади, чтобы раздобыть курево и спиртные напитки. Они были озабочены тем, что я запираюсь у себя в комнате в полном одиночестве или, того хуже, с Джози, девочкой в нежном возрасте, и читаю все эти ученые тексты.
Скажи, зачем тебе вообще понадобилось читать такие книги?
Они не понимали того, что я начал приводить в действие некий контрольный план, запустил неудержимо несущийся поезд, который уже никому не остановить. Я впервые испробовал, что такое наука, и остался доволен. В школе я вел наблюдение за десятью соучениками – пятью мальчиками и пятью девочками – и при каждом удобном случае тщательно отслеживал процесс их полового созревания. С мальчиками дело, разумеется, обстояло проще. На уроках физкультуры я украдкой присматривался к внешним изменениям, происходившим с пятерыми избранными мною объектами для наблюдения мужского пола. И за сравнительно короткий период я отметил, что у Джеймса (A1) выросли волосы под мышками, а спустя полгода после начала наблюдений его голос сделался скрипучим и грубым. Между тем Филип (A3) с начала наблюдений совсем мало изменился – он оставался по-прежнему маленьким, гладким, с тонким голоском и почти без признаков растительности на верхней губе. С девочками было сложнее – я же не мог зайти к ним в раздевалку, и накапливать данные приходилось, больше полагаясь на эмпирические догадки, чем на результаты близкого осмотра. Например, во время забегов или игры в волейбол я делал мысленные пометки, глядя на меняющиеся формы девичьих грудей или бедер; иногда же под тугими спортивными трусиками можно было различить очертания их лобковых треугольников. Мои взгляды перехватил один только учитель физкультуры.
Сэд, да ты прямо глаз с девчонок не сводишь.
После каждого сеанса наблюдений (а обычно в любой день хоть что-нибудь да приходилось отмечать) я возвращался домой и заносил результаты в таблицы – почти так, как это описано в книге Сандстрома, – в общие таблицы с указанием среднего возраста созревающих детей, куда вписывались мои собственные скромные примеры. Делал я и сопроводительные пометки – они оказывались бесценными позже, когда я пытался вспомнить точные обстоятельства, в которых проводились те или иные наблюдения. К тому же эти сопроводительные заметки, наряду с таблицами и схемами, помогали мне оценивать собственное продвижение по прямой полового созревания.
Увидев в душевой болтающиеся гениталии Ричарда (A4), я получил возможность сравнить и сопоставить их с собственными – и оценить то, что происходило со мной самим. Среди пятерых девочек, отобранных для наблюдений, у Джейн я замечал меньше всего признаков развития, а она казалась мне наиболее близкой по физическому типу к Джози: такая же маленькая, очень худенькая, со слабым намеком на груди и едва заметным выгибом в прямой линии бедер.
Все это чрезвычайно настораживало моих родителей. Может, они усматривали нечто большее в том, что большинство маститых лохов сочли бы просто очередной фазой развития – пусть немного необычной и, возможно, несколько аномальной в своих проявлениях, но все-таки не совсем уж необъяснимой – учитывая, что я был отпрыском двух медиков-профессионалов (мама работала больничным администратором). Полагаю, их тревожило вовсе не то, что я стану дрочить на какие-то холодные схемы роста лобковых волос или ломки голоса, а то, что подобное увлечение – первый и неотвратимый шаг на пути к карьере психолога (тогда как эта область не заслуживала в их глазах ни малейшего уважения).
Поэтому они не столько запрещали мне мои занятия, сколько гнали меня. Гнали из моей спальни, из спальни Джози, гнали прочь из дома, чтобы я поглядел, что делается на белом свете. Говорили, чтобы я шел в кино, в местное кафе, гулял со школьными товарищами. Хотелось бы мне, Кертис, хоть изредка видеть тебя с ровесниками.Но если бы они были хоть немного разумнее и не замыкались в своем узком мирке загубленных печенок и выездов на дом к больным-ленивцам, то поняли бы, что подобное давление со стороны людей другого поколения должно было возыметь совершенно противоположный эффект. Выходить-то из дома я выходил, но вовсе не с той целью, какую подразумевали родители. Я выходил гулять и вел наблюдение за своими двумя прицельными группами в различном окружении, утешаясь тем, что это прибавляет веса и привносит разнообразие в мое исследование.
Однажды в автобусе по дороге в школу я заметил, что Б1 смущается, когда среди других девчонок заходит разговор о французских поцелуях и любовных укусах. А как-то раз на подростковой вечеринке я увидел, что у А2 (он был в тугих джинсах) возникла эрекция, когда он танцевал с Б2. Одиннадцать сантиметров – отметил я мысленно, чтобы затем старательно занести в тетради, которые после того, как родители обнаружили их существование, были спрятаны не у меня, а в комнате Джози. Там их никогда не стали бы искать.
* * *
Понедельник, вечер.Сегодня пришла еще одна посылка – от Питерсона. Толстый бумажный конверт, но, как ни странно, внутри – никаких видео– или аудиоматериалов. Просто длинное письмо, написанное доверительным тоном. Видимо, Питерсон почувствовал, что, хоть мы ни разу с ним и не встречались лично, наш обоюдный интерес к психосексуальным исследованиям и внутрисемейной сексуальности, наше презрение к шаблонным научным методам и отвращение к шаблонной премудрости, опирающейся на эти шаблонные методы, по-настоящему сблизило нас.
Сдается мне, Сэд, что ты – ПФ. Передо мной мысленно встает такая картинка: мы оба – на психосексуальном веб-сайте, исследуем внутрисемейную сексуальность в Интернете, плывем, словно два серфингиста, по мутным пенистым водам, стараясь избежать падения, уклоняясь от охренительно-высоченной волны, которая грозит подмять нас под себя. Тебе этого и не вообразить, но ты понимаешь, о чем я говорю. Ты и я, Сэд, мы – два сапога пара. Ну, конечно, еще Якоби в Чикаго, может, еще Пети в Париже, – мы и составляем эту группу, которую все терпеть не могут. Здесь меня считают изгоем, мы тут все в институте – изгои хреновы, и, скорее всего, в следующем году нам уж точно никто не выделит денег. Не веришь? Раз мы – хреновы изгои, то зачем им тратить на нас свои хреновы деньги, а? Мы вроде как пираньи, только и ждем, как бы вцепиться зубами в эти кожаные кушетки с их жирными гребаными кошельками. Тут у нас не секретные, а секс-ретные материалы, и никто не хочет в них верить.
Я тут приложил для тебя кое-какие заметки, приятель: так, несколько слов о некоторых шизоидных экземплярах, что в последнее время проходили через наши вращающиеся двери: ведь ни один уважающий себя Психосексуальный институт не стал бы заводить две разные двери, помеченные словами «Вход» и «Выход». А вот вращающиеся двери – это то, что надо. Р.-Д.Лэнг жив-здоров и обитает на Манхэттене. Но вот мне пришла сейчас в голову одна мысль – а что, если нам затеять что-нибудь вместе, приятель, проделать какое-нибудь двойное исследование? Я познакомлю тебя со своим, а ты меня – со своим. Ну, понимаешь, что я имею в виду – какое-нибудь эдакое трансатлантическое исследование, которое разбивает лед, подрывает основы, – и никаких кушеток! Ты пораскинь мозгами. Знаешь, Сэд, ведь психотерапевты – как татуировщики, всем нам доставляет удовольствие попрактиковаться друг на друге, и ты – на очереди. Ладно, не бери в голову.
Заметки Питерсона основаны на ряде бесед с так называемыми патологическими фантазерами (ПФ), которые кочевали с кушетки на кушетку, пока не оказывались в институте. Мыслевидцы– так он называл этих чудаков и чудачек, обладавших невероятно мощными способностями вести воображаемую жизнь, размывая при этом всякие границы фантазии и реальности. Конечно, в руках большинства рядовых психотерапевтов все это оборачивается банальнейшей скукой: заявляется в кабинет к психотерапевту какой-нибудь псевдоизвращенец, чтобы по дешевке пройти сеанс «вправления», и принимается пускать слюни про то, что он мечтает трахнуть сестру своей подружки, а когда занимается сексом, то не может выбросить из головы ее лицо, ее задницу. Все это и гроша медного не стоит – так бы я отозвался на подобную дребедень, однако Питерсон, на то он и Питерсон, взявшись за дело, так мелко не плавал, – уж он-то был опытным ловцом амбулаторных душ. Раскопал самые яркие случаи и все их забрал себе. Вот это ученый так ученый! Люди, с которыми он беседовал, в самом деле воспринимали действительность с чудовищными искажениями, деформировали ее сильнее, чем то способен сделать десятичасовой трип под кислотой, и приплетают к собственной личности такой шлейф уклончивых маневров, что для них грезы наяву делаются явственнее прогулки по парку среди бела дня.
Вот один пример, отвечающий всем параметрам умственных расстройств: однажды некий преуспевающий адвокат вернулся с работы домой в крайне взбудораженном состоянии. С него ручьями лился пот, и, казалось, он и сам не понимал, где находится. Он рассказал жене, которая утром видела, как он идет на работу, что побывал сейчас во Франции, в парижском борделе, и изменил ей не один, а целых четыре раза, с четырьмя разными женщинами. Вид у этого мужчины был совершенно сломленный, и его проницательная жена, сочтя, что ее муж – совсем не распутник и едва ли возможно, что он способен был слетать на несколько часов в Париж только ради четырехкратного перепихона, связалась по горячей линии с психотерапевтом, у которого они с мужем обычно консультировались. Тот направил их к какому-то своему заместителю, мало подходившему для того, чтобы справиться с таким из ряда вон выходящим разобщающим опытом, зато он, по счастью, слышал о Питерсоне из института.
Встретившись с этим человеком, Питерсон не только попросил его отчитаться за «пропущенные» часы (как предусматривается в обычной методике), чтобы и установить, в какой момент адвокат ослабил свой механизм контроля над действительностью, но и уговорил его описать, как именно он провел время в парижском борделе, – а этой темы мало кто из психо-лохов захотел бы касаться, чтобы не пришлось потом кусать себе ногти. Меня привели в просторную комнату и подвесили. Надели наручники мне на запястья, наручники прикрепили к крюку, спускавшемуся с потолка, и оставили меня висеть. Не знаю, долго ли я так провисел, но, видимо, достаточно долго, потому что за это время в комнату вошли четыре женщины – у них были волосы четырех разных цветов, – уселись передо мной за стол и начали есть. Они сидели, переговаривались между собой, ломали длинные багеты, пили вино из высоких хрустальных бокалов и не обращали на меня никакого внимания. А потом почему-то они прекратили есть и стали одна за другой подходить ко мне. Их головы находились но той же высоте, что и мои гениталии, и они по очереди обдавали мою кожу своим горячим дыханием…
Питерсона не очень-то интересовали точные подробности, но тот человек явно предоставил весьма детальный отчет о последовавших за этим действиях – от четырехкратного орального секса до четырехкратного анилингуса, причем каждая из женщин применяла свой особый способ; адвокат же все это время продолжал висеть.
Питерсон постарался заставить этого мужчину вспомнить, когда и как именно ему удалось вновь запустить механизмы контроля над действительностью, – и, насколько можно было понять, это произошло по дороге домой с работы.
К своим заметкам о патологических фантазерах он присовокупил еще множество комментариев по поводу терапии восстановленными воспоминаниями, или, как выражается сам Питерсон в своей манере «профессора-деревенщины», этом универсальном, жрущем много топлива грузовике с прицепом, который катит сам по себе, когда колеса уже набрали скорость.Из предыдущих писем я знал, что Питерсон несколько свысока глядел на всю эту волну с «восстановленными воспоминаниями». Может, это оттого, что я уже подрастерял охоту ко всякой публичной болтовне, но мне кажется, никто не хочет ничего знать о сложностях опыта, о том спектре реакций, который столь различными способами может вызывать в нас память. Сейчас же все, о чем хотят слышать люди, – это полные ужаса откровения какой-нибудь офисной работницы, которая внезапно осознает, что отец потрогал ее за причинное место в ванной, когда ей было шесть лет, и что именно поэтому она не подпускает к себе ни одного мужчину теперь, в тридцать шесть. Ну, или какой-нибудь альпинист-неудачник никак не может преодолеть высоту больше шести тысяч футов, потому что вдруг, раскинув мозгами, соображает, что, когда ему было тринадцать лет, отец нес его у себя на плечах во время праздничной ярмарки… и навредил его чувству высоты, поселив в нем скрытое головокружение! Господи, Сэд, я уж не помню, когда началось это движение и когда оно дало задний ход, но участники всех этих дебатов, этого нескончаемого трепа между сторонниками и противниками «восстановленных воспоминаний», не упуская своей выгоды, упускают суть проблемы. Недоноски, которые месяцами ходят к своему психотерапевту, выкладывая по сколько-то долларов за сеанс, – мелкая рыбешка, аквариумная золотая рыбка в просторах океана, безмозглые идиоты, перепутавшие фундаментализм с терапией. Если воспоминание имеет какую-то ценность, какую-то реальность, какую-то способность надрывать душу, щемить сердце, трахать мозги, – тогда тут нет никакого восстановления. Потому что такие воспоминания и так живут во всем, что люди делают, говорят или думают. За них-то и надо держаться, Сэд, в них-то и таятся настоящие истории.
Я замечал, что Питерсон – несомненно, сознательно – заронил в мою душу семена чего-то нового. Из моих собственных писем он, наверное, уже понял, что я устал от бесконечной вереницы тривиальных шизиков, попадавших ко мне в приемную лишь по дороге в какое-нибудь общественное попечительское заведение. Я чувствовал, что мое призвание исследователя психосексуальности каждый день подвергается унижению, и каждый день ощущал себя в роли рядового терапевта, имеющего дело с простыми недомоганиями и растяжениями связок, тогда как в действительности я мечтал об операции. Операции на сознании.А торопливые каракули Питерсона так и кричали мне: Мир терапии нуждается в подрывных, в сногсшибательных открытиях…
Мысль о том, что можно сотрудничать, объединять научный поиск, ведя его по разные стороны Атлантики, причем поиск достаточно рискованный, чтобы подорвать оба наши источника финансирования, вселяла в меня радостное возбуждение; тем более что через негласные больничные каналы я прослышал о двух новичках: вроде бы оба – немые, с потрясающими историями болезни, к тому же еще не побывали в лапах у психо-лохов. Я догадывался, что скоро смогу отложить будничную тягомотину, отмахнуться от присылаемых ко мне скучных типов и наконец-то примусь за настоящее исследование. В самом деле, Питерсон не нашел бы лучшего времени для своего предложения: в клинике давно уже царила болотная тишь, а тут вдруг сразу два интересных новичка из учреждений, да еще с такими историями, к которым никто не удосуживался прислушаться; вдобавок и никаких заботливых родственников у них не имелось. И вот, с застенчивой иронией, которую Питерсон, несомненно, оценил бы, я помчался домой – составить план эксперимента и сообщить Джози волнующую новость. Я надеялся, что она наденет то зеленое платьице, которое так красиво обнажало ее едва оформившиеся бедра. Когда дела идут хорошо, все, что нужно, – это лишь улучшить их. Да.
Подготовка
Обстановка была простой, во всяком случае минимальной. Корпус стоял последним в ряду из пяти соединенных друг с другом зданий, или флигелей, как их обычно называли; его облик – квадратная глыба с плоской крышей – являл тот же, что и соседние флигеля, контраст с увядающе-пышным строением самой Психиатрической больницы «Душилище», находившимся на расстоянии полумили отсюда, ближе к главной дороге. Никого – в особенности же меня – не удивляло то, что корпус занимал столь уединенное положение. Физическое местонахождение в точности отражало его статус или по крайней мере статус психосексуальных исследований. Ты движешься на Дикий Запад, Сэд, оттуда никто не выбирается живым…Ну, так мне говорили ребячливые студенты и грубоватые санитары из Административного здания в первый день моего пребывания в качестве исследователя.
Даже среди пяти флигелей царил некий раздражающий порядок. Длинное узкое здание, отведенное для исследований анорексии и булимии, было постоянно подключено к Сети и имело собственную «домашнюю страничку», посвященную последним находкам. В соседних двух флигелях – размерами поменьше, зато в безупречном состоянии, – обитали двое исследователей, которые посвятили несколько последних лет, оставшихся им до выхода на пенсию, изучению синдрома внезапной младенческой смерти, или СВМС. Эта парочка лысеющих бездетных докторов проводила много времени, роясь в газетных сообщениях, путаных докладных записках терапевтов и больничной документации, касавшейся младенческой смертности; а иногда они беседовали по телефону с какими-нибудь несчастными родителями – убитыми горем и отчаянием, – пока Пелли с Фейл записывали подробности всех обстоятельств в надежде найти хоть какую-то связь, хоть какой-нибудь след, ведущий к раскрытию причины. Ходили слухи – и это несмотря на то, что оба исследователя были женаты, – что они геи и что если они ненамного продвинулись в своих исследованиях за годы, проведенные во флигелях № 2 и № 3, так это потому, что больше всего заняты уестествлением друг друга. Однажды кто-то из Душилища послал им подарок к Рождеству – куклу-младенца в картонной коробке в форме гробика. Если дернуть за веревочку на спине у куколки, она говорит: «Мне пора баиньки». Юмор висельника, конечно. Очередной день в Душилище.
Флигель № 4 очень походил на № 2 и № 3 – тоже куда лучше отделан и дороже обставлен, чем мой, – но его редко использовали. Он приберегался для потенциального применения в качестве промежуточного заведения для любых пациентов, которым предстояло перебраться из Душилища в социум. Однако за время моего пребывания в Душилище этим корпусом пользовались все меньше и меньше: врачи склонялись к тому, чтобы пациенты, минуя данную стадию, погружалисьво внешний мир сразу же после лечения.
Такое ощущение, что, когда дело дошло до последнего флигеля, у начальства просто кончились деньги: их не осталось на то, чтобы залатать осыпающиеся стены, покрыть кафелем полы, и даже на отопление холла, который занимал значительную часть пространства. Зимой я, пожалуй, не встречал места холоднее. Конечно, это была шутка. Когда я парковал машину и бежал к корпусу, санитары обычно кричали: Эй, Сэд, не хочешь одолжить фен – немножко погреешься в своем морозильнике?…
Они ничего не понимали, в отличие от Джози. Дома она с заботливой улыбкой и нежными прикосновениями выслушивала мои охи и ахи. Если мне требовалась подушка, она мигом приносила ее; если меня мучила жажда, она наливала какой-то янтарной жидкости и подносила к моим губам. Я считал, что мне очень повезло в жизни. Иные из этих вельветовых коконов, именующих себя психологами, избегают собственного дома, собственных жен, предпочитая проводить время за спорами в тайских ресторанах с коллегами, обсуждая какие-нибудь тонкости эготической теории или автопластии или толкуя о воздействии терапии отчуждения на своих супруг. Ну да бог с ними. В первый день после моей длительной беседы с Питерсоном Джози скакала за мной по коридору, и нам не о чем было спорить. Все, что было у меня в голове, было и у нее, и наоборот.
В этот раз Джози побывала в корпусе не впервые. Полгода назад, под конец длинного и утомительного дня, она неожиданно появилась в моем кабинете. По случаю пятницы Джози была юна, находилась на стадии длинных кудрявых локонов и нарядного платья в цветочек. Она просто распахнула дверь и улыбнулась. Я захотел, чтобы она сказала нечто такое, что сняло бы у меня напряжение, что умчало бы меня прочь от гадкой груды бумаг, грозившей рухнуть с моего стола.
Так я закрою за собой дверь?
Мне понравилось, как она это произнесла, я был очарован тем, как она умудрилась протиснуться сквозь узкую щелочку в двери. Она закрыла, а потом заперла дверь, приложила пальцы к губам и неподвижно остановилась, прислушиваясь.
* * *
Когда ей было двенадцать, она приложила пальцы к моим губам и, мотнув головой, одними глазами велела мне хранить молчание. Мы замерли возле двери родительской комнаты, прислушались, дожидаясь предательских звуков – отцовского храпа, щелчка выключателя на ночнике, стоявшем в изголовье у матери. Услышав эти долгожданные звуки, мы осторожно прокрались вниз по лестнице, открыли заднюю дверь и вышли навстречу лунному свету. Была безупречная летняя ночь. В дальнем углу сада находился сарай, где мой отец хранил целую коллекцию садовых инструментов и инвентаря; все эти предметы оставались почти нетронутыми, некоторые даже не были распакованы, дожидаясь той поры, когда мои родители выйдут на пенсию и возьмутся за исполнение мечты о возделывании сада.
Она сказала, что хочет мне кое-что показать, и повела меня за руку в темную лачугу, где пахло древесным углем и пролитым бензином.
Ты взял с собой тетрадь для записей?Она слышала о том, в какую передрягу я попал, слышала спор между родителями и мной о том, что мне не хватает экстравертности и общительности, что я веду наблюдение за развитием полового созревания моих однокашников. Ты слишком много думаешь.Я показывал Джози результаты своих наблюдений, и ее привели в восторг схемы и таблицы, пояснявшие проявление признаков взросления. Она спрашивала, проделывал ли я на себе те же опыты, и я отвечал, что да; она спрашивала, соглашусь ли я сделать то же самое для нее, и я отвечал, что разумеется.
На ней была ночная рубашка, и она уселась на рабочую скамейку, отодвинув банки с масляными красками. Приспустив рубашку с плеч, она показала зачаточные груди, начавшие набухать соски. Я лихорадочно записывал. Она смеялась, глядя на мою выводящую каракули руку.
Кажется, она сказала: «Это еще не все». А может быть, и не говорила. Но это не столь уж важно.
А важно вот что. Она задрала до талии подол ночной рубашки и закатала его валиком, обнажив верхнюю часть бедер. Я разглядел, что ее щелка уже не безволоса, что со времени нашей последней встречи в подвале дома она поросла настоящими джунглями. У меня перехватило дух, а Джози ликовала. Я это видел. Даже в темноте я понял, что она лучится гордостью. Я вытянул руку и дотронулся до нее, ожидая, что волосы окажутся жесткими и колючими, но нет – они были мягкими, зачаточные завитки готовились скрыть под собой кожу.
Кажется, она сказала: «А твои такие же на ощупь?»
Я солгал, пробормотав что-то вроде «не знаю», но она не поверила, спрыгнула и через пижаму прижала руки к моему паху. «Такие же, правда?»
Я все время умудрялся писать, держа тетрадь на весу, у нее над головой, и заполнил три страницы словесным описанием с двумя рисунками: один изображал боковой профиль ее тела, а второй был наброском ее гениталий.
* * *
В кабинете у меня было такое впечатление, будто она только что вышла из садового сарая и шагнула к моей мягкой кушетке. Я любил эту кушетку – для меня она символизировала все банальные клише, касающиеся психотерапии; это было какое-то неистребимое напоминание о решительных, до опасного хаотичных, всерьездиагностичных минувших временах, когда сия наука еще пребывала в младенчестве и никто по-настоящему не знал, с чем вступает в игру; о тех временах, когда наука носила истинно экспериментальный характер. Сегодня, разумеется, большинство полновесных психо-лохов, заседающих в главном здании Душилища, косятся на кушетку, полагая, что она производит неверное впечатление на пациента,полагая, что она внушает предубежденное понятие о том, каковы должны быть отношения между пациентом и врачом. Знание против невежества; контроль против хаоса. Вместо этого они предпочитают беседовать, например, во время занятий аэробикой, полагая, что это стимулирует восстановление воспоминаний, или предпринимают нескончаемые прогулки, утруждая и мышцы ног, и психику пациентов в надежде достичь какого-то успеха и заодно оправдать подобную деятельность нехитрой идеей, что физические упражнения облегчают выработку организмом серотонина. Милю пройдешь – улыбку найдешь…Расскажите-ка это тому злосчастному лоху-терапевту, который был насмерть забит веслами гребной машины, когда попробовал выманить своего невменяемого пациента на природу… Будет очень здорово…
Они рассыпались в комплиментах перед политической корректностью, втайне лелея мечту о возвращении палат, запертых на ключ, и цепях для пациентов…
Когда Джози легла на кушетку и ее платье в цветочек задралось, обнажив тонкие стройные бедра, я встал из-за стола, дважды проверил, заперта ли дверь, и улегся рядом с ней, вдыхая ее запах, прикладывая пальцы к губам и шепча – как я, как мы всегда шептали: «Ни словечка, никому ни словечка…»
* * *
В корпусе главное место отведено одному помещению, или холлу, – а может быть, его лучше назвать гимнастическим залом, использующимся не по назначению. Велись некоторые споры относительно того, для каких целей строился изначально этот самый старый и самый удаленный из всех флигелей. Догадки высказывались разные, но поскольку мало кто задерживался в Душилище дольше чем на два-три года, не считая нескольких достопочтенных динозавров, насилу помнивших собственные имена, не говоря уж о хитросплетениях чужих расщепленных личностей, – то к согласию эти мнения не приходили, и находилось мало подтверждений прежнему применению этого здания до того, как в нем обрели новый и волнующий приют исследования внутрисемейной сексуальности. Одно из наименее правдоподобных, зато наиболее забавных объяснений было таково: этот просторный холл с лакированным паркетом, раскинувшийся на 50 метров в длину и 25 в ширину, некогда использовался как спортзал для долгосрочных пациентов Душилища. Здесь, в этом уединенном и надежно закрытом помещении, глухой зимней порой санитары и психо-лохи могли наблюдать и приглядывать за деятельностью подопечных. Пациенты выкрикивали свои порядковые номера, а мы держали пари, споря, кто сделает больше кругов…
Хотя по всей длине зала тянулись длинные окна, выходили они на север, к тому же обзор преграждали деревья, росшие вплотную к стеклам, так что наверняка тут включали верхний свет, падавший на бегунов с усталыми ногами и измученными головами, которые, прихрамывая, кружили по залу, пока лохи сидели поодаль, а санитары вели себя будто на скачках; двадцать или около того безнадежных психов вертелись и сталкивались с демонами и богами… с внутренними демонами и внешними богами.
При виде этого помещения одни сразу же вспоминали неуютные школьные дни, когда полагалось сидеть на скамейках и хлебать бульон, а другие содрогались и морщились, слыша про его тревожное и невеселое прошлое, но что до меня, то, получив в свое ведение этот корпус со всем его жалким скарбом, я вдохновился и проникся к нему трепетными чувствами. Я расточал смехотворные похвалы этому залу, превознося его как нечто среднее между шикарными апартаментами, отделанными по последнему слову моды и способными смутить небритых эстетов, и огромной пустой стерильной лабораторией – необходимейшим чистым холстом, приготовленным для моих сложных постояльцев. В этом зале, думалось мне, гимнастика для ума не будет ведать преград…
Если холл вселял в меня благоговейный трепет, то прочие детали обстановки были куда менее грандиозными. Как видно, все силы и фантазии безвестного архитектора, этого тупицы-предмодерниста, ушли на холл, а потом, когда деньги и воображение иссякли, он приделал к залу небольшую комнатку, предназначенную для резидента-психо-лоха (в данном случае – для меня), и другую, еще более тесную, похожую на шкаф каморку – для моей секретарши, нанятой на неполную ставку и занятой обработкой слов пациентов, а также приданием моим беспорядочным исканиям некоего рода административной упорядоченности.
Бет была для меня идеальным секретарем. Надежная и молчаливая; толстокожая настолько, чтобы в совершенстве владеть собой – или подавлять себя (в зависимости от той школы мысли, какую вы предпочитаете). С тех пор как открылся мой корпус, она перевидала здесь столько, что на ее месте многие секретарши давно бы сбежали в город, подыскав уютное и безопасное рабочее местечко. В течение своей первой недели она печатала исповедь одного ветерана Фолклендской войны – некогда благополучного фабричного рабочего, превратившегося в сломленную тяготами сражений жертву. Этот помешанный остов человека носился взад-вперед по короткому коридору нашего корпуса, описывая симптомы своего посттравматического стрессового расстройства. Он то успокаивался, обсуждал со мной этические дилеммы, возникшие из-за подрыва аргентинцев в Порт-Стэнли, то вдруг пулей вылетал из комнаты, подбегал к столу Бет, хватал ее стаканчик для карандашей, словно это была граната, и заявлял, что ониповсюду и что Порт-Стэнли нужно освобождать. Они прячутся, все еще прячутся.
За несколько следующих недель того начального периода в нашем корпусе, пока мы оба только нащупывали почву под ногами, у Бет раскрылись глаза на лучшие и худшие из человеческих слабостей, на целый супермаркет как расхожих, так и экзотических неврозов и психозов. Под конец одного особенно тяжелого дня, в течение которого к нам по крайней мере трижды наведывалась больничная охрана с грубыми санитарами, чтобы забирать пациентов, присланных для научных исследований из Душилища, она откинулась на спинку своего вращающегося стула и сухо заметила: Что ж, и это неплохой способ зарабатывать на жизнь.Ирония, разумеется, заключалась в том, что у большинства людей, занятых на этой работе, практически отмерли мозги, их до полного бездействия парализовало знание. О жизни тут и речи не шло.








