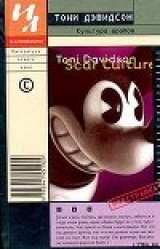
Текст книги "Культура шрамов"
Автор книги: Тони Дэвидсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Я взял на заметку этот совет Питерсона, как только Дичок тут появился и еще стоял за дверью моего кабинета. Но позволил себе мельком взглянуть на то, как обмякшее и безвольное тело Дичка полунесут-полуволочат в отведенное ему помещение. У меня в руках был отчет о его недавнем прошлом, составленный и переданный мне социальными работниками, которые и обнаружили Дичка. В руках у Бет – она показывала санитарам, куда нести пациента, – был магнитофон и стопка аудиокассет. Это – как, безусловно, угадал бы Питерсон – был мой подозрительный прибор, мой способ представиться Дичку, или, что гораздо важнее, способ, благодаря которому Дичок должен был представиться мне. Удивительно – нет, просто поразительно, – как это никто раньше не додумался предоставить в его распоряжение такую роскошь, как магнитофон. Думаю, просто никому не было до него дела, его состояние оценивалось как абсолютно безнадежное, шансы вновь сделать из него достойного члена общества были сочтены весьма низкими, и, следовательно, нужда в интенсивном лечении отпала. Проигранное дело смотрится невыгодно в проспектах для наших государственных попечителей. Если бы его нашли, когда он был младше, то, может, ему повезло бы больше, его бы удостоили большего внимания, но так уж вышло: он оказался в двух шагах от картонного дома и лошадиных доз метадона.
История пациента, составленная социальными работниками, была короткой. Дичка обнаружили в квартире, напоминавшей выгребную яму, в большом викторианском доме. Видимо, соседей насторожил тошнотворный запах, просачивавшийся из-за двери на лестничной площадке второго этажа. Это был дом, где квартиры сдавались внаем, поэтому никто из жильцов, позже опрошенных социальными работниками, понятия не имел о том, кто там жил. Когда же наконец полиция выломала дверь, там обнаружили Дичка, валявшегося в собственных нечистотах на постели с простынями, затвердевшими как картон. Вначале полицейские решили, что он мертв: им знаком был этот запах тела, долгое время пролежавшего в неподвижности. Но оказалось, что Дичок жив, а вонь исходила от разнообразных веществ, медленно разлагавшихся в течение ряда лет, – от объедков до ороговевшей кожи, от траченных молью штор до полусъеденных трупиков мышей и крыс.
Дичка невозможно было заставить двинуться или заговорить. Когда полицейские подошли к кровати, чтобы убедиться в том, что он жив, он никак не отреагировал. По сообщению одного из полицейских, у него были широко раскрыты глаза, а зрачки затуманивало несколько катаракт, и он просто глядел в пустоту несфокусированным немигающим взглядом. Другой полицейский отмечал, каким липким, вялым на ощупь было тело, будто из него совсем ушла мышечная ткань, а остались только жилы, позволявшие шевелить руками и ногами. Вызвали «скорую», и медбрат одной рукой поднял Дичка с постели и переложил на носилки. В своем отчете медбрат с плохо скрываемым ужасом упомянул о единственной силе сопротивления, которую он встретил, перекладывая Дичка: тот прочно приклеился к замаранным испражнениями простыням, и эта липкая субстанция из телесных выделений – пота, мочи и семени – образовала нечто вроде тонкой паутины, которая растягивалась в воздухе, пока медбрат отдирал пациента от кровати… Как пенка на кипяченом молоке.…
Профессионалы, собравшиеся в комнате, спорили между собой о возрасте Дичка. В поиске улик они обратились к двум соседним комнатам, отделенным от этой ветхими занавесочками с множеством дырок и прорех. В комнате, где лежал Дичок, вообще ничего невозможно было понять из-за царившего там полного хаоса. Социальный работник, которого пригласили описать обстановку, оставил следующие заметки:
Я никогда еще ни видел такой комнаты, как эта, а ведь мне доводилось видеть всякого рода лишения и запущенность в самых разных местах. Это отнюдь не была та типичная обстановка запущенности, какую обычно порождают социально-экономические факторы; здесь все выглядело совсем не так. В комнате находилось много вещей, от мебели до картин, от некогда дорогой одежды до ценных предметов: все это свидетельствовало, что здесь жила семья непростая и/или зажиточная. И хотя пола было почти не видно из-за разбросанного всюду мусора – посуды, рваной одежды, кучек фекалий, все равно было ясно: в прошлом эта комната содержалась в чистоте и опрятности. Согласно домовым записям, квартира принадлежала некоему Филиппу Рено, вдовцу с двумя сыновьями, однако по первой комнате было совершенно невозможно определить, когда они съехали, почему больше здесь не появлялись и как долго Рено-младший находился в одиночестве.
Еще один социальный работник подготовил заметки, относившиеся к другой комнате, примыкавшей к комнате Дичка:
В этой комнате явно совершались какие-то религиозные или/и ритуальные действия. На полу видны семнадцать пятен воска, рядом лежит груда белых простыней. Очевидно, в комнате жил взрослый человек с чрезмерным интересом к одежде, поскольку большая часть мебели в комнате – гардеробы, заполненные пустыми вешалками и огромным количеством поясных ремней. Если не считать двуспальной кровати и круга свечей посреди комнаты, вся мебель была сдвинута в один угол, по-видимому, для того, чтобы остальное пространство комнаты оставалось свободным. Можно только догадываться, что это было как-то связано со свечами, а дальнейшие догадки ведут к заключению, что юноша был каким-то образом вовлечен в предполагаемые ритуальные действия. Разумеется, свидетельства предыдущих подобных случаев указывают на то, что ритуальное/сексуальное насилие часто сопровождается физической запущенностью. А этот юноша, какие бы причины за этим ни стояли, безусловно, является конечным результатом длительного периода такой запущенности. Возраст юноши не поддается определению; ему может быть приблизительно от шестнадцати до двадцати четырех лет, хотя лицо его выглядит намного старше.
Войдя в зал, прокравшись по узкому коридору (слева от меня Щелчок купался то в белых, то в красных вспышках света), я услышал голос Дичка – запыхавшийся, отрывистый шепот, который то делался громче и быстрее, то тише и медленнее. Он колебался и в то же время струился непрерывно, словно даже мычание и вздохи, хрипловато нашептываемые паузы между словами, тоже были частью того, что он хочет рассказать. Разумеется, не было никакой гарантии, что он воспользовался предоставленным ему магнитофоном, а если нет, то мне придется придумать для него другую стратегию. Что ж, в своей работе я по большей части полагаюсь на интуицию – никакого заранее предписанного метода, в необходимости которых стала бы уверять вас шайка из Душилища. Процедура – превыше всего; она обеспечивает последовательную поддержку пациенту и оберегает нас от судебных тяжб.Черт с этим со всем, потому что этодля них и есть всё. В глазах большинства моих коллег-профессионалов магнитофоны и прочие аудио– или видеозаписывающие устройства – новомодные навороты, к которым следует относиться с подозрением ввиду навязывания со стороны правительства; наверняка злосчастные мудилы боятся, что подобные записи могут и будут использованы против них в суде. Их бы кондрашка хватила, случись им услышать про замыслы Питерсона. Судя по его описанию, Манхэттенский институт представлял собой настоящую студию мультимедийной продукции; это была первая организация психологов, которая обзавелась собственным веб-сайтом.
Так или иначе, чутье подсказывало мне, что Дичок заговорит. У него не было клинической кататонии, махинаторы из Душилища установили это, прежде чем отослать его ко мне. Он без особой неохоты покинул свою кровать в доме и был скорее послушен, чем упрям. Единственная трудность заключалась в том, что ему, по всей видимости, приходилось, будто жертве временного паралича, заново учиться двигать конечностями. Действительно, в физическом смысле он являл собой настоящую развалину: крайнее истощение, скорее всего, приостановило его рост, и теперь внутренним органам требовалось время, чтобы как-то привыкнуть к пище, которой его пичкали с тех пор, как нашли. И он продолжал молчать. Может быть, голосовые связки и не отмерли, как мышечные ткани, но так же бездействовали. Его организм долгое время получал очень скудное питание – жалкие крохи из обильных отцовских запасов (в квартире обнаружились целые горы консервов), но ум питался только травмами прошлого; поистине пугающий пример расстройства от повторяющегося стресса – не физическая, а умственная проблема, которую порождает память, предоставленная себе самой без постороннего присутствия и стимула. Со временем, по мере того как голосовые связки Дичка слабели, его история, его травматическая история обрастала повторяющимися без конца деталями, выливаясь в тихую скороговорку, в град вымышленных подробностей; едва слышная жизнь просачивалась из головы в пустую комнату. А когда его забрали из дома и начали залечивать физические травмы, никто не мог ничего разобрать из его слов, безнадежно спутавшихся в бессвязный клекот. Как и в случае со Щелчком, если бы он был ребенком, его бы еще удостоили чего-то большего, нежели просто красной черты в досье логопеда; возможно, ему бы уделили достаточно внимания, чтобы вытянуть из него связный рассказ. Мне повезло, что никто не стал в этом усердствовать; махинаторы лишь отметили, что его непрерывное полубеззвучное бормотанье указывает на наличие психоза, однако, суетясь вокруг постели Дичка, они различали в его шепоте лишь звуки, но не слова. Мне же, когда я услышал об этом как раз перед его появлением в моем корпусе, он показался идеальным кандидатом для записи на пленку.
Некоторые доброхоты, которых, по счастью, в психотерапии немного, наверное, сочли бы, что держать Дичка в столь спартанских условиях – излишняя жестокость. Но именно такие и подобные им люди как раз и не захотели понять – и уж тем более вылечить – Дичка. В лучшем случае они пытались окружить его всяческим теплом и уютом, ожидая, что, попав с жесткой койки на постель, выстланную гусиным пухом и любовью, он с легкостью переключится с суровой жизни на беззаботную… Я же, исходя из всей логики средотерапии, рассуждал так: раз он выбрался из-под такой лавины хлама, покинув квартиру, загроможденную вещами людей, которых он когда-то знал, то сейчас пока не время навязывать ему новые предметы, и, кроме того, по мере разворачивания его рассказа, я успею составить себе более ясное представление о том, какие именно предметы нужно поместить к нему в комнату, когда для этого настанет время. А время это, как говорится, почти настало.
В прошлом половина зала, которую теперь занимал Дичок, так же как и половина Щелчка, не раз меняла облик, становясь ареной различных постановок. Так, в отличие от суровых стен приемных кабинетов Душилища, скудное пространство Дичка некогда послужило отличным образцом моей ранней тактики, предшествовавшей моему нынешнему интересу к средотерапии, – а именно техники прямого погружения, или ТПП. Пока какой-нибудь психотерапевт в Душилище возился с избитым набором психологических приемов, с этим затасканным арсеналом, который пополняется с каждой новой причудой, с каждой новой мексиканской волной в педагогике – будь то регрессия, визуализация, телесная терапия и тому подобное, – меня куда больше занимал вопрос, как увязать историю пациента с той обстановкой, с тем местом, где разворачивались главные события этой истории. Конечно, все зависело от пациента. Для одной из первых пациенток, Мэри, зал превратился в кухню – полностью оборудованную, идеально обставленную кухню, которая пришлась бы по душе всякому любителю домашнего уюта.
Мэри мне предоставили на несколько дней; ее в качестве милости прислал ко мне Натан Ратбоун, один из наших больничных динозавров, наименее других страдавший агорафобией. По правде говоря, она была не совсем «нашей» пациенткой: ей вскоре предстояло отправиться в Бесчувствие – ближайшую больницу для невменяемых уголовников. Однажды в понедельник утром, в ту пору, когда большинство людей готовятся к долгому дню, полному работы или скуки, Мэри убила своего мужа и двоих детей – четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика. Явившиеся полицейские застали ее в виде бесформенного голосящего существа, вымазанного внутренностями и кровью тех, кто еще недавно был ее родней.
В Душилище она попала на несколько дней, скоро ей предстояло перебраться в Бесчувствие, и никто не испытывал к ней ни малейшего интереса. Не наш случай, Сэд, верно? Она переступила черту, а это значит, что на нее мы не потратим ни одного драгоценного впрыскиванья.Однако Ратбоун знал, что когда-то, в первые дни существования корпуса, определенное число пациентов должно было проходить через мое ведомство – своего рода квота объектов научного исследования, призванная оправдать полученный грант. Для меня это был подарок, и пусть случай Мэри не вполне вписывался в «профиль» корпуса – ведь в ее семье насилие оказалось важнее секса, – зато он привносил некий порядок в бухгалтерию. Это было еще до Прыгуна, и мне требовалось доказать самому себе, что ТПП – не просто полусырое идеалистическое понятие, а подлинный научный метод.
И вот, зная историю пациентки и не желая упускать время, я быстро переоборудовал ползала в кухню, оснащенную необходимой мебелью, плитой, холодильником, микроволновкой и (эта вдохновенная мысль посетила меня напоследок) стойкой для завтрака. Сотрудники с кухни в Душилище были гораздо снисходительнее и помогали мне куда больше, нежели коллеги-психо-лохи. Послушай, Сэд, ты нас как-нибудь пригласи на завтрак, и твой день в корпусе Внутрисемейной сексуальности начнется с яичницы-болтуньи с тостами!Однако моя цель состояла не в том, чтобы в точности воспроизвести место преступления; во многих отношениях она сводилась просто к тому, чтобы усугубить регрессию и неспособность к общению (разве что кто-нибудь счел бы общением непрестанные вопли, от которых она начинала плеваться кровью). Нет, мне хотелось лишь передать ощущение кухни, кухни вообще, не обязательно ее личной, поскольку я был убежден, что даже беглый взгляд на окружающие детали говорит о значении этого места. По статистике, 50 % семейных ссор происходит на кухне, причем в 29 % из них в ход пускается кухонная утварь.
С Мэри загвоздка заключалась в том, что она призналась в содеянном, пусть даже ей и невозможно было отпираться: согласно рапорту полицейских, она отрубила у обоих детей правые руки и положила их к себе в карман фартука. Жуть. Ничего не скажешь. Однако оставалось непонятным – почему она это сделала. Сама Мэри ничего не объясняла, только признавалась в вине. Да, это сделала я. Я убила их всех. Теперь меня до конца жизни продержат в заключении. Если бы существовала смертная казнь, меня бы, наверное, приговорили к смерти?Вряд ли кто-либо удосужился бы выяснять это. Психиатры в Бесчувствии были безмозглыми остолопами, которых вы не пригласили бы и к своей находящейся в старческом слабоумии бабушке; они уже не столько пребывали на свалке собственной профессиональной карьеры, сколько устремлялись навстречу раскрытым дверям мусоросжигательной печи. Они и пальцем не собирались пошевелить, а для Мэри это был последний шанс облегчить душу, последний шанс кому-нибудь все рассказать.
Каковы бы ни были другие мои достижения за время ее короткого пребывания в корпусе, я, безусловно, стал отлично питаться. Она кормила и меня, и Бет, готовила основательные завтраки, как и шутили шарлатаны, на обед делала домашний суп и превосходные лазаньи, суфле, рагу, – словом, закармливала нас блюдами, достойными пятизвездочного ресторана, непрерывно напевая себе под нос, возясь с пряностями и травами, составляя списки продуктов на следующий день и вообще создавая вокруг себя невероятную атмосферу. В последний день я получал такое удовольствие от ее общества, что почти напрочь забыл, почему она здесь оказалась. И вдруг, когда мы с ней с глазу на глаз доедали завтраку спросил – не возражает л и она, если я дам ей один рецепт. Мне хочется знать, каково это блюдо на вкус, но у меня никогда не было возможности или умения стряпать. Она отвечала, что охотно приготовит его, тем более что уже очень скоро ее переведут в Бесчувствие. Я записал для нее следующий рецепт:
ИНГРЕДИЕНТЫ:
одна женщина сорока одного года,
один мужчина тридцати девяти лет,
одна девочка четырех лет,
один мальчик двух лет.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:Снять кожу с мужчины, затем удалить кости. Изрубить девочку на тонкие ломтики, осторожно удалить кожицу, потом нарезать мальчика на полоски, как для жюльена. Все перемешать, выложить на ровную поверхность и ждать, пока не окоченеет.
Сначала она просто взглянула на меня, и мне вспомнилось замечание из полицейского доклада. Минуту назад она еще болтала о своем муже и двоих детишках, всячески расхваливая их, как будто они просто отправились на прогулку и вот-вот вернутся, о потом вдруг умолкла и уставилась на меня таким взглядом, что у меня мурашки по спине пробежали. Мне приходилось встречаться со множеством убийц, но ни один из них не внушал мне такого ледяного ужаса, как эта женщина.
Я понял, что имел в виду полицейский. Глаза Мэри не мигали. Лицо оставалось неподвижным, и я чувствовал, что ее взгляд буравит меня, пригвождая к стенке. До того, как я дал ей бумажку с рецептом, меня интересовало, не выявит ли этот прямой намек на ее преступление – учитывая воссозданную вокруг обстановку – какую-нибудь мало-мальскую причину бессмысленного поступка. Наверное, я был молод и наивен, но что поделать. Внезапно она отвела взгляд, и зал огласился пронзительнейшим хохотом, от которого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Я стал медленно вставать со стула, надеясь ускользнуть за отверстие в брезентовой шторе; я понимал, что, наверное, недостаточно готов к тому, что сейчас может произойти, что сейчас не время для чистого исследования, что сейчас впору удрать, надежно запереть за собой дверь, а ключ выбросить в ближайшую канаву. Когда я поднялся, мимо моей головы пролетел ломоть рыбы; когда я, будто неуклюжий комик, путался в брезенте, в мое предплечье вонзилась большая вилка для жаркого; а когда я уже бежал по коридору, мимо меня со свистом пронесся и угодил в брезент ровно на высоте моей головы третий предмет – ржавый кухонный нож.
Немного придя в себя, я счел это происшествие доказательством того, что метод ТПП может и должен приносить результаты, но также усвоил я и то, что результаты эти лучше всего изучать, самому находясь в безопасном отдалении. Питерсон пожурил меня, когда я рассказал ему об этом. Ну ты и дубина, Сэд. В тот самый день, который ты наметил, чтобы давать ей рецепт (это-то было правильно придумано), тебе следовало заменить все «сабатье» на их имитации с пластмассовыми лезвиями. И если бы она попыталась зарезать тебя и потерпела неудачу из-за непригодности ножей, – вот тогда, быть может, она бы и раскололась, сломалась и все рассказала. Живи и учись, Сэд! Но, полагаю, тебе уже повезло: ты остался жив и потому в следующий раз окажешься умнее.
На этот раз. С Щелчком и Дичком. На этот раз.
* * *
Джози и слышать об этом не желала. Думаю, за много лет ей надоело, что ее запирают – неважно, в подвале родительского дома, где мы играли в прятки (и Джози неизменно проигрывала: ей приходилось демонстрировать стриптиз и подвергаться осмотру), или в заполненной клубами пара ванной того же дома, где плескалась вода, слышались сдавленные крики радостного любопытства, дверь была заперта, а ключ спрятан где-нибудь в углу ванной или в потаенной части моего тела. За какой он щекой, Джози? За какой?А она кричала, что я зашел слишком далеко, что игра уже закончилась, а я никогда не умею вовремя остановиться. Не умею вовремя остановиться. Вот так воспоминание для исследователя психосексуальности! Такого рода характеристика, вынесенная по справедливости, будет обращена против меня, когда мои аттестаты окажутся разорванными в клочки, а от авторитета не останется и следа. Эпитафия исследователю, который зашел слишком далеко, взял на себя чересчур большую смелость и напоролся на острие собственной передовой психосексуальной науки.
В мрачные минуты, когда даже Джози не может до меня достучаться, когда даже ее прикосновения не в силах отогнать одолевающих меня демонов сомнения, мне думается, что я больше уже не получу средств на исследования, если выяснится, что я намереваюсь сделать. Но, как говорит Питерсон, если ты собираешься продвинуться в исследовании психосексуальности, то не бойся испачкаться. Если хочешь узнать что-то о себе самом и о других, то тебе придется свыкнуться с некоторым количеством смегмы.
Но когда Джози барабанит в дверь моего кабинета, мне удается отвлечься. Я снова оказываюсь в ванной, где мы запирались, меньше всего думая о том, чтобы вымыться. Я хотел рассмотреть ее, а она – меня. Все было очень просто. Она знала, что я храню под матрасом у нее в комнате таблицу – ту самую таблицу, которую родители запретили мне продолжать. Хотя они не видели никакой нужды в том, чтобы следить за физическим развитием моих сверстников, я-то ее видел; и если они с ужасом слушали о родителях, прячущих скрипку от своего юного дарования, то им даже в голову не приходило, что они поступают так же, пряча от меня книжки по психологии. Джози же была моей сообщницей и первой ассистенткой, а ванная комната служила нам кабинетом.
Она стояла в ванной и ожидала указаний. Я велел ей поднять руки над головой и пристально всмотрелся в ее подмышечные впадины. Я разглядел фолликулы и тонкие, нежные волоски. Затем велел ей повернуться боком и принялся изучать ее набухшие грудки. Вокруг выпиравших маленьких сосков клубился пар. Я попросил ее встать, раздвинув ноги пошире, и заметил, как выросла и изменилась растительность на лобке, а за розовыми губами разглядел причудливой формы клитор. Она смеялась надо мной, глядя, как я записываю результаты в тетрадь, борясь с влажностью, которая грозила превратить в пятна мои поспешные рисунки, мои наскоро записанные слова. А потом мы менялись местами.
Она становилась на коврик перед ванной, а я раздевался и залезал в ванну. Я чувствовал на себе ее взгляд, и, пока она записывала дату, время и объект наблюдения (я убедил ее в том, что это необходимо делать всякий раз, иначе результаты не будут иметь никакой научной ценности), мой член подпрыгнул, готовясь восстать. Она хихикала, а я велел ей записать то, что она видела, и отметить угол и длину.
– Откуда я знаю, какой тут угол?
– Я захватил транспортир, он лежит на коврике.
– А что такое транспортир? – переспросила она.
Я ужаснулся ее невежеству, ее полному незнакомству с научными приборами.
– А ты погляди, сама поймешь.
Она отложила тетрадь в сторону, пошарила в длинном ворсе ковра, нащупала транспортир и приблизилась ко мне. Она завернулась в розовое полотенце, рядом с которым голые части ее тела казались бледными. Она поднесла ко мне инструмент, и мой член дернулся.
– Не двигай им, – хихикнула она.
– Легче сказать, чем сделать, – ответил я.
Надо отдать ей должное, она быстро во всем разобралась. Повращав прозрачную пластиковую деталь, она нашла правильный угол. Потом велела мне поднять руки вверх и попробовала сосчитать пучки волос, рассматривая все пряди по отдельности.
– Годится приблизительный подсчет, – сказал я ей. Я не хотел проторчать в ванной всю ночь: родители были против того, чтобы мы купались вместе (не важно, что сказал им Кай Во), а я не хотел привлекать ненужного интереса к тому, чем мы занимаемся, пока они смотрят телевизор в гостиной внизу. Она потрогала мои соски и прямой линейкой транспортира измерила их диаметр.
– Не очень-то большие, – заметила она разочарованно.
– Они и не должны быть большими.
– Кто тебе сказал?
– Не знаю, просто они не вырастают большими.
– Но откуда ты знаешь?
Я перешагнул через бортик ванны и потянулся к полотенцу.
– Наблюдение – вот ключ ко всему, Джози. Ты смотришь – и постепенно все понимаешь.
– Ты хочешь сказать, в школе.
– Везде, где только можно. Хороший ученый не станет ограничивать себя пространственными рамками.
Пространственные рамки. Мне понравилось это выражение, и я задумался над тем, к каким бы еще сторонам моей жизни можно было применить эту фразу, и думал об этом, пока не почувствовал у себя на члене руку Джози.
– А он – большой? – спросила она меня.
Я взглянул на нее сквозь собравшийся в ванной туман. Ее четырнадцатилетнее тело доходило мне до плеч.
– Наблюдения позволяют мне утверждать, что да. Она рассмеялась.
– А это хорошо?
– Для меня – хорошо.
* * *
Когда я выпустил ее из кабинета, она побежала за мной по коридору. Она вдруг стала совсем маленькой. С каждым шагом – по мере того, как улетучивалось мое воспоминание о ванной и влетучивалась окружавшая меня обстановка корпуса, – она теряла год, делаясь все меньше, так что под конец уже едва доходила мне до груди. Мне захотелось, чтобы она рассердилась, захотелось устроить беспорядок в коридоре, где по обе стороны от меня находились шизики – самые тихие, самоуглубленные шизики, какие только побывали в моем корпусе.
«Зачем ты меня запер? Зачем, зачем, зачем?»
«Мне нужно работать».
«Что еще за работа?» – спросила она, по-прежнему стараясь говорить сердито.
«Давай я тебе покажу».
Я подвел ее к пластиковому окошку. В темный коридор просачивался красный свет, и на лицо Джози легла красная полоса. Она заглянула внутрь, затаив дыхание, и дала мне пристроиться рядом. Вначале я его не разглядел, но потом глаза постепенно привыкли к странному свечению от цветной лампочки. Это был день стирки в корпусе. В духе подлинной средотерапии, пациент соучаствует в создании среды, иногда отвлеченным образом, и внутренняя травма оставляет осязаемый след в том пространстве, где находится пациент. Конечно, такая идея застряла бы в горле у многих психо-лохов. Где же доказательства, Сэд, где доказательства?Однако приспособляемость Щелчка к новым жизненным условиям оказалась настолько ощутимой, что психо-лохи наверняка поперхнулись бы собственными предубеждениями. Заглянув в зал сквозь пластиковую щель, я ясно различил две веревки – на каждой из них сушилось около дюжины фотографий, прикрепленных через ровно отмеренные промежутки, а между снимками висели беспорядочно исписанные листы бумаги.
Трудно было поверить, что это тот самый юноша, которого привели в состояние полной бездеятельности учреждения, призванные оказать ему помощь, который впал в немоту из-за отсутствия хоть каких-нибудь знакомых предметов, из-за отсутствия хоть сколько-нибудь предсказуемого будущего. Если бы не усердный санитар, вознамерившийся отобрать у Щелчка его старого замусоленного мишку, то, быть может, он никогда бы не дошел до этой стадии. Когда санитару удалось силой вырвать мишку из рук отчаянно сопротивлявшегося Щелчка (видимо, раньше никто этого не делал: детские психологи или детские врачи-консультанты бережно клали его на бок, стараясь никак не повредить мишке, чтобы, не дай бог, не спровоцировать у Щелчка какой-нибудь бурной и необратимой реакции, – этого они бы меньше всего хотели от своего получасового сеанса), то он обнаружил – как и они обнаружили бы, если бы только плотно обхватили тельце мишки, – тайник с фотопленками.
«Я его не вижу», – прошептала она.
«Я тоже», – шепнул я в ответ и лишь после нескольких минут всматривания в мрачную глубину зала заметил, что он лежит на кровати, заложив руки под голову и скрестив тонкие ноги в лодыжках.
«Он спит», – сообщил я Джози, хотя сам не знал, так ли это. Некоторое время я подразнил себя мыслью, что он убежал и сейчас где-нибудь на полпути к Души-лищу; как легко было бы дотянуться до ключей – но я себя одернул. Я понимал, что просто ищу предлог открыть дверь, ворваться внутрь и взглянуть на фотографии, чтобы собрать головоломку, которая, как я знал, там воссоздается. Я одернул себя. Раннее вмешательство могло все испортить, а этого я бы хотел меньше всего.
Я взял теплую руку Джози и развернул ее в другую сторону, а сам прильнул к пластиковому окошку напротив.
«Что это за звук?» – спросила Джози. Я замер и прислушался. Потом улыбнулся и приподнял Джози, чтобы она тоже могла заглянуть в щелку. Дичок сидел посреди зала, скрестив ноги. Перед ним лежал магнитофон и груда неиспользованных кассет. Его тело, будто окоченевшее, оставалось неподвижным. Он почти гидравлическим движением скользнул влево, затем вправо, и в резком освещении его половины зала мне показалось, что он запросто может увидеть, как мы с Джози подглядываем за его миром. Поэтому, не желая усугублять его сознание заключенного каким-либо комплексом обитателя зоопарка, я отпрянул от брезента. Опустил Джози на пол, нагнулся, сравнявшись с ней ростом, тесно обнял и прижал ее голову, ее ухо к брезенту. Достаточно было слушать.
«И мне ничего не оставалось делать… ничего, ничего… ничего. Я забрался под одеяло и стал ждать. Даже оттуда, доктор, даже оттуда я слышал звуки – в комнатах надо мной и подо мной были чужие.
Отец сказал: «Теперь там живут одни подонки, знаться с ними не хочу, и ты не должен. Держись от них подальше, слышишь?»
Мне не нужно было этого говорить, а он все-таки говорил. Мы не выходили из комнаты, мы с Джейком, не выходили из комнаты вместе с отцом, держа его за руки; руки, сжимавшие наши пальцы так крепко, что костяшки белели, а пальцы немели. Не просто немели, цепенели. Мама сказала мне перед нашей последней поездкой за город, перед ее последней поездкой за город: «Денег больше не осталось, мальчики, их больше нет, не знаю, куда они делись, не знаю как, но их нет. Скоро этот дом перестанет нам принадлежать».
Она оказалась права, он очень скоро совсем перестал нам принадлежать. Когда ее закопали в землю, шум, крики и вопли начали врываться к нам по лестнице через большую входную дверь, врываться в нашу жизнь. Мы стояли – отец, Джейк и я, однажды вечером, перед поездкой за город, стояли и прислушивались к звукам вокруг нас. И все трое качали головами, нас словно что-то объединяло в этот момент.
Отец сказал: «Нам нельзя тут оставаться».
Джейк сказал: «Я не хочу тут оставаться».
Я спросил: «А куда мы можем уехать?»
Мне никто не ответил. Отец надел коричневый ремень с золотой пряжкой и резко отбросил занавеску в цветочек. Джейк взглянул на меня, сверкая большими глазами в темноте комнаты, и я тоже поглядел на него. Спустя мгновение мы нырнули в постель и начали прорывать ходы под одеялом.
Я до сих пор там, доктор. Но уже без Джейка. Я хватаю подушки и разговариваю с ними, я затыкаю уши коленями, и все звуки исчезают, я достаю один из отцовских ремней и примеряю его. Он слишком велик. Не подходит. Ничего больше не подходит. Ничего».
* * *
Воскресенье, середина дня.Факс от Питерсона:








