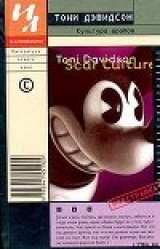
Текст книги "Культура шрамов"
Автор книги: Тони Дэвидсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Она вскоре поняла мою непочтительность, мое отсутствие всякого уважения к протоколу и, хоть это ей давалось нелегко, помалкивала и прилежно обрабатывала слова сотен шизиков. Впрочем, Бет не была бесчувственной машиной: она по-настоящему расстраивалась, слушая записи с исповедями детоубийцы, истекавшего слюняво-лирическими воспоминаниями о своих преступлениях, или грустную-прегрустную историю женщины, которая за один день, в результате цепочки трагических случайностей, разом лишилась всего, – рассказ о кошмарных 24 часах, которому никто бы не поверил, происходи все это в фильме, не говоря уж о реальной жизни. Ничего нельзя было поделать, когда она сутулилась за компьютером со слезами на глазах и трясущимися руками. Даже скалы иногда рушатся, говорил я ей, нет ничего дурного в том, что ты расстраиваешься из-за того, что здесь видишь, слышишь и читаешь. «Наш корпус – плавильный котел всяческих расстройств и умственных заболеваний, – напоминал я ей. – Когда проработаешь здесь некоторое время, когда научишься спокойно засыпать по ночам без единой мысли о том, что происходило у тебя на глазах в течение дня, – вот тогда поймешь, что с тобой все в порядке. А до той поры – что ж, лезь на стенку, если надеешься найти там удобное местечко».
Думаю, она оценила мой юмор. Я, как благую весть, преподнес ей мысль о том, как он необходим. Я до сих пор остаюсь евангелистом.
Седьмое правило психотерапии гласит: никогда не теряй ощущения абсурда.
Этот зал вселял в меня какое-то предчувствие открывающихся возможностей. Поначалу он как бы омолаживал тусклое существование тех лет, что последовали за получением квалификации, когда я очутился вдали от идеалов, имея дело с умами жертв различных травм и нескончаемыми толпами помешанных семей, убитых горем. Но омоложение это оказалось лишь временным, и, в ожидании ответов на свои заявки на получение исследовательских грантов, я тратил драгоценное время на психов-краткосрочников, ждавших своей очереди на конвейере, а сам потоком выдавал какие-то трюизмы, которые Бет отпечатывала и сортировала. Процесс равняется смерти. У меня не оставалось ни сил, ни времени на одну из моих излюбленных психоаналитических игрушек, средотврапию– эту старомодную идею о том, что в ходе терапии важнейшая роль принадлежит социальному окружению. Черт! В первый и, вероятно, последний раз, взявшись за перо для одного из солиднейших журналов по психологии, я вознамерился изложить идею о том, что среда – это самое главное не только при лечении пациентов, но и при изучении их историй, а значит, и их жизни, и, следовательно, их психозов, но, полагаю, я зашел слишком далеко, чтобы меня поняли засушенные и закостеневшие издатели; думаю, от них ускользнуло логическое продолжение этой теории – а именно, что чем сложнее, чем темнее история болезни, тем интенсивнее, жизнеспособнее должна быть среда. Вот эта-то часть и выпала.
Неужто ты полагаешь, Сэд, что нужно со всем шокирующим натурализмом воссоздавать дом серийного убийцы и лечить там самого душегуба? Это никуда не годится, и, кроме того, никто этого не допустит.
Овец заводят в загон и оставляют там подыхать; академики находят свою нишу и вязнут в ней. Одно и то же; старая история.
Посреди зала висели две толстые брезентовые шторы, которые трудно было раздвигать или задвигать из-за их тяжести; они делили пространство зала на две части, или – если моим идеалам когда-либо суждено воплотиться – на два мира. И пусть они были тяжеленные и их нельзя было быстро откинуть, как сценический занавес, или просто раздвинуть голыми руками, сбоку имелся старинный механизм, который с жужжанием и рокотом перемещал их по дощатому полу: они двигались – и это немаловажно для моих планов. Отшестерив свой срок при психо-лохах и покончив с ежедневными очередями мусора из главного здания Душилища, я надеялся когда-нибудь заполучить возможность отдернуть занавес и дать миру встретиться с миром, подобному встретиться с подобным, даже… Более того, тут был сотворен третий мир – узкий коридор между двумя шторами, достаточно широкий, чтобы я мог пересекать по нему зал вширь в белых тапочках, оставаясь невидимым для обитателей зала; вдобавок в тяжелой и прочной брезентовой ткани были проделаны в нескольких стратегических местах обзорные окошки из прозрачной пластмассы. Я мог вступать в оба мира и покидать их по своему усмотрению, что очень существенно для той неинтерактивной стратегии, которая применяется на ранних стадиях исследования, когда наблюдение – превыше всего, когда наблюдение приводит к более точному воссозданию среды.
Однако такой мир экстремальной средотерапии возмущал моих коллег расточительным использованием пространства и ресурсов: Вокруг корпуса очередь кругами выстроилась, а ты, Сэд, сколько хочешь себе взять? Два случая? Да опомнись! – но я не обращал на них внимания. Моим пациентам необходимо время, чтобы освоиться в корпусе, вернее, чтобы ощутить себя как дома, а мне требовалось время для воссоздания той среды, которая вырисовывалась из историй их жизней. Все было просто до боли.
В разгар приготовлений пришел факс от Питерсона.
Эй, Сэд, дела идут в гору. Я заполучил офигительного пациента и новое местопребывание.
Только что совершил потрясную прогулку, проветрился и до сих пор не могу опомниться. Только теперь я понял, что годами не выбирался в город все сидел взаперти в этих белых казенных стенах, пытаясь пробить их головой и глядя, как то же самое делают остальные. Знаешь, как засасывает порочный круг, а? Даже психиатр может возопить в мрачном уединении собственной пытки… черт, опять я заладил. Ну, вот я здесь; вернее, вот мы оба здесь. Психиатр и пациент; врач и врачуемый. Что за дивное место для зачуханных бедолаг!
Я давно уже лелеял честолюбивый замысел соединить терапию со стимуляторами, то есть использовать при лечении какой-нибудь психоактивный наркотик. Разумеется, у наркотиков и терапии имеется такая совместная история, о которой никто не захочет кричать во всеуслышание с вершины холма – пусть даже в столь живописном месте, как это. Идея была хороша, но мне требовалось отделить ее от стерильного, замкнутого, «ЭКТ-шного» представления о профессиональном применении наркотиков. У нас в институте куча шизиков – одни придавлены до состояния, близкого к зомби, другие возбуждены до квазиэйфории, не говоря уж о целом ряде всевозможных побочных вредных эффектов; все эти люди, по той или иной причине оказавшиеся в наших консультацонных приемных, проглотили столько таблеток, что, если собрать их в груду, они могли бы потягаться со здешними горами. Но, как тебе хорошо известно, наркотики в сочетании с терапией – не лучший образ, поэтому я дожидался случая уклониться в сторону от привычных представлений и, быть может, постараться сделать несколько шагов вспять, чтобы нащупать более аутентичную, более удивительную форму терапии. В этой моей маленькой теории главная роль отведена месту действия. Нет ничего хуже, чем сидеть взаперти в каком-нибудь кабинете: уж если говорить о преодолении привычных протоколов и методов лечения, то мне необходимо было оказаться в местности вроде этой – с высоченными деревьями, крутыми горами и стремительными пенными потоками, где фон влиял бы на процесс и наоборот, где граница между пациентом и врачом становится неразличимой и почти несущественной.
Передний край науки – на Аляске, в горах Делонг.
Некоторое время назад в головах наших учредителей поселилась идея, что существует огромная потребность создать некий пограничный дом между теми двумя мирами, в которых мы, сотрудники института, вроде бы вращаемся, и – учитывая, что недвижимость в местности вроде этой никогда не упадет в цене, что ее всегда можно будет продать какому-нибудь чудаковатому любителю снегов, – идея имела успех. Думаю, всем по душе пришлась мысль, что если это заведение не будут использовать для лечения и утешения больных, то сотрудники всегда смогут сдавать его в аренду за бешеную плату. Так что все были счастливы.
Около восьми часов назад я добрался до этой хижины с моим таинственным незнакомцем, моим бледным, как воск, другом. Для родителей он – любимец, для бумаг – «икс-21», а для меня и для тебя он будет Томным. Томный? Да, это имя ему подходит. В чем его проблема? Ну, ему восемнадцать лет, он нем от рождения, а родился в семье, закосневшей в семейных традициях, имеющей большое влияние в финансовых кругах; по сравнению с ними, пожалуй, и эмиши [7]7
Эмиши – американские «старообрядцы», живущие общинами, сохраняя старинный быт и облик и отвергая техническую цивилизацию (электричество, автомобили). Название получили от имени бывшего меннонита Якоба Аммана, выходца из Германии (XVII в.), который бежал в Америку и, порвав со своей сектой, положил начало более строгому и консервативному учению.
[Закрыть]показались бы либералами. Слышишь, что я говорю, Сэд, – у этой семьи есть все: деньги, связи и власть, но чего у них нет – так это сына, которым они могли бы хвастаться на вечеринках, говоря: «А вот и наш преемник…» Я бы солгал, если бы стал утверждать, что они сразу обратились ко мне; люди вроде родителей Томного не имеют обыкновения вывешивать свое грязное белье на всеобщее обозрение, – ну, ты понимаешь? Они явились в мой тесный кабинетишко, уже испробовав в качестве средств излечения и церковь, и побои. Подтолкнув Томного к стулу, они сказали фразу, которая в их устах означала крик о помощи: «Сделайте его нормальным!»«Нормальным?» – переспросил я провокационным тоном.
«Таким, как мы».
Это было традиционное семейство, обратившееся за утешением к нетрадиционным методам.
Надо отметить, время они выбрали самое удачное: во-первых, как ты знаешь, у меня в голове бродят все эти теории, а во-вторых, я как раз ухитрился выбить себе комбинированный грант на путешествие и исследование одновременно – чтобы наконец ликвидировать пропасть между учреждением и окружением, чтобы взять на вооружение и психотерапию, и психологические исследования, словом, применить на практике передовую технику.
Так я написал в обосновании; и вот мы уже здесь, остановились в некоем зазоре между миром здоровым и нездоровым, в бревенчатой хижине у подножья гор Делонг. Картина, как говорится, полная. Только никому ни слова.
Что касается Томного, ты же меня знаешь, Сэд, – я сделаю для него все, что в моих силах, а заодно на славу постараюсь ради новой эпохи в психологических расследованиях. Между нами говоря, психотерапия умерла. Да здравствует психотерапия!
Я подивился тому миру, который создал себе Питерсон. Там нет места сомнениям или – того хуже – профессиональным сомнениям. «Ни о чем не сожалей, будь уверен в себе» – таков девиз нового поколения в психотерапии.
* * *
Я наблюдал за ним через пластиковое обзорное окошко, проделанное в брезенте, прильнув лицом к покрытой царапинами пластиковой поверхности и приказывая своим неугомонным ногам стоять спокойно. Было около одиннадцати часов ночи. Бет давно ушла, а Джози уснула на кушетке в моем кабинете. Ни я, ни она уже много дней не были дома. Бет позаботилась о припасах, снабдив нас таким количеством необходимой пищи и питья, что, казалось, этого хватит, чтобы продержаться в случае осады; по крайней мере, этого хватит, чтобы не покидать корпуса и целиком сосредоточиться на предстоящей работе.
Если он и слышал звук моих шагов по узкому коридору, то никак не отреагировал, да я и не ожидал, что он это сделает. Он не был кататоником; впрочем, не казался он и таким одеревенелым, как некоторые из тех бедолаг, что проходили через мои руки здесь и в других местах. Кататония – из той области, где реакция – мышечная или вовсе никакая; это был край, где искали прибежища отчаявшиеся или неудачники. Мне доводилось видеть пациентов-кататоников, которые вели себя как дети, получившие в подарок велосипед: оглашали воплями корпус или приемную, возбужденно двигались, – с той, разумеется, разницей, что в их случае никакого велосипеда не существовало. А еще были скульпторы, принимавшие форму собственных психозов (в Душилище имелось несколько таких пациентов): они преображали свою боль в странные, причудливые позы и подолгу, часами застывали в них. Целители, бывало, спорили, бились об заклад – сколько такой псих продержится в определенной позе, как долго можно сохранять ту или иную часть тела в столь немыслимом положении. Но Щелчок (мне сразу понравилось его прозвище, позволившее обходиться без ненавистных официальных имен из больничной документации) явно не вписывался в эту категорию и потому попал ко мне с поведенческой характеристикой, обозначенной как кататонический ступор. Это означало, что у пациента ослаблены по сравнению с нормой спонтанные движения, а реакция на внешний мир выражена очень вяло. Никто, кроме семьи, не знал Щелчка ни в каком ином состоянии или облике.
Прежде всего, он молчал. Никто не слышал от него ни единого слова с того самого дня, когда его забрали из родительского фургона; так продолжалось во всех учреждениях, в которых он с тех пор перебывал, вплоть до нынешнего момента, когда он сидит в своем отсеке холла, с безмолвным любопытством подбираясь поближе к углу за черной занавеской, где к его появлению было приготовлено оборудование для проявки фотопленок.
Наверняка мои коллеги из Душилища уже делали ставки, споря о том, скоро ли он заговорит, на самом же деле за этим скрывалось негодование: уж они бы – будь у них такая возможность – заставили его разговориться. А что именно из него польется – осмысленная речь или наркотический бред, – это их мало волновало. «Что, Сэд, и на второй день не заговорил? Ну, если тебе понадобится помощь от мальчиков и девочек из большой школы, дай нам знать.У нас-то он разговорится за 36 часов, считая несколько долгих перерывов на перекус».
Разумеется, я знал, что они сделали бы. Они бы начали осторожненько, подивились бы тому, как это он рос в фургоне, повосхищались бы тем, какой он взрослый, несмотря на пережитые трудности, и, разумеется, стали бы восхвалять его мастерское владение фотоаппаратом. Они бы обложили его со всех сторон и ждали бы подходящего момента, чтобы обрушить стену молчания, из-за которой наконец хлынет речевой поток. А потом они приступили бы к расспросам о его отношениях с матерью и отцом, искали бы признаки слабины на лице, нащупывали бы в его психологической броне бреши, в которые можно было бы внедриться.
Плановая практика 90-х. Психотерапия, «восстановленные воспоминания» как форма смертоносного оружия.
А если бы он продолжал сопротивляться, они бы напичкали его наркотиками, разумеется не трубя об этом всему миру и, скорее всего, даже не ставя в известность студентов-психологов, время от времени наведывавшихся в больницу. Эту сторону своей деятельности большие боссы из Душилища отнюдь не стремились афишировать. Пациенты вроде Щелчка, вскармливаемые учреждениями, по уши напичканные разрушительными для мозга наркотиками?… В его невозможном выздоровлении не было блеска, оно не оставило бы никаких бодро-улыбчивых фотографий для календаря за нынешний год. Однако экономический смысл в нем был: хчасов, затраченных на проработку и лечение пациента zпри затратах у средств, что сберегло wнеизвестно чего. Цифры вылеченного поголовья – вот что для них имеет значение.
Но не для меня, а потому и не для Щелчка. У нас времени хоть отбавляй.
Половина зала, отведенная Щелчку, находилась пока на ранних стадиях трансформации. В средотерапии вся хитрость в том, чтобы не воспроизводить знакомое окружение чересчур быстро. Многие пациенты были надолго разлучены с тем местом или средой, где произошла травма или несчастный случай, большинство, как и Щелчок, успело побывать в разных учреждениях, потому попытка внезапно создать вокруг них знакомое окружение – в надежде вызвать ощущение домашней обстановки и уюта – была бы лишена реалистичности. Их ощущение своего места в пространстве, а следовательно, и эффективность терапии, успех исследования оказались бы притуплены годами, проведенными в более стерильной обстановке.
Если отобрать у ребенка игрушку, а потом вернуть ее много лет спустя, она отнюдь не вызовет мгновенно тех чувств и эмоций, которые порождала когда-то давно. Для добротного исследования и, разумеется, добротной терапии требуется время. С каждым днем с момента своего появления здесь Щелчок подбирался все ближе и ближе к затемненному углу. В первый и второй день он просто сидел на матрасе, как неживой центр своего отсека помещения, сохраняя неподвижность и молчание. Легко понять, отчего его записали в молчуны. Словесная блокировка, вызванная травмой, – таков, скорее всего, был готовый диагноз, вынесенный в спешке лохами; с ним бы он и жил, такимбы он навсегда и остался, кочуя из одного заведения в другое, пока не оказался бы на улице. На третий день он обнаружил несколько электрических переключателей, которые я поместил туда для него – чтобы можно было приглушать верхний свет и включать и выключать красную лампочку за занавеской. Я оставил ему явную пищу для размышлений – так сказать, дорожку из хлебных крошек, которая тянулась к тому единственному углу просторного зала. Для начала я подсунул ему пособия по проявке и печати фотографий, он проглотил их с молчаливой жадностью, затем появились переключатели, с которыми он научился играть, – так что его половина зала стала напоминать ночной клуб, где по стенам плясали красные и белые огоньки, отражаясь отлакированного пола. Я знал: в конце концов он отдернет занавеску, и невидимые секреты его пленок просочатся в зал, в его голову – и в мое исследование.
В прошлом в этой части зала побывало не так много обитателей; это были кратковременные пациенты, оказавшиеся на полпути куда-либо еще, пациенты, чье назначение сводилось к тому, чтобы предоставить мне какое-то занятие, оправдать мои счета, – в ожидании той поры, когда мне наконец перепадут долгосрочные предметы исследования вроде Щелчка. Однако там уже имелось достаточное количество поврежденного добра – пробные прелюдии к большому эксперименту.
Помню одного мальчика – помладше, чем был Щелчок, когда его обнаружили в прицепе, но не старше, чем когда-либо была Джози. Прыгун – так назвала его Бет, но не потому, что у него имелась тяга к самоубийству и долгая история взаимоотношений с высокими зданиями и поспешными столкновениями с бетоном. Нет, с ним дело обстояло не так просто. Если бы все было так просто, Прыгуна до сих пор держали бы в главном здании, анализируя его расстройства до тех пор, пока не обнаружилась бы сотня причин, по которым ему хотелось распроститься с жизнью, и всего несколько драгоценных доводов против такого решения. Нет, свое прозвище Прыгун получил потому, что, если его не привязывали к стулу (или, как это делали в Душилище, где его держали на больничной койке, не обматывали ему грудь и ноги большими кожаными ремнями), он безостановочно скакал с места на место, покрывая пространство любого помещения, в котором оказывался, широкими прыжками – великанскими шагами то влево, то вправо. Было у него и другое прозвище – Нил Армстронг. [8]8
Нил Армстронг (р. 1930) – американский космонавт, первый человек, шагнувший на Луну 21 июля 1969 г. Есть кадры, где он прыгает в скафандре по лунной поверхности, чтобы показать, что там сила тяготения намного (в б раз) слабее, чем на Земле.
[Закрыть]Мои коллеги не располагали временем на то, чтобы возиться с ним.
Забирай его, Сэд, вот отличный материал для исследований. Только помни: шансов на излечение – никаких.
Конечно, они пробовали покопаться у него в душе, пробовали дознаться, зачем да почему ему взбрело на ум посвятить свою юную жизнь столь странному, антиобщественному поведению. Его переводили из школы в школу, но вел он себя все хуже и хуже. По мере того как он рос, врачи констатировали постепенное увеличение не только в ширине шагов, но и в их частоте. Таким образом, то, что поначалу, в младших классах, казалось просто забавным, хотя и эксцентричным, поведением, в более старших классах переросло в тревожную привычку, привлекавшую внимание и вызывавшую раздражение у окружающих. Учителя его третировали, сверстники колотили, а более чем выведенные из себя родители готовы были свернуть ему шею. Мать жаловалась, что ей постоянно приходится подтирать лужи на полу в уборной: прыгая из стороны в сторону, он вечно мочился мимо унитаза. Но этого мало: как заверяла она добрых докторов в Душилище, на полу в уборной оказывались еще и разбросанные кучки его дерьма. Отец же рассказывал о сумасшедших обедах или ужинах: если один из родителей не удерживал его силой на стуле, а второй не кормил насильно с ложки, то ребенок возбужденно скакал по кухне, разбрасывая куски пищи по полу и вызывая у обоих родителей головокружение.
Обычно санитарам приходилось доставлять наиболее упрямых пациентов в наш корпус или неся их на руках, или везя на кресле-каталке. Не таков был этот мальчишка. Из машины «скорой помощи» он впрыгнул прямо в корпус, и Бет, сохраняя поразительное хладнокровие, указала ему дорогу и помчалась впереди него, чтобы успеть раскрыть дверь в зал. Помню, как потом мы с ней наблюдали за ним через щелку в брезенте, а он скакал по залу из стороны в сторону, причем его бесстрастное лицо являло несообразный контраст столь энергичным движениям.
«Крепкие ноги», – заметила Бет.
Происхождение этих движений психологам из Душилища не удалось выяснить. Они задавали все свои избитые вопросы о семье, о доме и сновидениях; они старательно совали носы в его прошлое, его сексуальные желания, рылись в историях его родителей, но все это не давало ровным счетом ничего сверх той обычной, зауряднейшей картины нормальной жизни, о которой свидетельствуют и сами родители непослушного чада. Он всегда был таким тихим ребенком, доктор.Но вопросы свои они задавали, держа его привязанным к койке; они ободряюще-успокоительно похлопывали его по плечу, втираясь к нему в доверие, а он тем временем корчился и извивался на жестком больничном матрасе. Они так и не сумели увидеть леса за деревьями; не отступив от заведенного ритуала, так и не поняли, каким должен быть фон их расследования.
Это была игра, а шайка из Душилища оказалась или чересчур недогадлива, или чересчур толстомяса, или чересчур глупа – а может быть, все сразу, – чтобы нащупать подход к пониманию причин, скрывавшихся за телодвижениями мальчишки.
Прыгун был одним из самых краткосрочных постояльцев моего корпуса, отнюдь не являясь идеальным объектом того долгосрочного эксперимента по исследованию внутрисемейной сексуальности, который я задумывал, но, во всяком случае, он позволял мне как-то использовать это пространство, и к тому же встреча с ним оказалась для меня полезным прецедентом, modus operandi, [9]9
Способ действий, методы кого-либо или механизм действия чего-либо (лат.).
[Закрыть]послужившим черновиком для всех будущих экспериментов, кульминации которых я должен был достичь с двумя нынешними обитателями корпуса. Я создал для него в стенах зала осязаемый и реалистичный мир, и этот прыгун, Нил Армстронг, или как там его на самом деле звали, ознаменовал для меня поворотный пункт. Он побудил меня думать не только за пациента, но и за самого себя; мне предстояло отбросить фальшивую искренность безответственного терапевта.
Я создал особую среду для его лечения. Нарисовал на лакированном полу мишени, вроде мишеней для стрел – с черным кружком посередине, за который засчитывается 10 очков, красным кружком в 5 очков и внешним, синим, в 3 очка. Пока он беспорядочно скакал по всему залу, я начал перепрыгивать с одного кружка на другой, громко ведя счет, приземляясь то на черный, то на синий. Я замечал, как в его глазах появляется любопытство, замечал, как желание присоединиться к игре одолевает его, временно сбивая с ритма, а через несколько минут он уже скакал с круга на круг, следуя за моими шагами, тоже выкрикивая счет. Скоро, благодаря сильным ногам и мастерским прыжкам, он обставил меня: сначала сравнял счет с моим, а потом обогнал. На лице его читалось явное торжество.
Вот тогда – и только тогда – наступило время для расспросов. Время для ответов. Оказалось, что у него имелся дядя – спортсмен-любитель, прыгун в длину. Этот факт не был раскопан халтурщиками из Душилища или разглашен отцом мальчика – тот или вообще об этом не знал, или, быть может, опасался навлечь на себя какие-то обвинения, если бы кто-то установил подобную связь. Этот дядя брал мальчика с собой на прогулки по сельской местности, но, вместо того чтобы вести себя так, как положено старшему поколению родственников вести себя с младшим, дядя взялся тренировать племянника в искусстве прыжков в длину, причем не прибегал к обычным легкоатлетическим методам, а силком заставлял прыгать. Иногда, как позднее признался мальчик, ему приходилось перепрыгивать через десять костров подряд, и любой промах стоил ему ожогов на ногах; еще бывали ряды перекрещивавшихся ручьев – там ошибка наказывалась густой грязью и холодной водой, – но чаще всего он должен был скакать кругами вокруг дяди, а тот ударами трости награждал его за каждый слабый или некрасивый прыжок. Видимо, это продолжалось несколько недель, прежде чем мальчишка улизнул – и не просто сбежал от дяди с его мечтами о славе прыгуна в длину, а пропрыгал всю дорогу до дома и даже там отказался остановиться. Конечно, на этом решающем этапе ему помогла бы похвала или признание его успехов, но дядя был слишком амбициозен и слишком жесток, чтобы расточать похвалы, а родители – как и все остальные, кто общался с мальчиком, – были чересчур озадачены, сбиты с толку и рассержены, чтобы отметить, как ловко тот прыгает.
Когда счет Прыгуна перевалил за пятьсот очков, а мой застрял где-то на двухстах, мальчик вдруг остановился и сказал запыхавшимся голосом: «Я выиграл».
* * *
Мы с Джози поссорились. В конце концов, был субботний вечер – вечер «первой ступени», когда подразумевалось, что мы без остатка погрузимся друг в друга, позабыв о существовании остального мира. Словом, оторвемся по полной. Вы назовете это привычкой, тупицы из Душилища назвали бы отклонением, ну, а остальные люди – мерзостью. Для меня же все обстоит просто: делаешь то, что чувствуешь, поступаешь так, как думаешь. Джози – вот моя среда, мое социальное окружение, она – и причина, и основание. Она – непрестанный предмет исследования, долгосрочный медицинский случай, позволяющий мне изучать внутрисемейную сексуальность. Вы скажете, что мы близки. Сестринско-братское соперничество, сестринско-братская пылкость, сестринско-братская любовь. Все сразу. Я вышел из школы невмешательства в психологии; и я был – и остаюсь – ее верным учеником. Но Джози – да. Джози что-то почувствовала, ведь все-таки была субботняя ночь, а тот факт, что мы не возвращались домой уже целую неделю с тех пор, как в корпусе появились два новых пациента, только подливал масла в огонь.
Я заставил ее сказать: Нам надо побыть вместе.Но мне это не понравилось, я взял эти слова назад. Может, она и сказала бы так в ночь «третьей ступени», когда ей полагалось быть взрослой, с округлостями и с такими губами, которые могли в точности сообщить мне, куда совершать прыжок с разбегу. Но в эту ночь «первой ступени» Джози была вся жеманство и кудряшки, с тонкими ножками и плоской грудью, и у нее еще не было слов, чтобы отвлечь меня от работы, становившейся все более и более захватывающей. И потому я подумал и заставил ее сказать: Ты же говорил, что мы будем играть, ты говорил.… ТЫ ГОВОРИЛ!
Я только рассмеялся и тем рассердил ее. Дома, встряхивая кудряшками и раскачивая еще не оформившимися бедрами, она бы принялась швырять в меня подушками, а я бы прокрался к ней в комнату, чтобы подразнить ее ум и пощекотать пятки. Она, не говоря ни слова, бросала бы в воздух набитые перьями подушки в надежде, что хотя бы одна из них угодит в цель, то есть в меня. Джози не была глупа, она прекрасно понимала, когда кто-то смеется над ней, а не с ней, и это приводило ее в еще большее бешенство. И вот у меня в корпусе, у меня в кабинете она устроила такую же молчаливую истерику. Бет давно ушла домой, но Джози этого не знала, и я заметил, как в ней закипает ярость, когда я погладил ее по голове и сказал, что мне нужно пойти поглядеть на пациентов. Она принялась яростно колошматить меня в грудь, сжав свои ручонки в мощнейшие кулаки. Я схватил ее за запястья и начал крутить у себя над головой, а она ловко орудовала ногами, стараясь попасть мне в лицо. Ну, ну, ну, крошка… мы с тобой еще побудем вместе. Не расстраивайся…Джози не понравился мой тон, и я позволил ей высказаться. Ты только так говоришь, тебе на меня наплевать…Я люблю звук ее голоса; мне захотелось прибавить еще что-нибудь – образно говоря, покрыть вишневый торт глазурью. Ты меня больше не любишь…Притянув Джози к себе, я обвил свою талию ее ногами и положил руки на ее молочно-белые ляжки, пробормотав в ответ: «Я никогда этого не говорил. И никогда этого не скажу».
И запер за собой кабинет.
Я хотел проведать второго пациента-новичка, прибывшего в корпус пять дней назад, одновременно с Щелчком.
Та же процедура, которой я придерживался с Щелчком, относилась и к Дичку (способность социальных работников придумывать непочтительные клички своим «находкам» являлась одной из их немногих устойчивых способностей и, безусловно, одной из тех очень немногих, которые я удостаивал своим вниманием), но, хотя он провел в корпусе уже пять дней, я еще не встречался с ним напрямую. Как и с Щелчком, моей посредницей выступала Бет. Это она рассказывала ему, где он находится, что я – его врач, а также объяснила, что я очень надеюсь услышать о нем всё. Только и всего; впрочем, еще она вручила ему магнитофон. Теперь Дичок привыкал к своему новому окружению; поначалу его часть зала была оснащена все тем же голым матрасом, максимально далеким от личной истории юноши.
Это Питерсон посоветовал мне применить подобную тактику, которая, разумеется, вызывающим образом шла вразрез с общепринятой премудростью моих коллег из Душилища. Их бы привело в ужас такое промедление. Тебе нужно безотлагательно приниматься за пациента, Сэд, любая задержка может породить новые неврозы и растянуть сроки, отведенные для приемлемого излечения.Питерсон же, напротив, отметал все низменные требования вроде условий и сроков содержания; он не жил в столь практичном мире, и Бог да возлюбит его за это. Питерсон жил прежде всего в мире исследований, в мире чистой науки, а в этот край отнюдь не приводит торопливая погоня за результатами.
Предоставь их на время самим себе, сам определи длительность этого периода (если у них есть склонность к самоубийству, то, разумеется, за ними необходимо наблюдать любыми ненавязчивыми средствами, тогда они ничего над собой не учинят – разве что будут биться головой о стенку шесть минут кряду); однако наблюдение покажет, способны ли они действительно повредить себе, отделить свою душу от тела, или нет. Есть молчание – и есть молчание. Я никогда еще не встречал такого пациента, который был бы доподлинно, истинно молчалив. Ваши зануды профессионалы провозглашают состояние немоты, словесной кататонии там, где просто нет слов, но мы-то с тобой знаем, Сэд, что существуют тысячи способов дать себя услышать, дать себя понять, без помощи слов выразить почти все что угодно. Как в любви. Академики тратят слишком много времени на рассмотрение негативной стороны, когда дело доходит до постижения молчания; в сторону же любви они и голову не повернут, а ведь, черт побери, Сэд, – ты только погляди на любовь, на то, как там происходит общение, обмен эмоциями без помощи слов. К тому же в лечебнице рядом с пациентом всегда или фотокамера, или какое-нибудь записывающее устройство, – его никогда по-настоящему не оставляют в одиночестве; он пробыл в таком месте всего минут пять, а вот уже к нему подваливает какой-то несуразный и придурковатый третьеразрядный психоговорун и пристает с вопросом: «Ну, как мы себя чувствуем?» Полегче на поворотах, Лу Рид, [10]10
Лу Рид (р. 1942) – американский рок-музыкант, певец, композитор и продюсер; автор гимна всех трансвеститов Америки.
[Закрыть]говоришь ты такому типу; можешь смело влепить офигенную звонкую оплеуху всем, кто занимается подобной чушью. Единственная поговорка, которая, по-моему, тут уместна, Сэд, – это моя любимая: лишь бы веревки хватило… Понимаешь, о чем я?








