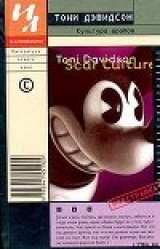
Текст книги "Культура шрамов"
Автор книги: Тони Дэвидсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Я одновременно подглядываю и подслушиваю, совершаю сразу два действия, необходимых внимательному исследователю. Вот ради чего я здесь, говорю я сам себе, вот почему рискую всем, идя на этот эксперимент. Тут ничего нельзя было бы добиться традиционными методами, в этом я себя уже убедил. Нужно лишь вглядываться в мрачное жерло туннеля, где спрятался отец Щелчка, чтобы понять, что мне делать; нужно лишь прислушаться к всхлипам Джейка, проступающим сквозь голос Дичка, чтобы понять, зачем мне это делать.
От этой парочки ничего нельзя было бы добиться типичными методами расспросов, с ответами «да/нет». Как и Питерсон, я считаю, что психотерапевт должен добровольно окунаться в мир пациента. Это школа Станиславского в психотерапии, это такой подход к делу, при котором врач погружается в мир, где утрата контроля – неотъемлемая часть конечного исцеления.
Всё. Я становлюсь на колени возле спящего Щелчка. Его грудь вздымается короткими вялыми движениями. Я раскладываю перед собой его последние снимки: вот мишка, так долго служивший тайником для этих картинок, вот ужасающий портрет отца, которого уводят за собой социальные работники… вот невидимая фигура его матери, пропадающая на горизонте в последний день, когда он ее видел… Я становлюсь на колени и увеличиваю громкость в плейере, чтобы полностью оказаться в мире Дичка. Его голос так же искажен, как и размазанный вид из окна машины Паники. У меня выступают слезы на глазах, когда я слушаю, как он хнычет и скулит и просит Джейка во что бы то ни стало вернуться. На Дичка сыплется удар за ударом, и кожу у меня на шее щиплет от пота и боли. Я вижу на стене фургона свадебные ножи и испытываю желание схватить нож и вонзить его отцу Дичка прямо в сердце…
Проходит немало времени, прежде чем я могу оставить помещение. Вначале мне нужно выбраться из мира Щелчка, сгрести его жизнь в охапку и освободить территорию от малейшего мусора. Очистить сцену, обнажить холст, прежде чем что-либо начнется. Потом вытряхиваю голос Дичка из ушей и проделываю такую же уборку в его половине зала. У меня есть, пожалуй, дня полтора на то, чтобы устроить эти два мира, и я уверен, что мне это удастся. Пациенты из Душилища окажут мне небольшую помощь.
* * *
Факс от Питерсона:
Вот что я должен рассказать тебе, и, наверное, тебя это отнюдь не приведет в восторг, – может, ты, наоборот, потянешься к телефону или ружью. Что я могу сказать? Психотерапия, а не просто дружба, должна отваживаться на риск. Я оставил в городе все свои тупые ухищрения, все эти избитые старые теории о том, как можно было бы заставить его разговориться, докопаться до первопричин его молчания. Мы в горах Делонг, штат Аляска, и я не мог бы придумать лучшего места для революционного прорыва.
Я взял с собой немного ЛСД. Средней силы кислота – так мне сказали, ссылаясь на авторитет одного парня, который знал другого парня, которому когда-то оказал помощь покойный и вечно недосягаемый Тимоти Лири. [16]16
Тимоти Лири (1929–1996) – американский психотерапевт, психолог, скандально знаменитый тем, что сам употреблял и использовал в своих опытах над добровольцами «психоделические вещества» – мескалин, ЛСД – и проповедовал наркотический рай.
[Закрыть]Да, рекомендация по меньшей мере дважды из вторых рук, но надо же хоть раз кому-то целиком довериться. Средней силы кислота, которой хватит на галлюцинации, на отличные веселые картинки, но не хватит на то, чтобы посадить тебя в танк и превратить в какого-нибудь жуткого недочеловека, это уже Уильямом Хертом [17]17
Уильям Херт (р. 1950) – американский киноактер.
[Закрыть]отдавало бы, а? Не тот фильм, неверное психоактивное суждение, но все-таки, полагаю, достаточно близко к истине. Думаю, это по-своему радикально – во всяком случае, сегодня, в наше суровое время, когда даже аспирин приходится держать под двойным замком, а вот в давнюю пору, в зените экспериментальных исследований, Лири, еще будучи мальчишкой, дергал за полы пиджаков целый полк ученых мужей, отстаивая мнение, что кислота – это врата в рай, это панацея, это единственно верный способ видеть мир во всей его отвлеченной полноте. Закон обрушивался на все зарождавшиеся идеи о том, будто ЛСД является потенциальным средством лечения от чего угодно – от депрессии до психоза. Но, говорю тебе, в моих глазах эти идеи по-прежнему радикальны, и, надеюсь, Томный понимает, что за важный шаг я предпринимаю. И я имею в виду не просто то, что рискую карьерой, рискую репутацией, – черт возьми, да достаточно всего одного иска от какого-нибудь недоумка, решившего, что ты не туда палец положил или не ту часть тела осмотрел, – и прощай работа, ну, да ты понимаешь, о чем я. Нет, я сейчас говорю о своем сознании. Последний раз я принимал кислоту, когда был еще новичком, совсем свеженьким огурчиком, которому уже не сиделось спокойно, которому хотелось забраться в подкорку братства, чересчур конформистского для меня. Однако скука, ставшая главным поводырем на пути к кислоте, так и не подготовила меня к расширению сознания, к лихорадке страха и отчуждения, к полнейшей и окончательной жути всего этого… Черт, Сэд, да я бы до потолка завалил твой кабинет бумагой, если бы взялся рассказывать тебе о кислотном периоде в жизни Уэйна Питерсона. Достаточно сказать, приятель, что кислота перевернула мою жизнь… И, полагаю, сейчас вся соль в том, что она должна перевернуть жизнь Томного.Может, ты и не захочешь читать следующее сообщение, – не знаю, Сэд, правда не знаю. Нужно ли мне объяснять разницу между незнакомцем, которому тайком подбрасываешь таблетку в стакан в местном баре, чтобы потом наблюдать, как он лупит бильярдными киями по нежнооким лосиным головам, и бледным Томным, из которого робость и внешний контроль полностью выкачали голос? Если я должен это объяснять, или если ты испытываешь профессиональное отвращение ко всему этому, – что ж, готовь бумагорезательную машину, вот и все, что я могу сказать.
* * *
В корпусе появились Клинок, Собачник, Синт и Лакомка. Их перевезли сюда из главного здания Душилища в белом грузовике, который день ото дня становится все серее и ржавее. Лохи из Душилища, и ровня, и начальство, с большим подозрением отнеслись к моим намерениям и засыпали меня множеством нелепых вопросов, видимо полагая, что я менее сведущ в их обычных процедурах, чем какой-нибудь студент-первокурсник. Мы здесь хорошо поработали над этой четверкой, Сэд, так что ты давай не путай им мозги, а не то мы тебе так напутаем.… На большее я, разумеется, и не рассчитывал. Глупо было бы надеяться на одобрительный хор. С одной стороны, они бы в штыки встретили применение на практике любой теории, если она не была еще до смерти избита у них, в Душилище, в палатах. Хорошие теориии не те, что скоро срабатывают, а те, что долго доказываются, – вот одна из поговорок, которые дождем проливались на мои уши. Но, разумеется, оборотная сторона сводилась к тому, что они просто завидовали: ведь передо мной открывалась полная свобода действий, и в стенах этого обветшавшего убогого корпуса, благодаря жалкому гранту, я был волен приступить к неким передовым (как сказал бы Питерсон) экспериментам.
Безусловно, имелся некий элемент мести в этой четверке присланных ко мне пациентов, отобранных наверняка не за их практические навыки и не за успешно пройденную реабилитацию, а за способность заморочить мне голову и запороть эксперимент. Клинок когда-то был продавцом-разносчиком, торговавшим всякой кухонной и хозяйственной утварью. Он мог бы иметь обычный набор благ – машину от фирмы, личные скидки и высокие комиссионные, если бы работал на должном уровне. Но увы, о нем нельзя было этого сказать. Видимо, продажа всяких скалок, затычек, опудривателей и мутовок абсолютно не интересовала его. Как говорилось в отчете, излагавшем биографию Клинка, к своей работе он был равнодушен и оживлялся, только когда дело доходило до демонстрации домохозяйкам и их мужьям первоклассных «сабатье». Несколько раз обеспокоенные клиенты, которым он наносил визиты, сообщали, что Клинок производил впечатление скучного, не умеющего убеждать продавца, и, если бы даже у них возникло желание купить тот или иной предмет домашней утвари, он им такого шанса просто не предоставлял. Зато очень скоро появлялись ножи, чуть ли не вылетавшие из своих деревянных демонстрационных коробок, и только лезвия сверкали в воздухе, когда он показывал, как правильно резать продукты на куски, ломти или тонкие ломтики. Мужчина он был крупный, больше шести футов ростом, и результатом его полных энтузиазма упражнений становилась отнюдь не продажа товара, а обеспокоенные телефонные звонки в фирму: люди жаловались на опасное рвение агента, при виде которого им делалось не по себе. Разумеется, начальство, устав от подобных жалоб, предпочло уволить его, не вникая в суть проблемы.
Как нередко бывает с теми, кого внезапно увольняют, он поплыл по течению, не в состоянии удержаться ни за одну даже самую случайную работу. Несколько раз его видели в местном парке: он прижмал к себе коробку с ножами – точно такими же, как те, которыми раньше торговал, – врученную ему в качестве прощального подарка кем-то из шутников в фирме. Надо же было додуматься! Насколько известно, он ни разу не воспользовался этими ножами – даже волоса со своей головы не срезал, не говоря уж о чьей-нибудь чужой; однако человек, разговаривающий, будто с любимой, с набором ножей, едва ли долго мог вызывать равнодушие посторонних.
Если в поведении Клинка была хоть какая-то изюминка (лучше держи от него подальше все острое, Сэд…), то Собачник казался потенциально менее надежным, зато явно более уравновешенным. Ходячая кома – таково было немилосердное определение его полукататонического состояния. Он представлял собой типичный случай человека, который был несчастен во внешнем мире, а во внутреннем пребывал в состоянии клинической депрессии. Маловероятно, что лопухи из Душилища побеспокоились бы выяснить, что за чем последовало, или попытались бы поставить верный диагноз. В бумагах, прилагавшихся к его истории, говорилось, что он вырос в доме, перенаселенном собаками всех мастей и размеров, всевозможных пород и помесей. Единственный ребенок в семье, он был тем не менее обделен вниманием родителей, куда больше заботившихся о своем собачьем выводке, чем о родном человечьем детеныше. И, разумеется, когда в должное время родители переселились в огромную конуру на небесах, Собачнику досталась их половина дома (в другой жили соседи) и двадцать с лишним собак, постоянно лаявших, блевавших и гадивших в этом тесном жилище. Можно догадаться, какая у него началась собачья жизнь. Если он не выгуливал собак (не больше четырех за один раз, по строгому расписанию), то кормил их, убирал за ними – и так, видимо, до тех пор, пока у него не кончились силы и деньги. Собак – безболезненно и, несомненно, из добрых побуждений – усыпили, причем тоже по четыре за один раз – очевидно, для того, чтобы сделать его вполне понятное горе менее безутешным и более постепенным. Впрочем, это уже не имело значения. После ухода родителей, после исчезновения собак им завладело всеохватное тупое оцепенение, и он естественно и добровольно сделался пациентом Душилища.
На остальных двоих я не возлагал больших надежд, хотя оба они, видимо, проявили какие-то строительные навыки в мастерской Душилища. Синт упекали сюда неоднократно, что часто вызывало удовольствие у персонала и пациентов больницы. Она была единственной из этой четверки, кого я уже встречал или, во всяком случае, видел. Оказываясь в больнице, Синт неизменно дорывалась до пианино и принималась бренчать первую мелодию, какая приходила ей в голову. Обычно она наигрывала какие-нибудь полуклассические отрывки или фольклорные песенки; звучали они вроде бы знакомо, однако никто не смог бы в точности сказать, что это за сочинения. Никто бы не назвал ее музыкальным дарованием: напротив, даже далекий от музыки человек сразу расслышал бы, что она делает множество ошибок, а иногда казалось, что ее куда больше интересует аудитория, нежели музыкальная партитура. Думаю, этот-то повышенный интерес к публике и привел ее в Душилище. Согласно отчетным бумагам, у нее была сильная тяга к представлениям – пусть даже в самой неподходящей обстановке; случалось, ее силком отрывали от порога, за который она отчаянно цеплялась, громко распевая: «Весело мы играем», на глазах у собравшейся публики – рассерженных и озадаченных соседей. А иногда она устраивала такие концерты не дома, а в парке, усаживаясь там со своим маленьким ансамблем – 25-ваттным «касио» – и распугивая голубей и сезонных завсегдатаев скамеек громогласным «Завяжи желтую ленточку». У нее был пограничный случай – я имею в виду не границу здоровья/болезни, нет, зачем так глубоко копать, она скорее находилась на грани приемлемого/неприемлемого социального поведения, потому что иногда, после таких импровизированных представлений, попадала на ночь в местный полицейский участок, где выступала источником развлечения (или пытки) для уголовной братии, однако чаще всего настойчивость Синт вызывала к жизни донесения, которые и привели ее в Душилище.
И Лакомка… Лакомка. Не могу сказать, что я был рад его появлению в этой четверке. Очередной безликий педофил, попавший на три месяца в Душилище для лечения и психической реабилитации перед тем, как отправиться в тюрьму Хард-Хилл для отбывания своего икс-летнего срока за непристойные приставания. Бумаги рассказывали о нем скупо и без особых подробностей. Типичный, лет тридцати пяти, гетеросексуал, охотник за малолетками, который зашел в своих действиях чересчур далеко, чересчур откровенно и бесстыдно, чтобы это могло кому-нибудь понравиться – меньше всего закону. Но, как мне сказали, Лакомка отзывался на требования больничного начальства с той же покорностью, с какой, как он явно надеялся, девушки должны были откликаться на его домогательства. За шоколадку он готов был на все.
* * *
Трое суток я держал Джози взаперти, под замком. После того как родители обнаружили мой ненормальный, как им показалось, круг чтения и книги по психологии детства и отрочества оказались задвинуты во второй ряд, за нечитанные комиксы, за мной наблюдали ястребиным оком, когда я сидел дома, зато, всячески поощряя, предоставляли полную свободу действий, если я уходил гулять. Поистине с глаз долой – из сердца вон. Но это продолжалось недолго: родители ни в коей мере не собирались урезать свою социальную жизнь, и вот уже спустя месяц, или около того, после учиненного мне тарарама они скатились к прежней рутине. Доверие к присущим мне, как они надеялись, в мои пятнадцать-шестнадцать лет самостоятельности и здравомыслию было восстановлено, и нас почти на все время оставляли в покое. А выходных нам вполне хватало на то, чтобы сполна предаваться интересовавшим нас занятиям.
Я прочел об экспериментах по лишению, которые ставил Югар в начале двадцатого века на юге Франции. Это была научная жемчужина, скрывавшаяся среди статистических таблиц, посвященных прорезыванию зубов и росту волос, которые часто встречаются среди работ о детском развитии. Франсуа Югар, обвиненный и впоследствии заточенный в тюрьму за свои незаконные эксперименты, имел удивительно высокие идеалы и был одним из виднейших детских психологов в стране, автором выдающихся работ по целому ряду предметов. Кропотливые заверения и банальности, господствовавшие в этой области знания, были не для него; не для него были и оправдательные утверждения, сочившиеся из всех университетов страны. Его с полным правом можно назвать пионером применения теории в действии.
Кроме того, он был заинтересованным и преданным завсегдатаем больниц, за что я его очень полюбил. В задокументированном случае, как, видимо, и в нескольких других, лишь вкратце упомянутых в книге, он поддерживал тесную связь с полицией и больничными источниками, поощрял всех своих информаторов – обычно с помощью подкупа или регулярных выплат – извещать его о любых случаях насилия или издевательств над детьми, какие происходили в его небольшом провинциальном округе. Вскоре один из осведомителей, работавший в больнице и обосновавшийся ради практики в главном городке округа, рассказал Югару о двух детях, которые, как было признано, пострадали от различных физических и моральных издевательств в результате пренебрежения со стороны взрослых. Этот случай немедленно привлек его внимание. Детишки оказались вовсе не подкидышами или беспризорниками, брошенными на произвол судьбы взрослыми, у которых не было ни денег, ни желания содержать их; в данном случае жестокость, по-видимому, не была вызвана социальными причинами и неблагоприятной средой. Эти дети росли в доме вполне благополучного вдовца-предпринимателя.
Югар был шокирован тем, что увидел в этих двух детях – двенадцатилетней девочке и тринадцатилетнем мальчике, – но в той книге, которую я читал, он не стал подробно описывать, несомненно, плачевное состояние детей. Его больше интересовало, что они могут рассказать о случившемся с ними; он вступил в переговоры с властями, и те дали свое согласие на то, чтобы Югар от лица государства расспросил детей, записал и свел воедино их показания. Это было взаимовыгодное соглашение, поскольку оно открывало Югару доступ к ценному источнику материалов и одновременно позволяло властям избежать лишнего шума вокруг скандальной истории и ее последствий.
Когда я прочел это место в книге, большая часть осталась для меня непонятной. Я был способным читателем, однако с трудом продирался сквозь языковые дебри и умственные нагромождения академических писаний. Впрочем, Югар, как и многие другие психологи, оказывался на высоте, когда излагал истории, связанные с его предметом.
Жюстин и Пьера продержали в погребе их дома почти целый год; это было тесное, сырое помещение с низким потолком под роскошным зданием особняка, принадлежавшего предпринимателю. Их запер там одним холодным зимним утром родной отец, попросивший отыскать какие-то инструменты, а обнаружил осенью следующего года садовник, сгребавший листья и услышавший крики о помощи.
Как это бывает со всяким, кто подвергался насильственному заключению, их внимание было поглощено рутиной; из рассказа пострадавших становилось очевидно, что со стороны предпринимателя такое обращение отнюдь не было пренебрежением, и дело вовсе не в том, что он тяготился заботой о детях и потому решил сложить с себя ответственность за них столь бездумным и варварским способом. Нет, тут крылось нечто другое. С нескрываемым пылом Югар рассказывал о том, что количество пищи, выдаваемой Пьеру с Жюстин, тщательно отмерялось: еды оказывалось ровно столько, чтобы они не умерли от истощения, но никогда не больше, так что они постоянно испытывали чувство голода. Иными словами, отец держал их на грани голодной смерти. Вдобавок он забавлялся, издеваясь над ними посредством жестокой игры. Пьер рассказывал Югару, что отец подходил к зарешеченному окошку погреба с задней стороны дома – единственному источнику уличного света – и наблюдал за ними снаружи, никогда не спускаясь в погреб. Может, он опасался, что дети нападут на него, предоставь он им хоть полшанса. Как бы то ни было, единственным способом общения, которое происходило между ними после того, как он запер дверь в погреб и выбросил ключ, были эти свидания у решетки. Иногда отец по нескольку дней не выдавал им ни еды, ни питья, а потом, когда подходило время кормления, вдруг выставлял перед окошком поднос, заставленный сочными деликатесами и кувшинами с чистейшим фруктовым соком. Вне досягаемости. Затем начиналась игра, не доставлявшая ни капли радости ни Пьеру, ни Жюстин. Отец пододвигал поднос к их протянутым рукам, а затем отдергивал его назад, когда они уже почти дотрагивались до какой-нибудь спелой груши. Так продолжалось день за днем, пока наконец, не заметив, что они уже находятся на грани опасной слабости, отец не уносил поднос с роскошными лакомствами и не заменял его хлебом с водой.
Иногда я засыпал с книгой Югара под подушкой, и у меня в голове рождались сны, навеянные и наполненные какими-то таинственными видениями. И все же, как я узнал позднее, столь многие пионеры от науки оказывались загнаны в подполье или попадали в тюрьмы, что, по-видимому, все, что осталось теперь в удел психологии, – это телесериалы и целая империя дурацких диагнозов, питающих временное успокоение.
Три.
– Когда ты меня отсюда выпустишь?
Я лежал под дверью спальни Джози и читал свои запрещенные книжки.
– Мне нужно в уборную.
Я это предвидел. У меня уже были емкости наготове.
Я приоткрыл дверь, оставив лишь узенькую щелочку, и торопливо просунул в комнату бутылку из-под лимонада и формочку для выпечки.
– Нет, это не годится, – хныкала Джози.
Но я-то знал, что рано или поздно она ими воспользуется, и уже через два дня у меня было две формочки и три бутылочки, полные отходов жизнедеятельности Джози. Она все время канючила, приставая ко мне с вопросами, что я собираюсь делать. Она знала о запрещенных книжках, даже соучаствовала в их тайном хранении, пряча у себя под матрасом. Она знала, что я занят исследованиями, но у нее была слишком сильная воля, чтобы просто купаться в отраженных лучах славы, когда речь шла о какой-то необычной деятельности. Она молотила кулаками в дверь, выкрикивала оскорбления и угрозы в мой адрес, требуя выпустить ее. Она оказалась крепким орешком, но ее бурная реакция лишь напоминала мне о том, что я, как Питерсон годы спустя, стою на пороге революционных исследований, а когда дело идет к революции, ничто не дается легко. Конечно, я убеждал ее в этом, я объяснял, что ее кал и моча станут основой неких новых, волнующих открытий.
«Что, что, что?» – выкрикивала она снова и снова.
По правде сказать – полагаю, нет ничего постыдного в таком признании, – будучи лишь новичком в подобных областях науки, я не имел ни малейшего, даже самого туманного понятия о том, что делать с собранными образцами и зачем они вообще нужны. Однако, держа в руках эти образцы, последний из которых еще хранил теплоту недавно покинутого тела Джози, я сознавал, что совершаю нечто важное и волнующее, и старался насладиться каждым мигом этого сознания. По крайней мере до тех пор, пока я не слышал, как подъезжает родительская машина, и не спешил спрятать все улики и освободить из-под замка Джози, чтобы на миг оказаться придавленным к полу вихрем ее гнева.
Четыре.
* * *
Клинок с Лакомкой протаскивали через узкую дверь мотки проволоки, Собачник с Синт отмечали серебристой «осветительской» лентой 15 квадратных метров в той половине зала, которую занимал Дичок. Собачнику и Синт были даны указания строго следовать линиям, которые я тщательно начертил на полу белым мелом. Когда двое санитаров-крепышей подталкивали ко мне всех четверых для «инструктажа», у Собачника был точно такой же унылый вид, как и в тот миг, когда он впервые переступил порог моего корпуса; у Синт, приступившей к работе с противоположного от Собачника угла, подергивались руки, а голова кивала в такт какой-то неслышной мелодии.
Керт, когда ты меня выпустишь?
Пять.
Потом я заговорил со своей строительной бригадой голосом пламенного и опытного распорядителя.
Десятое правило психотерапии гласит всегда говори таким тоном, как будто тебе известно, о чем речь.
– Все очень просто. У нас меньше тридцати шести часов на то, чтобы возвести два объекта, используя материалы, которые вы здесь видите. Эти два объекта – прицеп и машина, а основной стройматериал – проволока. Врачи из Душилища дали согласие на ваше участие в этой работе и считают ее частью назначенного вам лечения. Разумеется, по окончании работы вам заплатят за нее вознаграждение. Никто не ожидает, что вы станете работать даром, и никто не принуждает вас делать что-либо такое, чего вы делать не хотите. Но вы должны понять две вещи. Работа, которую вы здесь выполните, станет не просто частью лечения, но и подготовкой к дальнейшей жизни за пределами Душилища, а это крайне важно для всех вас. И еще: вы не должны повторять, описывать или упоминать ничего из того, что увидите и услышите в этом зале. Подумайте об этом так: вы ведь сами цените секретность, связанную с причинами, которые привели вас сюда, – ну, так отнеситесь с уважением и к желаниям этих двух людей. Во время вашей работы они будут находиться здесь же, под воздействием успокоительных, но все равно очень важно, чтобы мы ничем их не тревожили. Это понятно?
Клинок сверкнул глазами, Собачник уставился в пол, Лакомка пожал плечами, а Синт пробарабанила по стене такт 4:4. Санитары из Душилища оставили меня с четверкой, хихикая и подначивая друг друга, а один прилепил жевательную резинку на стену. Наука – ишь ты, приятель!
* * *
Шесть.
Джози, Джози, Джози… что случилось?
«Когда ты меня выпустишь?»
Я проходил мимо двери кабинета, неся целую кучу всяких приспособлений для воссоздания среды – крючки и материал для занавесок, позаимствованный на время из главного здания Душилища, разбитую видеокамеру, много раз пинавшуюся недовольными пациентами.
«Скоро, – проговорил я ей через дверь. – Скоро».
«Очень мило», – услышал я в ответ ее голос, хорошо подражавший голосу нашей матери.
Мне нравилось, когда она притворялась взрослой.
Когда-то дома повзрослевшая Джози – прошло уже много дней с тех пор, как я запирал ее в спальне, много дней с тех пор, как она согласилась участвовать в моих опытах, – явилась ко мне в комнату (родители давно легли спать), скользнула под простыню и нарушила молчание.
– Они свихнутся, если застукают нас вместе, – сказал я ей.
– Не застукают – они крепко спят. Я слышала папин храп.
– А что, если они ходят во сне?
– Ну, в таком случае я тоже.
Я улыбнулся.
– А ты неглупа.
Джози поглядела на меня и сказала с небывалой серьезностью:
– Никогда больше этого не делай.
– Чего – этого?
– Сам знаешь.
– Да опыт уже закончился.
– И каков результат, доктор?
– Еще не знаю. Чтобы обработать результаты, требуется время.
– А когда следующий?
– Тоже пока не знаю.
– Почему ты этим занимаешься?
– Люблю свою работу.
– Так всегда папа говорит.
– Знаю. Но я серьезно.
* * *
Клинок бросал на меня злобные взгляды из Щелчковой половины зала, сражаясь с лентой, липнувшей к его рукам то слева, то справа. Он оборвал ее зубами и передал Лакомке. В его резких, ломаных движениях чувствовалось острое недовольство, словно он знал, что эту работу гораздо лучше выполнять с помощью ножа. Лакомка не выказал ничего, кроме послушания, и без единого слова, без единой гримасы стал приклеивать ленту к полу, завершая первую сторону обведенного мелом участка.
Я сидел посреди зала, отдернув брезентовую штору, этакий прораб на стройплощадке в дурдоме. В уши мне шептал голос Дичка, как будто обращаясь лично ко мне: О чем тебе мечтать? – а потом смолк, – во всяком случае, слова прекратились.
На каждой из кассет Дичка, независимо от длины записи, имелись длиннейшие провалы, когда до моего слуха доносилось только его тяжелое, затрудненное дыхание и гулкое шарканье ног по паркету. Иногда он просто забывал выключить запись, и мне оставалось тщетно вслушиваться в длинные, длинные паузы, повисавшие между его оборванными фразами. Записки Щелчка порой было так же трудно разбирать: например, он исписывал целую страницу подробностями съемки какой-то одной фотографии, а затем все зачеркивал и принимался писать снова, втискивая новый текст на ту же страницу. Зато изображения его были кристально-ясными, лишь немногие оказались слишком темными, чтобы разглядеть какие-то детали. Я заметил, что эти несколько зачерненных отпечатков были отложены в сторонку, и их не сопровождали никакие пояснения. Три фотографии, три пустых листа бумаги, висевшие отдельно от всех прочих снимков.
Где-то в его молчаливом мире хранятся образы этих фотографий. Невыраженные, непроявленные, они тем не менее существуют.
Одиннадцатое правило психотерапии гласит: психотерапия – это не наука, а развлечение.
И гул мотора, один только гул мотора – больше я ничего не слышал.… Голос Дичка хрипит мне в уши, а Собачник с Синттем временем глядят на грубый набросок, где я попытался изобразить автомобиль, и начинают гнуть и крутить проволоку, чтобы сделать из нее основу чудовищной Дичковой машины. А в другом конце зала я вижу, как Клинок с Лакомкой силятся связать два длиннейших отрезка проволоки, которые станут внешним каркасом фургона. Я нагибаюсь и, не выключая Дичка, обвожу круг с помощью серебристой ленты. Контрольный круг– так это называлось в полузабытых уже лекциях и книжках. В опытном исследовании, где динамика ситуации меняется мгновенно, зачастую без малейшего предупреждения, важно, чтобы врач был подготовлен.Внутри круга я помещаю все свое снаряжение. Такое снаряжение – агрегат для сухого льда, факс, канистра с бензином, магнитофон, плюшевый мишка Щелчка, запасной «уокмен», гибкий манекен с движущимися конечностями, изображающий мальчика 10–14 лет – было необходимо для средотерапии, как и сама проволока, из которой можно было воссоздать любую обстановку, какой требовали пациенты. В данном случае это были автомобиль и фургон, другим средотерапевтам доводилось сооружать туалет, классную комнату, даже аэроплан для одного заядлого любителя высоты.
Контрольный круг, помимо того, что будет служить средоточием механизмов наблюдения, рассматривается еще как нейтральное пространство, как участок в пределах общей среды, куда в случае необходимости может удалиться исследователь.
Пациенты из Душилища глазеют на то, как я работаю, а я только улыбаюсь и барабаню по циферблату наручных часов.
Вот свободная терапия в ее чистейшей форме!
Семь.








