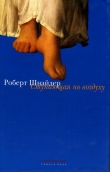Текст книги "Стужа"
Автор книги: Томас Бернхард
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
День тринадцатый
«Достаточно услышать какое-нибудь имя, чтобы тут же отгородиться броней. Так, кому-то представляется такой-то человек, и на этом человеке уже поставлен крест. Он уже не сможет заявить о своих желаниях, ему уже не выбраться из ямы, в которую мы его затолкали. Как бы ни выказывал он потом себя перед нами, мы воспринимаем это как наглую саморекламу неугодного нам субъекта, чего-то элементарно неаппетитного. Вот и я, – сказал художник, – тотчас же с отвращением шарахался, стоило мне представить себе инженера, и тут же через люк отправлял его в яму. Еще когда я только услышал его имя впервые, меня чуть не вытошнило. С представлением об имени у меня сразу каким-то ужасным образом связалось представление о личности, и я понимаю, что не обманулся, столкнувшись с ним лицом к лицу. Никогда не обманываешься, когда, пожевав и выплюнув какое-то имя, видишь человека, который ему соответствует». Если же человека видишь прежде, чем узнаешь, как его зовут, то имя всегда окажется под стать. «Для того чтобы узнать, что за человек перед тобой, в большинстве случаев достаточно узнать только его имя, уж поверьте». В именах содержится всё, что необходимо знать. Чаще всего те имена, которые раздражают, образуют некую связь с человеком. «Человек, соответствующий своему имени, никогда его не подведет. Есть имена, от которых при первом же упоминании воротит сильнее, чем от самого тошнотворного порошка. Так случается, когда друг называет тебе имя одного из своих друзей, с которыми ты еще не знаком. Вы еще не наблюдали ничего похожего? Имена лепят людей».
Я как-то совсем забыл, для чего торчу в этой дыре. Забыл, что должен копить наблюдения. До меня это внезапно доходит где-нибудь в лиственничном лесу, когда я замечаю в художнике какую-нибудь странность, посреди дороги или в зале, когда он вдруг делает большой глоток молока, совсем как здоровый человек, в чем, правда, вскоре раскаивается. Это доходит до меня, когда я забредаю в дебри мыслей, которые своими истоками восходят к художнику, когда я совершенно отвлекаюсь от самого себя, удаляясь в зону чужого сознания. И я знаю, что мне не додуматься ни до чего иного, кроме вещей, которые я просто вижу. Нечто в этом роде я попытался объяснить ассистенту в моем сегодняшнем письме. Знаю я и то, какой здесь мрак, даже в солнечные дни. Какую боль причиняет мне порой слово, которое я произношу. Которое слышу от других. Бывает и такое. Я одиноко бреду через деревню и хватаюсь за суждения о людях, так оно и есть. А в небе, которое граничит «с ничем», не так. Стало быть, я – в аду и должен, собственно, помалкивать. Художник говорит, что это всё так непонятно, потому что человечно, а мир бесчеловечен, значит, понятен и глубокопечален. Он не разрывает это слово. Именно «глубокопечален», и так же это произносится для меня, его слово должно войти в души всех людей. Красота чревата опасностью так же, как тьма «раскрепощенностью страстей». Порой я просто иду на ту сторону, к сенному сараю, и представляю себе, как он там сидит и удаляет меня за пределы бытия просто одним только взглядом. И я снова вспоминаю о своей миссии. Собственно говоря, мне бы не помешало составить схему, что-то вроде таблички, и с ее помощью привести в систему всё, что относится к этому делу; ежевечерне перемещать какие-то величины с самого верха вниз, какие-то – с самого низа вверх, чтобы слишком высокое оказывалось слишком низким, и наоборот. Но ведь это, наверное, всего лишь видения, просто видения, которые даже систематизировать нельзя. Но почему система невозможна? В том, что касается моих наблюдений за художником. Разве я наблюдаю за ним? Я просто смотрю на него. Разве не наблюдаю, глядя на него? Ведь не могу же я смотреть, не наблюдая. А что будет потом? С довольно беспомощным видом я явлюсь пред ясные ассистентские очи и ничего путного сказать не смогу. Он себе думает, что через какое-то время я вернусь в Шварцах и выложу ему целый ворох наблюдений: видите, какая вырисовывается картина! Вот что он говорил! Я наблюдал по всем правилам! Ошибки исключены! Я не предполагал столь печального расклада, но это так! Понимаете?.. Нет, я уж точно не смогу и пары слов связать. Хотя всё ясно, как божий день. И еще какой ясный день! И тогда всё. И тогда воцарится молчание, всё упрется в тупик. И насколько иная получится картина, если я буду вычитывать ее из своих записей. Ибо в записанном нет правды. Никакая запись не передает истину. Ни на что не может претендовать. Даже на точность, даже если всё фиксируется при безупречном знании предмета, с ощущением полной ясности задачи. В лучшем случае картина будет менее искаженной. Но всё же искаженной. Какой-то иной. Стало быть, неистинной.
Я открыл дверь в его комнату и застал художника зарывшимся в газеты. Я увидел – а он сидел позади кровати перед картиной с пейзажем, который мне до сих пор не удалось истолковать, это было буроватое полотно с черными пятнами, которые можно было бы счесть домами, но с таким же успехом и деревьями, – я увидел только газету, но газета закрывала его. Не отрываясь от чтения и даже не взглянув на меня, он заставил меня опуститься в кресло, до которого я успел дойти. «Я читаю интересную статью о шахиншахском дворце в Персии, – сказал он. – Вы знаете, эти люди, должно быть, имели столько денег, сколько нам не под силу даже вообразить. Кстати, я прочитал сообщение о встрече министров иностранных дел России и Франции. Ситуация более чем странная. Вы, собственно, интересуетесь политикой?» – «Да», – подтвердил я, как нечто само собой разумеющееся для молодого человека. «Я-то уж совсем не интересуюсь, – сказал он, – этими, в сущности говоря, политическими махинациями. Но было время – не такое уж давнее, – когда я, точно голодный, набрасывался на всякую информацию политического свойства. Ведь, что ни говори, политика – единственно интересное в человеческой истории. Политика дает всему конкретное наполнение духа. Да, да! Теперь я, как вы знаете, живу анахоретом и слежу за всем лишь от случая к случаю. Но о совещании дипломатов вам непременно надо прочитать. И еще, если у вас есть желание, я бы порекомендовал вам, поскольку вы еще молоды и должны впитывать всё, статью о шахиншахском дворце. Вы ведь знаете историю "павлиньего трона"?» – «Да», – ответил я. «Тут о ней вкратце говорится». Газеты, по его мнению, – величайшее из чудес света, они всеведущи, и только благодаря им мир и вселенная действительно живы для человека, представление об универсуме не угасает лишь благодаря газете. «Вы всё еще не взяли у меня последние номера. Может быть, захватите?» В комнате было почти темно и так душно, что с трудом дышалось. Я решил тут же уйти. «Разумеется, надо уметь их читать, газеты, – рассуждал художник. – Их нельзя глотать наспех и нельзя воспринимать слишком серьезно, но всё же надо видеть в них чудо». До сих пор он еще не показал мне своего лица. «Чудо в том, что клочок бумаги несет информацию обо всем мире, и ты становишься сопричастным, если угодно, при этом не делая ни шага, может, даже не вставая с постели! Это ли не чудо? – воскликнул он. – Грязь, в которой обычно упрекают газеты, это грязь человеческая, а не газетная. Понимаете?! Газеты делают благое дело, показывая в своем зеркале человека таким, какой он на самом деле, то есть отвратительным!» Иногда, а стало быть, всегда и всюду через газеты можно разглядеть даже «красоту и величие человека. Чтение газеты – это, как говорится, искусство, овладение которым есть прекраснейшее из искусств, к вашему сведению». Тут он опустил газету на колени, но тем не менее я так и не увидел его, поскольку в комнате стало вдруг совсем темно.
О том, как он четыре месяца подряд корпел над полотном, чтобы выработать почерк, он рассказал мне сегодня. Потом, через четыре месяца, он сжег полотно. «Недурная получилась картина. Но рука мне не удалась». В отличие от других художников, вынужденных работать в светлых помещениях, он мог писать только в основательно затемненных. «Должно быть совсем темно, тогда я могу работать. Только в полной темноте. Чтобы и маленький лучик не пробивался. Но теперь уж я не пишу вовсе». Прежде чем приступить к работе над новым холстом, он целыми днями шатался по городу, переходя из кафе в кафе, из района в район, часто разъезжал часами в электричках или на трамваях, катался от кольца до кольца в автобусах, совершал по городу целые пешие походы без пиджака, мешался с толпой рабочего и базарного люда, перехватывал где-нибудь на углу бутерброд с мясом, и снова сидел в кафе, и снова куда-то шел вдоль длинных серых заборов промышленных свалок, по виадукам, через детские площадки, заворачивая в молочные и скверы. «Нередко я делал привал в каком-нибудь туалете, там я переодевался. Я переодевался три-четыре раза на дню. Всегда таскал в портфеле три комплекта, чтобы можно было переоблачиться». Предвечерние часы он коротал на вокзалах, рассматривая людей, поезда. «Вокзалы, особенно старые, безобразные, щедро питали меня впечатлениями, еще с детства». Под конец он входил в кабину лифта и поднимался в свою мастерскую, прямо во мрак. Ведь во время работы он видел свое полотно, только когда было темно. Прежде чем начать, он отключал дверной звонок, запирал всё, что имело замки и двери, и снимал с себя всё, кроме рубашки. «Картина возникала сама собой по воле моего искусства», – сказал он. Целыми днями он не ложился в постель, обходясь двумя большими креслами, между которыми то и дело слонялся. Не знал, ночь или день за окном, не мог сказать, какое сегодня число. Осень на дворе или весна, зима или лето. Когда ему казалось, что картина готова, он раздергивал шторы, да так резко, что свет ослеплял его и он ничего не видел. «Только когда глаза постепенно привыкали к свету, мне становилось ясно, что ничего не получилось, – сказал он. – Что это опять был лишь подступ к чему-то такому, что обошлось со мной как с собакой, что в итоге – ничто, ничто, ничто, ничто!» Все эти холсты он совал куда-то за переборку, откуда друзья – «друзья»? – время от времени вытаскивали один-другой, чтобы отправить владельцу салона, отдать на фотосъемку, на суд критики. «Мои картины всегда имели хорошие отзывы, только не с моей стороны, – сказал он. – В сущности, никто их и не критиковал, а сегодня люди, имеющие дело с искусством, беззубы, как никогда. Наверное, меня раздражала беззубость критиков, может, поэтому я и не стал хорошим живописцем?»
«Знаете, – сказал Штраух, – всё это искусствоиспускание, эта богемогамия, это всеобщее художественное тошнотворчество – всё это, к вашему сведению, всегда отталкивало меня; эти кучевые наплывы самого низкого инстинкта самоублажения и зависть… Зависть сбивает художников в стаю, только зависть, ничего, кроме зависти, все завидуют всем и во всем… Я как-то уже говорил об этом, я мог бы сказать, художники, артисты – это дети превратности, эдемского бесстыдства, это баловни разврата; все эти художники, писатели, музыканты – вселенские рекруты онанизма, самые мерзкие ее конвульсанты, ее язвенные отметины, ее гноероды… Я бы сказал: художники – это великие тошнотворцы нашего времени, они всегда были великими, величайшими блевостимуляторами… Разве это не орды шутов, отбросов общества. Весь инфернализм бессовестности мне всегда открывался в связи с мыслями о художестве… но я не хочу больше этих мыслей, таких противоестественных мыслей, я не хочу больше иметь дела с художниками и искусством, да, с искусством – великим мертворождением, самым грандиозным из всех выкидышей… Поймите: я хочу вырваться из струи этого гнусного запаха… Из этой вони. Я всегда говорю себе это и думал всегда, думал про себя, свернуть с этой стези, со стези всеразлагающей, всё перемалывающей бесполезной лжи, со стези этого бесстыдного паразитства…» Он сказал: «Художники – однояйцевые близнецы лицемерия, двойняшки низости, санкционированной эксплуатации, самой грандиозной на свете. Художники, как я убедился, все до единого пошляки и хвастуны, ничего больше…»
В лавке я вдруг сообразил, что вновь начались школьные занятия. Всё мрачное помещение было наполнено детьми, покупавшими тетради, книги и карандаши, а взрослые выбирали для своих первоклашек перья, чернила, бумагу для рисования; они ворчали и перешучивались, вываливая на прилавок полные горсти монет. Девчушка в черном платье, дочка хозяйки магазина, не успевала считать сыпавшиеся на нее монеты, которые ребята копили, наверное, весь год. «А еще карандаш!» – «Еще одно перышко!» – «Еще такую же!» – «Нет, не в линейку!» – «Только не синюю, красную дайте!» Мне нужен был карандаш, и я начал протискиваться к прилавку, но потом решил, что можно и в очереди постоять. Как густо перемешались в этом тесном, почти темном помещении нежные и тяжелые запахи, испарения детских и недетских тел! В самой глубине – крошечное оконце, через которое виден снег. Я забрал свой карандаш и вышел на свежий воздух. Тут я встретил живодера, он волок за собой коровью шкуру. Ее, сказал он, подарил ему мясник, живодер доставит ее домой, отдаст продубить, а потом постелет перед кроватью. Коровья шкура – отменно теплый прикроватный коврик, пояснил он. Утром он был на стройке, где, как договорились, встретился с инженером. Тот его везде поводил. Они зашли в столовку и отлично порубали. «Там еще дешевле, чем в гостинице». Он поинтересовался, не кажется ли мне, что художник слегка не в себе? «Нет, – ответил я. – Такой же человек, как и другие». Может, оно, конечно, и так, но ему, живодеру, он кажется сумасшедшим. Он явно «не того» с тех пор, как снова здесь появился. «Будто в Вене с ним несчастье какое приключилось», – сказал живодер. «Да, – согласился я, – он странноват, но не в какой-то необычайной степени». Вчера он видел художника в церкви, тот сидел на самой передней скамье и всё головой качал. Живодер постарался не попадаться ему на глаза, чтобы продолжить за ним наблюдение. Художник вдруг встает, подскакивает к алтарю и потрясает кулаком перед дароносицей. «Потом вышел из церкви – и вниз, к пруду». Еще живодер добавил: «А в лощине тоже был как рехнутый». Я не стал более задерживать обладателя коровьей шкуры, оставлявшей на снегу кровавые пятна разной величины, и направился к булочнику разменять сотенную, чтобы расплатиться за пиво, выпитое мной за последние дни. На улице я встретил художника, на нем был «красный артистический жакет». «Хочу сегодня еще разок напугать себя. Напугать себя и весь мир, – сказал он. – В этом красном наряде я кажусь себе самым великим шутом всех времен. И люди мне верят. Давайте-ка поспешим на ужин».
Вечером, когда художник уже ушел, живодер с хозяйкой запели песни. Живодер по-бычьи ревел:
Сквозь рот, сквозь зад
Тянет черт канат,
А тот, чей рот,
Толстеет, урод.
И еще он пел:
Утро, полдень, вечер…
Что скажет на это ночь?
Что скажет темная ночь?
Еще во время ужина художник вдруг встревожился: «Прислушайтесь! Слышите?» В жутком шуме колбасного и пивного обжорства он произнес: «Слышите? Собаки». Я их не услышал. Но он не отступался и так, чтобы этого не заметили наши соседи по столу: инженер, живодер, хозяйка и подсевший к ним жандарм, шепнул мне: «Слышите? Собаки! Вы только прислушайтесь: собачий лай». С этими словами он встал и пошел к себе. Когда я последовал за ним и остановился вблизи от сеней, сквозь открытую, наполовину вмерзшую в снег дверь гостиницы до меня донесся протяжный собачий вой. И лай. Нескончаемый вой, в который врезался лай. Там, впереди, выли и лаяли, а за спиной хохотали, блевали и лупили по столу картами. Впереди собаки, позади – клиенты гостиницы. Сегодня мне не уснуть.
День четырнадцатый
Он, ассистент, без всяких сомнений считает меня абсолютно подходящей фигурой, чтобы такое задание, как слежка за художником Штраухом, выполнить без вреда для себя. Без вреда! «Кому может повредить наблюдение за человеком, который страдает?» – сказал он. Стало быть, ему ясно, что его брат страдает. Но какон страдает, ему неведомо. Страдание художника выше его, ассистента, понимания и воображения. Насколько глубоко страдает художник? Можно ли измерить глубину чьего бы то ни было страдания? И когда оно достигает критической глубины? Ассистент отрядил меня, будучи уверенным, что я способен противостоять опасным для меня влияниям. Да, разумеется, надо отсекать влияния людей, с которыми имеешь дело, вынужден иметь, нельзя оставлять никаких лазеек. Справляться с ними зачастую так нелегко. Если быть начеку, их нельзя не заметить, опасность будет выявлена и встречена во всеоружии. В обществе художника я, естественно, испытываю дурные влияния постоянно. Но я умею распознавать их и различать, где они начинаются и где они благотворны, а где нет, ибо дурные влияния могут быть и благотворными. Возможно, знакомство с художником возымеет на меня действие долгое время спустя. Не сейчас. Подобно тому как влияния, испытанные в детстве, сказываются на мне только теперь. Впечатления восьми-, девятилетнего ребенка нежданно-негаданно преображают тридцатилетнего. Это как некое пигментное вещество, которое со временем окрашивает воду глубокого омута. Разве не так? У художника есть за что уцепиться, еще как есть. Он не из тех, кто совершенно замкнулся в себе. К нему можно найти множество подступов, но только совсем не там, где ищешь, где предполагаешь их обнаружить. «У меня строгая совесть», – говорит он. Что он имеет в виду? И что у него на уме, когда он изрекает: «Действительность никогда не находит сочувствия»? И всё это говорится про себя, не для чужих ушей и вроде бы без всякой связи с тем, что он сказал раньше и будет говорить потом, я и в самом деле не понимаю, о чем он. Лучшие идеи и впрямь посещают его во время прогулок. На свежем воздухе. В гостинице или в каких-то иных стенах он совершенно уходит в себя, с ним можно просидеть час и дольше и не добиться ни единого слова. Однако способность молчать и слушать, даже когда все вокруг молчат, дана мне от рождения. У нас дома безмолвие длилось нередко целыми днями, нарушалось оно разве что вопросами по поводу тарелки, или карандаша, или какой-нибудь книги. Сейчас мне уже не так трудно ходить настолько медленно, насколько это устраивает художника. Ведь вообще-то я привык бегать, привык к быстрой смене впечатлений и не сразу научился подолгу топтаться на одном месте, рассиживаться, отдыхать. Для меня художник – большая проблема, с которой надо справиться. Определенное задание. Для него?
Что это за язык такой, язык художника Штрауха? Как мне быть с осколками его мыслей? То, что поначалу казалось мне разорванным, бессвязным, имеет свою «поистине чудовищную связь». В целом это всеужасающая словесная трансфузия в мир, в человеческое множество, «бесцеремонный нажим на слабоумие», чтобы поговорить с ним самому, «достойная воспроизведения перманентная интонационная основа». Какэто записывать? Чтобрать на заметку? До какой степени схематизировать, приводить в систему? Эти словоизвержения обрушиваются на меня камнепадом. Он то и дело обрывает свои рассуждения взрывными разрядами смехотворности, которую «всё вновь открывает в себе и в мире». Язык Штрауха – нечто вроде языка сердечной мышцы, проклятый, звучащий вразнобой с мозговым ритмом язык. Это ритмическое самоумаление под «треснувшим сводом собственного глубинного слуха». Его понятия, приемы обнаруживают принципиальное созвучие собачьему лаю, на который он с самого начала направил мое внимание и которым меня «обращал в пыль». И язык ли это вообще? Да, это двойное дно языка, ад и рай языка, это мятежное буйство рек, «дымящиеся словоноздри всех мозгов, отчаявшихся в беспредельном бесстыдстве». Иногда он читает вслух какое-то стихотворение, тут же рвет его на части, привязывает это к какой-нибудь «электростанции» и говорит о «переводе на казарменное положение идейного мира бессловесных корней, нуждающегося в воспитании», по его выражению. «Мир – это мир новобранцев, их надо построить в ряды, научить стрелять и прекращать стрельбу». Он вырывает из себя слова, точно вытягивая их из трясины. И при этом рвет в кровь самого себя.
По его свидетельству, война оставила страшные следы во всей долине. «Еще и сегодня натыкаешься на черепные кости или целые скелеты, которые лишь слегка занесены хвоей», – говорит художник. В лесных урочищах, вблизи ущелья, за озером да и в лиственничном лесу рассеянные полки умирали от голода. «В конце концов их добивала стужа. Кое-кому, но очень немногим удалось спастись, остальные были слишком слабы, чтобы добраться до ближайшей из деревень. Но об убийстве солдаты не помышляли». Убийство было ремеслом «темного сброда с Востока». Да и арестанты из близлежащей тюрьмы изрядно полютовали, и многих пропавших, которые бежали и не вернулись, находили потом повсюду в кустах и среди камней. «Сколько раз во время сбора брусники кто-нибудь из детей поднимет, бывало, крик, подбежит к матери и потащит ее в заросли белокрыльника. А там находят человека, обнаженный труп, с которого несколько лет назад они сорвали одежду. Голод делает человека зверем». В конце войны леса были захламлены военной техникой: танки, дозорные машины, пушки, мотоциклы, автомобили на каждом шагу торчали между стволами. «Некоторые взрывались, стоило только прикоснуться. В танках часто находили трупы солдат, слепившихся на полу в один комок, с разорванными легкими. Те, кто открывал люки, делали страшные открытия, – рассказывал он. – Понемногу набирались смелости, стали расковыривать технику и начали хоронить мертвых солдат, тут же на месте присыпали их землей, на кладбище перевозить не хотели, уж очень они были чужие. Трупы рассыпались при первом же прикосновении, время и воздух сделали свое дело. В ямах дети находили взрывоопасные фаустпатроны, которые разносили их в клочья, вы только вообразите себе лоскутья детских тел на деревьях. Мужчин в расцвете сил можно было увидеть раздавленными тяжестью пушечных колес. В лощине были разбросаны тела гренадеров с вырванными языками, с воткнутыми во рты членами. На деревьях, куда ни глянь, – куски изрешеченного обмундирования, из бочага торчали закаменевшие руки и ноги. Прошли годы, пока местные не привели леса в порядок, да и во всех здешних краях тоже этим занялись. Сначала в лес ходили только затем, чтобы поискать в танках чего-нибудь съестного, разжиться всякими полезными вещами, говорят, даже перешивали кое-что из обмундирования и носили эту одежду годами. А потом уже стали ходить в лес, чтобы, как говорится, прикрыть мертвецов или то, что от них осталось, поскребя вокруг граблями и лопатами, лишь бы стереть следы. Но следы войны еще не стерты, – сказал художник. – Эта война никогда не будет забыта. Людям не избежать встреч с ее отметинами, куда бы они ни шли».
«Знаете, что мне сказал сегодня художник Штраух?» – этим вопросом, в котором не было ничего вопрошающего, ошарашила меня сегодня хозяйка, когда, постучав в дверь, вошла в мою комнату, чтобы привести в порядок постель. Она стала подбрасывать к потолку подушку. Пуховое одеяло вытрясла у открытого окна. «Думаете, что?» – сказала она, покончив с постелью и перейдя к умывальнику и кувшинам с водой. Потом налила воду в стакан на столе. Она нарочно затягивала уборку, чтобы с чувством и обстоятельностью изложить мне, что же такое художник Штраух, «лежа в постели, даже неодетый, хотя было уже девять!», сказал ей сегодня. «А сказал он, что, не ровен час, удивит меня, когда я застану его мертвым на этой самой постели». Она, конечно, посмеялась и решила, что художник с ней шутки шутит. Но потом по лицу поняла, что он это серьезно. «Мне, ясное дело, не хотелось бы покойника в доме». Хозяйка вышла из комнаты, но тут же вернулась: «Забыла про окно-то». Она закрыла окно и встала у двери с таким видом, будто ждала от меня разъяснений. «Надо же отчебучить такое, людей такими делами стращать, – сокрушалась она. – Он вообще нынче чудной какой-то. Что с ним? Не знаете?» Я ответил, что не знаю, понятия не имею. У художника свои проблемы. Но какие именно, не знаю. «Его как подменили. А мне было бы, право, жаль, если бы он даже просто захворал», – сказала она. Затем она ушла уже по-настоящему, я слышал, как внизу, у входа, она зовет дочь. Позднее я спустился, чтобы совершить небольшой моцион, хотя бы вокруг гостиницы, поскольку чувствовал, что, не глотнув свежего воздуха, не смогу уснуть. На меня навалилась неожиданная усталость, и я собирался прилечь на часок, чтобы потом, если художник позовет меня, явиться к нему не таким вареным. Так вот, спустившись по лестнице, я сначала проследовал на кухню под тем предлогом, что мне непременно надо выпить стакан воды (здесь она посвежее). Тут я опять увидел хозяйку. Из верхней одежды на ней только юбка, в которую, услышав мои шаги, она стала поспешно заправлять нижнюю рубашку. И, наполняя стакан водой из колодца, шахтного колодца, какой обычно можно увидеть лишь на крестьянском дворе, но вряд ли еще на какой-нибудь кухне, я спросил: «Он говорил о самоубийстве?» – «Самоубийстве? – удивилась она. – Нет, про это не говорил. Еще чего! Это уж дальше некуда. Он только сказал, что однажды утром я увижу его мертвым в его постели. Наверное, у него предчувствие такое, что его кондрашка хватит. Он всегда боялся удара». – «Боялся удара?» – «Неужто в моем доме руки на себя наложит? Шутит, наверно», – сказала она, и мне стало ясно, что он отнюдь не шутил, а сделал лишь привычное для моих ушей чуть ли не ежедневное заявление. Я выпил свою воду и вышел на прогулку.
Поднимаясь к церкви, он всё время останавливался и давал мне понять, что он человек старый, а я могу спокойно двигаться дальше. «Это меня не затруднит. Напротив». После того как он повторил это раза четыре, если не больше, а последний раз – в приказном тоне, я просто оставил его где-то на полдороге у гигантского пня, служившего межевым знаком, и почти бегом, с максимальной для меня быстротой, продолжил подъем. Я упивался мгновениями неожиданной свободы, как собака, спущенная с поводка. Наверху я выбрал себе такое место, откуда, недосягаемый для его взгляда, мог отлично видеть, как он поднимается в гору. Отдыхал он чаще, как мне показалось, чем вчера, когда мы с ним совершили ту же самую прогулку и когда он задал мне такой вопрос: «Что вы, собственно, за человек? Не могу найти вам полочку в своей голове. Скажите, что у вас на уме? Как вас угораздило встретиться и сойтись со мной? Вместе шататься по округе? Хоть немного отдохнули здесь? Всё загадочное, конечно, интригует. Вы для меня – загадка, хотя устроены вполне натурально и совсем просто!» Глядя на него, я понял, что достаточно легкого порыва ветра, чтобы он покатился вниз. Остановившись в очередной раз, он начал чертить на снегу знаки, имеющие отношение, как я от него узнал, к какой-то индийской премудрости, мне они были непонятны. Некоторые из них наводили на мысль о животных, например о корове, о свинье, иные напоминали очертания храмов, речные излучины. Были и круги, и другие геометрические фигуры. На протяжении всего подъема я слышал, как он разговаривает сам с собой. Смахивая на генерала, который обращается к воображаемому войску, которое для него – реальность на все времена. Да и вид у него был такой, будто он склонился над картой генерального штаба, на которой всё до мельчайших подробностей подвластно его воле. Он и говорил-то на иностранных языках, произносил какие-то азиатские слова, в воздухе так и мелькали целые словесные гирлянды. Вся эта картина, центром которой являлся он сам, напомнила мне полотно, которое я видел когда-то в венском Музее истории искусств, помню даже зал, где оно висело. Это был речной пейзаж Брейгеля Старшего, где люди пытаются вымолить у смерти часок-другой для развлечений и получают разрешение, но за это они должны расплачиваться бесконечными муками в аду. Чернота обрубка дерева, его сучьев переходила в черноту пиджака художника, сливаясь с черным цветом его брюк и палки, перекликаясь с черным контуром горных вершин. Когда он приблизился ко мне на расстояние нескольких шагов и стоял уже на одной из последних ступенек, ведущих прямо к церковным дверям, я испугался его. Мне представилось, как он подбирается ко мне сзади и наносит удар палкой по голове. Но, увидев его лицо, я избавился от этого наваждения. Хотя, судя по лицу, он был на это способен. «Если есть желание, можем зайти в церковь», – сказал он. И тут же передумал: «Нет, ступайте один. Я подожду вас на воле». Я вошел в церковь и сел на скамью, с которой был хорошо виден алтарь. Я взял молитвенник, лежавший рядом. Полистал его и остановился на псалме: «Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. Miserere me, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri!» [4]4
«Окропи меня иссопом, и буду белее снега. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей» ( лат.). Пс. 50.
[Закрыть]И дальше: «Me extraverunt peccatores, ut perderent me: testimonia tua, Domine intellexi: omnis consummationis vidi finem: latum mandatum tuum nimis. Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini. Gloria Parti». [5]5
«Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить: а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем» ( лат.). Пс. 118.
[Закрыть]Весь отрывок я прочитал еще раз. И еще раз. И еще. Но для меня это было невыносимо, у меня не возникало при этом вообще никаких представлений, я вынужден был встать и выйти из церкви. Следуя к выходу по мягкой ковровой дорожке, я видел невероятно омерзительные ангельские лики, и чем ближе я подходил к ним, тем более жесткие черты они принимали. Когда я оказался за порогом, художника уже не было. Он тем временем дотащился до часовни для прощания с усопшими, которая была пристроена к другой стороне церкви. Оттуда, стоя в глубоком снегу, он прокричал мне: «Стойте где стоите, иначе вам будет страшно!» Я не понимал, чего мне бояться. Потом сообразил, что в часовню время от времени доставляют покойников. «Там мертвец лежит», – сказал он и, вытянув шею, задел о подоконник шляпой, отчего она съехала на затылок. «Напомаженный труп. Часто они штукатурят трупы самым жутким образом». Он задавался вопросом: кой черт дернул его вообще тащиться в часовню? «Любопытством это не назовешь». В гостиницу мы вернулись поздно, где-то в час.
Художник Штраух был миниатюрнее хирурга Штрауха. Художник Штраух – тот самый случай, когда молотком и зубилом, тесаком и пилой, клещами и скальпелем ничего путного не изваяешь. Тут нужны ухищрения более тонкой науки, чутье, изощренное за множество бессонных ночей. Ведь речь идет об ошибке, десятилетиями выкупаемой у смерти, с задатком и в рассрочку. Так или нет? Речь идет о результате целого развития, которое не является развитием, об итоговом состоянии субстанции. О результате движения, которое не есть движение. Об органике, которая не органична. Об исходном пункте, не являющемся таковым. Не может им быть. О неизлечимой болезни. Он постоянно чувствует опасность. Совершенно очевидно, что он ощущает постоянную угрозу. Он всегда настороже, равно как и, по его мнению, мир, его окружающий. Но что в таком случае есть организм? Что тогда противостоит друг другу? Дух и плоть? Дух за вычетом плоти? Тело без души? Что именно? Под оболочкой? Над оболочкой? В ее подкладке? Робкая угасающая судьба? Что это? Но ведь есть же совершенно неизвестные болезни. Они были всегда и никогда не исчезнут. Одну можно излечить за ночь, другая за одну ночь становится неизлечимой. Уходит одна, приходит другая. Откуда? Каким путем? Где причины, а где симптомы?