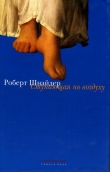Текст книги "Стужа"
Автор книги: Томас Бернхард
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
«Слышите, – сказал вдруг художник к концу прогулки. – Слышите тявканье собак!» Мы остановились. «Их не видно, но слышно. Эти твари пугают меня. Впрочем, «пугают» – не то слово, они убивают человека. Эти псы убивают всё. Вой! Тявканье! Визг! Вы слышите?! – сказал он. – Нас окружает собачий мир!»
День шестой
«Летом вам придется здесь отбиваться от комариных орд. Их извергает болотце. Вы опомниться не успеете, как вас доведут до безумия и загонят в глубь леса, но они будут преследовать даже во сне, эти рои. Вы забегаете, замечетесь, но выхода, разумеется, не найдете. У меня каждый раз всё тело покрывается зудящим горошком. Это, да будет вам известно, бич божий для моей сестры, комары из-за ее сладковатого запаха чуть не сожрали ее. После первых же укусов вы зароетесь в постель и этим только усилите свои безмолвные мучения… утром проснетесь постаревшим на годы. Тело будет гореть от комариного яда… пробудившись от ужасной обморочной слабости, вы поймете: пришло время комаров. Не думайте, что я преувеличиваю. Я вообще, как вы уже заметили, не склонен к преувеличениям. Но остерегайтесь ездить сюда в комариную пору… Больше уж вас сюда не потянет… а люди в это время, будьте уверены, встретят вас так, будто с них кожа содрана; к ним не подступишься. Я и сам в это время, как говорится, места себе не нахожу и начинаю искать убежища. К тому же наступает жара, полное безлюдие, прямо-таки как после мора. От комаров небо темнеет. Наверно, всё это из-за обмеления рек, – сказал он, – и от заболачивания». Сегодня он надел красный бархатный пиджак, свой «богемный жакет». Он впервые оделся так, как одеваются художники, с сумасшедшинкой! С утра пораньше он замаячил за окном и прижался головой к стеклу, когда я сидел в столовой. Возвестил о себе стуком в оконный переплет. Большое, всё гуще желтеющее пятно. Из дома он вышел, как выяснилось, еще в половине пятого, намереваясь «застать духов умерших». «Просто жуть», – сказал он, подойдя ко мне. Хозяйка заблаговременно сняла для него дверной засов «за пятишиллинговую монету», которую, однако, не хотела брать. Он сказал: «Реку слышно даже наверху. Ни одной машины. Ничего. Птичьих голосов, разумеется, тоже. Ничего. Будто всё вмерзло в ледяной панцирь». Он погрузился бы в «приблизительно подобный мир». Он грозил палкой жупелам из снега и льда. Распластав руки и ноги, он зарывался в белое снежное покрывало. «Как дитя». Ложился и замирал так надолго, что казалось, вот-вот замерзнет. «Стужа всесильна», – говорил он. Он уселся, сказав: «Самое для меня непостижимое – это то, что я завтракаю». Ранние птахи могли бы восхищаться беспощадно великолепным морозом, уходя подальше от дома. «Догадка о том, что мороз всему хозяин, отнюдь не устрашает». Ранним птахам мир открывается в своей изумительной ясности и истине. «Безжалостный мир стужи» наступает на них и делает их послушнее. А если они выспались, мир видится им «застрахованным от безумия». Сейчас он снимет свой богемный пиджак, сказал он; надел его он лишь для того, чтобы «испытать муку» как дань раннему утру. «По отношению к миру это была, конечно, оплошность, – сказал он. – Ведь я поступил так, будто я тот же самый, каким был когда-то. Теперь я другой, всё равно что человек, родившийся на тысячу лет позднее. Видимо, так. После всех ошибок». Хозяйка принесла кофе и молоко, а перед сидящим в другом углу молодым гостем нагромоздила «целую гору снеди», как выразился художник. «Важная птица, сдается мне. Чего он здесь ищет? Возможно, это родственник инженера. Возможно». Хозяйка подала гостю железнодорожное расписание, тот полистал и спросил, не лучше ли воспользоваться кратчайшим путем, чтобы попасть на станцию. Лучше. Но зимой невозможно. Молодой человек встал, расплатился и ушел. «Мой артистический пиджак, – сказал художник, – материализованный крах. Снимая его, я освобождаюсь от этого краха». Сегодня, по его словам, он надел его в последний раз.
Я вдруг вспомнил, что сегодня мне исполняется двадцать три года. Никому, ни одной душе не подумалось об этом. Может, и подумалось, но никто не знает, где я. Кроме ассистента, никто не знает о моем местонахождении.
«Есть некий болевой центр, из него исходит всё, – сказал он. – Этот центр боли – в центре самой природы. Природа строится на многих центрах, но главным образом на болевом. Он, как и другие центры природы, строится на сверхболи, он стоит, можно сказать, на монументальной боли. Знаете, – сказал художник, – я и попытался бы разогнуться, но для меня это невозможно. Я чересчур горблюсь. Разве не так? Вы уж извините мне мою сгорбленность. Наверное, у меня жалкий вид. Вам и не вообразить неимоверность моей боли. Боль и мука во мне нижутся друг на друга, руки и ноги сопротивляются, как могут, но всё больше становятся невиннейшими из жертв. Да еще этот сырой снег, эти неимоверные массы снега! Бывают состояния, когда голова становится непосильной ношей. А какое напряжение сил: десять обычных мужчин не смогут поднять мою голову, если не обладают определенной выучкой. Вы только представьте себе: я трачу силу десятерых специально обученных атлетов, чтобы держать голову. Если бы я мог развить эту силу для себя! Видите, я растрачиваю свою силу без всякого смысла, ибо это бессмыслица – держать поднятой такую голову, как моя. Если бы хоть сотую долю этой силы я мог вложить в самого себя, так, чтобы от этого было побольше толку… Я бы перетасовал все правила и все достижения мысли. Я стяжал бы всю славу духовного мира. Сотую долю! И я стал бы чем-то вроде второго творца! Люди не смогли бы мне возразить! Я бы мигом повернул вспять тысячелетия и заставил бы течь в другом, лучшем направлении. А так мои силы сосредоточены на моей голове, на ее боли, и всё бессмысленно. Эта голова, доложу вам, ни на что не способна. В ее сердцевине пылает беспомощный земной шар, и всё заполнено разъятыми созвучиями!»
«Воспоминание порождает болезнь. Всплывает какое-то слово, рисующее городские кварталы. Ужасающая архитектура. Внутренний взгляд упирается в людские скопища, попытки сближения с ними бессмысленны! День угас». Девяносто восемь человек из ста, по его мнению, страдают навязчивыми идеями, с которыми засыпают и просыпаются. «Каждый норовит перейти вброд омут какой-нибудь идеи, одни погружаются по горло, другие с головой, покуда мрак не укажет им на полную безнадежность. Полицейские каталажки с послеполуденной тишиной, с храпом и испарениями от тел заключенных… Одному лезет в голову то же, что и другому: человеческое месиво дорожной катастрофы, случившейся то ли несколько недель, то ли несколько лет назад. Севооборот совершают здесь, не ведая ни о странах света, ни об интенсивности светопоглощения: леса, луга, дороги, рыночные площади, что рвутся на части по воле фантазии, ярятся реки, разбитые плотинами, хозяева-мастеровые орудуют длинными ножами в мозгах голытьбы». Есть поистине престарелые мечты, так называемая «юриспруденция простых людей». Закон, гласящий, что всё повторяется и в то же время неповторимо. Бесконечное перелопачивание, полное рассыпание всех понятий. Радость тянет к себе радость, порок – порок, рисовка – рисовку, любовь – любовь. «То, что соединяет меня с самим собой – дальше всего от меня», и «время – отнюдь не средство заниматься им», и «я – жертва собственных теорий и в то же время их властелин».
Он задается вопросом, что значат воспоминания, эти охлопки поразительных впечатлений, которых уже не понять. Воспоминание топчется на месте и беспрестанно, бесконечно цитирует само себя точно так же, как и отбрасывается, еще не став воспоминанием. Словно на сцене, люди держат дистанцию. Уклоняются как бы всегда на одном и том же клочке плоскости. Его родной угол скорее всего – за ширмой бесконечности. И что же? Звук будет слабеть, а с ним, наконец, и зрительное впечатление «от того, от чего надо отводить глаза, слабеть медленно, нескончаемо. Спустя годы остается одна пустота». Временами всплывает из потока какая-нибудь картина, примечательная и так богато окрашенная именно тем, что доводит до отчаяния. Прошлое: детство, юность, боль, что давно умерла или не умерла, осколок весны, осколок зимы, что-то из лета – какого? – нечто, что было милее всего. Сплетение гравийных дорожек и больших дорог, могилы родственников и любимых, мужчины, несущие женщину в гробу и заслоняющие весь белый свет, возчики за погрузкой бочек, служащие пивоварни, рабочие сыроварни, сломанный сук на дереве у родительского дома: страх, ведущий в омут. Совпадение случайностей делает больным то, что только что было здоровым, оно неисчерпаемо. «Всё на Земле есть лишь самовоплощение». Кто-то неустанно трудится над тем, чтобы такое фантастическое существо, как человека, укрепить в его способностях. Воспоминания лишь свободное пристрастие. «Иначе оно губит всё, разрушает даже самое твердое в человеке». Безумие, радость, довольство, упрямство и невежество, вера и безверие – всегда к услугам воспоминания. «Это единственное из удовольствий, отводящее смерть». Установить отношения с воспоминанием как с человеком, с которым временами расстаешься, чтобы потом вновь и вновь с еще большей приязнью и готовностью принять его в своем доме, значит всё больше радеть и воспоминанию, и человеку. Воспоминанию предшествует определенный план, оставшийся неосуществленным. Таких планов много. Воспоминание ретроспективно, оно смотрит в прошлое со своих сторожевых вышек, оно способно дарить милостыню, но никогда не готово к этому. Оно побуждает к сюрпризам на день рождения, к подделке документов. Оно часто превращает похороны в кротко замирающую скорбную церемонию. Оно притворяется глухим, каким может быть мир, и нередко заговаривает с такой нечаянной резкостью, словно это любимый брат допытывается о вещах, связанных с любимой сестрой. Оно на глазах превращается в тончайшую связующую ткань между теорией и чувством человека, некоего характера и приходит, «по всей видимости, всегда вовремя». Никакой лжи. Даже расчетливости. Ничего головного. Никакого аскетизма. Глубоко уверовав в его возможности, человек ходит по земле, нем и глух ко всему, что не вытекает из воспоминания. Это «вечное созидание мысли и ровной печали», и не только ради самого себя, но ради «ежедневной неясности и ежедневной дани вечному отчаянию».
«Сегодня у меня такие боли, – сказал он, – что шагу не ступить. Что это за мука. Нет, потрудитесь сообразить: громадная голова и хилые, усохшие ножонки… которым приходится терпеть такую тяжесть. Наверху эта огромная голова, а где-то внизу не знающие роздыху слабые ноги. Представьте себе, что ваша голова наполнена жидкостью, кипящей водой, которая вдруг застывает, как расплавленный свинец, и норовит разломить череп. У меня сейчас такое чувство, что эту голову уже не примет никакое пространство, никакой простор. Только боль. Только тьма. По вашим словам я еще могу как-то ориентироваться, по звуку ваших шагов. Я знаю, когда-нибудь моя голова вскроется. Я допускаю различные варианты различных финалов, – сказал художник. – Если дотяну до естественного конца. Но я не доведу дело до естественного конца. Самоубийство – первооснова природы, самое незыблемое по естеству своему, самое прочное, ничто… Всякое развитие ограничено процессом дознания: целые поколения томятся в зале предварительногоразбирательства… Боли в моей голове на неподвластном науке пределе невыносимости… наблюдай себя сам, тогда поймешь, какие муки способен выдержать: на пути крайней бесчувственности и сверхчувствительности, в муках восходя по ступеням боли… жара измеряется тысячами градусов… я несу свою голову, замороченную опрокинутыми горизонтами. Если бы я только сумел сделать вам намек, который больше чем намек… я ограничиваюсь колдовскими способностями возраста; так я могу идти в ногу со своей мукой. Вот эти колышки, – сказал художник, – каждый я мог бы вколотить себе в мозг! Ноги тоже болят, суставы. Всё. Нет ни одной клетки, в которой не сидела бы боль. Вам, должно быть, кажется, что я великий притворщик! Вы представить себе не можете, каково это: всё вдруг вспухает, и разбухает, и начинает функционировать с необычайной мощью. Всё тем же проторенным путем. Это сводит меня с ума, – сказал он. – Да еще добровольно принятые муки принуждения, которые я сам себе добавляю. По неловкости и по расчету. По неведению и всезнайству. Замерзать, что ли, оттого, что не можешь прибегнуть к этому приему?.. Тогда в голову лезут все эти бесчисленные заждавшиеся вещи: они связаны с поездками, с деловыми интересами, с религиозными, неподконтрольными увертками. Вы же понимаете, всё поддается делению! Равно как и всё неделимо. А боль, точно настеганная, всё время делает бешеные скачки. Изощряется в своих чудовищных трюках, набрасывается, как хищник. Вы слышите? Слышите?» – спрашивал художник. И я услышал собак.
День седьмой
Живодер встретил художника в лощине. Притулившимся на корневище. Но художник-де даже не взглянул на живодера, когда тот проходил мимо. У живодера аж захолонуло, и он повернул назад и заговорил со стариком. «Я занят одной проблемой», – якобы сказал тот. После чего живодер вновь развернулся и оставил его в покое. Тут художник одним своим словом опять остановил его, словом «студено». «Я перепробовал всё, – якобы сказал он живодеру, – но все попытки напрасны». Живодер присел рядом и начал его уговаривать. Надо всё же подняться и идти в гостиницу да заказать хозяйке горячего чаю. А лучше всего при простуде, которая уж наверняка разыгралась, несколько рюмок сливовицы. У того даже слезы на глаза навернулись, когда живодер сказал: «Ну чего вы, господин художник, будет вам убиваться-то».
Пришлось поувещевать еще немного, пока старик не уразумел, что сидеть тут бессмысленно, только себя мучить. Тот будто бы ответил: «Это ни к чему не приведет» – и встал. Потом они поднимались к лиственничному лесу. «Он скорей полз, чем шел», – рассказывал живодер. Пришлось буквально тащить старика за палку до самой гостиницы. «Я всегда знал, что с ним не всё ладно». Живодер произнес это доброжелательным тоном, настолько бесчувственно, что при этом проявилось куда как много чувства. «Это уж самоубийство какое-то», – якобы сказал живодер художнику. Он еще в тот его приезд заметил, что старик не такой, как прежде, «когда, бывало, любил посмеяться, особенно с сестрицей, он сюда в конце осени заезжал ненадолго».
Раньше он не был таким нелюдимым, отгородившимся от всего на свете. Наоборот. Водился со всеми, старался быть таким же, как деревенские, одним из здешних. Ходил с ними по трактирам и многих мог заткнуть за пояс. На Богоявление всегда гулял вместе со всеми. Но никогда не напивался так, чтобы домой тащить приходилось, как некоторых. «Большой был любитель кровяной колбасы, художник-то», – сказал живодер. Был он и в Гольдэгге на гулянье с игрой кёрлинг, [3]3
Зимняя спортивная игра на ледяной дорожке
[Закрыть]вместе наведывались в пивнушку, где «распечатывали девиц, как застоявшиеся бутылки». Он всегда казался ему «задумчивым, но приветливым». А вот в лощине прямо-таки напугал. В гостинице живодер сказал хозяйке, чтобы она сунула побольше дров в печку у художника. Его, мол, надо со всех сторон прогреть. Ему, живодеру, сдается, что, если бы он не наткнулся на художника, тот так и остался бы сидеть и живым бы его больше не увидели. Замерзают-то как? «Чуть задумаешься – и готов». Человек даже не замечает. Заснет и уже не проснется. Художнику, по всему видать, не позавидуешь. «Про какую-то проблему говорил. Не знаю, что это за проблема». Он, живодер, всегда хорошо с ним ладил. А фронтовые истории, которые живодер рассказывал, старик всегда любил слушать.
У него болели ноги. Эта боль могла помешать ему ходить пешком так, как он привык, как собирается впредь. «Вероятно, существует некая таинственная связь между моей головной болью и этой болью в ногах», – сказал он. Известно же, что между разными вещами существует какая-то связь. «Пусть даже столь загадочная. А стало быть, и между частями тела, как однородными, так и разнородными». Но у него голова совершенно особенным образом связана с левой ногой. Боли в ноге, которые внезапно дают о себе знать по утрам, родственны его головной боли. «Мне кажется, это одна и та же боль». В двух различных, изрядно удаленных друг от друга частях организма, по его мнению, можно чувствовать «одну и ту же боль». Равно как и определенного рода боль души (он нет-нет да и обронит это слово, «душа») ощущается в определенных телесных сферах. И физическую боль в душе тоже! Сейчас его сильно беспокоит левая нога. (Речь идет об элементарном бурсите, то есть воспалении слизистой сумки на внутренней стороне под лодыжкой.) На лестнице, когда было еще темно, он показал мне свою опухоль. Шишку величиной с утиное яйцо. «Ну не жуткий ли нарост, как по-вашему? – сказал он. – Всю ночь болезнь головы изводит ногу. Просто неимоверно». Вот уже не один десяток лет он день-деньской ходит пешком. «Стало быть, дело не в том, что я вдруг перетрудил ногу. Дело тут вообще не в ноге. Недуг исходит от головы, из мозга». Опухоль свидетельствует о том, что болезнь распространяется уже на всё тело. «Скоро я весь покроюсь такими вот шишками», – сказал он. А я с первого взгляда понял, что это случай самого обыкновенного воспаления слизистой сумки после вчерашнего марш-броска через лощину, и сказал, что ничем серьезным опухоль ему не угрожает, она не имеет ничего общего с болью в мозгу и никак не связана с головой. С медицинской точки зрения. У меня у самого вспухла однажды такая же штука. Тут я едва не выдал себя. Одним специальным выражением, которое вертелось у меня на языке, еще немного – и я предстал бы перед ним студентом-медиком, что с таким волевым усилием пытался скрывать от него с первого дня. Но всё обошлось, и я отделался словами: «Такие шишки вскакивают сплошь и рядом». Но он мне не верил. «Вы говорите так, чтобы не сокрушить меня, не сокрушить окончательно, – сказал он. – Почему бы не взглянуть правде в глаза? Моя опухоль жутко опасна. Да вы и сами это видите. Моя опухоль. Разве нет?» – «Через два дня она исчезнет так же быстро, как и появилась», – ответил я. «Вы лжете, как мой брат-медик». Он произнес это не без оттенка отвращения, мелькнувшего в его глазах. Они сверкнули каменным блеском, совершенно непримиримо. «Не понимаю, зачем вы лжете. У вас на лице так много неправды. Больше, чем я замечал до сих пор».
Он бросил на меня свой цепкий взгляд и двинулся вперед, напоминая разбуженного от вечного сна грозного учителя. «По виду это чумной бубон», – сказал художник. Он ощупал опухоль и предложил мне сделать то же самое, то есть ощупать шишку. Я слегка надавил на нее, как прежде на сотни других, не всегда столь безобидных. Он никогда не видел чумного бубона, подумал я. Ничего, ровным счетом ничего общего его опухоль с чумным бубоном не имела. Однако я не сказал ни слова. Ему оставалось только подтянуть и закрепить чулок. Кожа местами совершенно женского типа, отметил я про себя. На ноге, на лице и на шее. Она показалась мне нездоровой, сам не знаю почему. Какой-то белесый оттенок, вернее, странное посерение. Подкожная клетчатка прямо-таки просвечивает. Местами в ней видны зияния. Желтые пятна, по краям – посинение. Корку перезрелых тыкв, оставленных в поле, напомнила мне его кожа. Это уже тление. «Боли в ноге, – сказал он, – по своей силе не идут в сравнение с моей головной болью. Однако они одного происхождения. При таком заболевании не поможет ничто. Обе эти боли, головная и в ногах, составляют неумолимый недуг».
Не могу сказать, что мое решение изучать медицину основывалось на каком-то высокоумном соображении; нет, чего нет, того нет, скорее, поскольку мне вообще ничего не приходило в голову насчет учебы, которая могла бы доставлять мне радость, на решение повлиял, в сущности, случай – моя встреча с доктором Марвецом, который всё еще думает, что когда-нибудь я стану его преемником в качестве практикующего врача. Я и сегодня не могу сказать, а может, не смогу никогда, что нахожу удовольствие в изучении медицины, что сама медицина доставляет мне радость. Однако и на попятный идти уже нельзя (да и куда бы я, интересно, подался?), так как сумел чин по чину выдержать экзамены. Не скажу, что я особо усердствовал, нет, всё, говоря по правде, происходило как во сне. На экзамены заявлялся всегда без подготовки, и чем меньше я был отягощен знаниями, тем лучше сдавал экзамены, а некоторые даже – на «отлично». Теперь мне предстояли куда более трудные, но и это будет наверняка для меня просто. Почему? – не знаю. Я никогда не боялся никаких экзаменов. А клиническая практика в Шварцахе для меня – одно удовольствие. Хотя бы потому, что удалось подружиться кое с кем из коллег. У меня такое чувство, что я нужен им. С доктором Штраухом мы вполне понимаем друг друга. Он весьма охотно оставил бы меня при себе. Он надеется занять место главного врача, когда тот выйдет на пенсию. Через два года. И перетянуть меня. Никогда не размышлял я и о том, изучают ли медицину из желания помочь ближним или еще почему. Прекрасно, слов нет, когда удается операция, когда то, чем ты пользуешь человека, действительно идет ему на пользу. Это что-то значит. У них у всех повышается тонус, когда им что-либо удается. Тогда ассистента можно и в кафе увидеть. Мой брат говорит, что к изучению медицины меня вынудило отсутствие фантазии. Не исключено. Но что же все-таки? Дело вроде того, что поручили мне – наблюдать за художником Штраухом и быть объектом его влияния, – какое оно имеет отношение ко мне? И как я ему соответствую? Может быть, это не более чем курьез: ехать к черту на кулички к человеку, которого не знаешь и вводишь в заблуждение относительно своей персоны, с которым слоняешься по округе, чтобы послушать, что он говорит, увидеть, что делает, выяснить, что думает и замышляет? Ассистент характеризовал его вполне определенно, но поверхностно. И если бы мне сейчас пришлось изложить свое суждение об этом человеке, я не знал бы, что и сказать. Это было бы бессмысленно. И что я вообще буду лепетать, когда меня спросят? О том, чтобы писать ассистенту, и думать нечего. Я всегда чувствовал себя не созданным для переписки, даже для такой. Учеба так быстро окунула меня в медицину, что я и сам этого не заметил. Про меня говорят, что я «здорово продвигаюсь». Родители радуются, что я выхожу в люди. Но я не знаю, что из меня выйдет. Врач? Подумать страшно.
Уже в сумерках я кругами ходил по станции и меня занесло чуть дальше, до одноэтажного барачного строения с вывеской: «Гостиница для поездных бригад». За окном я увидел обнаженных до пояса мужчин, склонившихся над грязным желобом мойки, видел, как они вытирались серыми полотенцами, а потом таращились в зеркало, брились, как в одних кальсонах рассаживались по своим лежакам и поедали свой ужин. Черные фуражки железнодорожников на стенах. Двери увешаны гроздьями шинелей, курток, сумок, из которых лезла какая-то бумага. Сверкали ножи, врезавшиеся в караваи, всюду торчали пивные бутылки, отражаясь в зеркале над мойкой.
Я прохаживался туда-сюда, лишь бы не обратить на себя внимание, но, поравнявшись со светлым квадратом окна, всё время заглядывал внутрь. Что было бы, подумалось мне, если бы ты стал одним из них, стоял бы вот так же перед зеркалом, перебрасывался с ними их же словами, если бы они не заметили, что ты – это ты, ведь ты такой же? А что было бы, если ты пошел путем, который кажется тебе именно твоим? Если бы я был не я, был бы я таким же? Вот куда могут завести подобные мысли. Пройдя между двумя грузовыми составами вплоть до границы станции, я вернулся назад, я считал колеса, мне представилось, как меня в лепешку расшибают два столкнувшихся буфера и как мне будет уделено несколько строк в самом низу предпоследней страницы нашей газеты, где печатают сообщения о происшествиях со смертельным исходом, которые не имеют никаких шансов привлечь чье-либо внимание. Потом снова, идя вдоль барака, увидел тех самых мужчин, они уже лежали на первом ярусе немудреных сооружений, какие бывают еще только в казармах. Зимние, с двойными рамами окна закрыты наглухо. Не замерзать же. А вон стоит будильник, который в четыре часа зайдется истерической трелью. И начнется кишение тел, и руки торопливо потянутся за одеждой. Ведь холод сильнее дозволенного, и пора уже шастать по составам и проверять, везде ли закрыты насадки регенераторов. Вот уже и первые школьники уселись в головном вагоне, заспанные и боязливые, так как не знают, насколько страшно то, что ожидает их в школе.
На станцию-то я спустился в полном одиночестве, мне требуется на это всего пятнадцать-двадцать минут быстрого шага. Я обещал художнику принести газету, но киоск уже закрыли. К тому же это был день, когда курсирует мало поездов, а в то время, когда я оказался внизу, не прошло ни одного, если не считать товарняков, которые с грохотом проносились мимо. Напротив железнодорожных бараков круто возвышается скала, ели торчат, пихты, прозябает кустарник, но в темноте этого не видно. Река беснуется и оглушает своим шумом всю округу.
Из втиснутых в полоску берега домов доносится смех, потом какая-то перебранка, которая, словно не решаясь перерасти в скандал, становилась всё тише, пока не замерла совсем. Окна гасли одно за другим, и наконец освещенным осталось только одно, в нем я увидел сидящего за столом пожилого мужчину, вот он поднял свою татуированную руку, чтобы погасить свет. Меня зазнобило, и я быстро, как только мог, двинулся через мост и дальше наверх, к гостинице.
«Тут каждый камень для меня – особая человеческая история, – говорит художник. – Да будет вам известно, я пленник этих мест. Всё, каждый запах здесь – шлейф какого-нибудь преступления, надругательства, войны, чьих-либо гнусных козней. Даже если всё укрыто снегами. Сотни и тысячи гнойников, которые беспрерывно зреют. Голоса, которые кричат не переставая. Можете считать себя счастливым оттого, что вы так юны и, в сущности, не имеете опыта. Вы начали мыслить, когда кончилась война. Вы ничего не знаете о войне. Вы не знаете ничего. А эти люди, стоящие на самой нижней ступени, часто – на самой нижней ступени характера, эти люди, все как один, – свидетели великих преступлений. Я уж не говорю о том, что взгляд разбивается об эти скалы. Эта долина – гиблое место для всякой души». И спустя время: «Видите, я раздражаю. Это всегда отличало мою натуру. Я раздражаю вас, как вечно раздражал всех. Вам это причиняет боль. Я знаю, нередко вы задыхаетесь от моей язвительности… Здесь у меня возникает представление о распаде всего живого, прочного, я чувствую запах распада всех представлений и законов… И здесь же, заметьте, общение с людьми… с мясником, со священником, с жандармом, с учителем, с этим в шерстяной шапчонке… с этим типичным молокохлёбом, вечно жующим свою словесную кашу, с этим гадким меланхоликом… У всех у них – свои комплексы. Это можно связать с пробуждениями в обмоченной постели, с рисунком на обоях в детской, где ребенок впервые открывает глаза. Всё это запуганные умишки, им тут несть числа. Учитель наводит меня на воспоминание о временах собственного внештатного учительства, от этого мне дурно становится. Остывание чувств, да, с годами происходит всё более радикальное огрубление, осыпаются все вычуры, поддаваясь всё более мужицкому языку, уступая рассудку… Сплошь и рядом перемалываются здесь впечатления военных лет, вы знаете, всё, о чем бы ни рассказывали эти люди, всё сводится к разговорам о войне…»
Всё «охвачено ужасом». «Жизнь отступает, а смерть надвигается, как гора, черная, крутая, непреодолимая». Он мог бы даже добиться великой славы, стать притчей во языцех, но его это не интересовало. «У меня хватило бы таланта для мировой славы», – говорит он. «Люди часто ухитряются так громыхнуть своим крохотным даром, что становятся знаменитыми. Искусные эффекты! Шумиха! Грандиозная шумиха! Не более! Я же остался верен себе, я умел распознавать шумиху, великую шумиху, и не стал популярным. Раз уж мы завели об этом разговор: война есть неистребимое наследство. Война – воистину третий пол. Понимаете?!» Ему надо было как можно быстрее спуститься к вокзалу за газетами. «Эти запахи, – сказал он, – запахи человекообразных людей. А знаете, запах неумытости, бродяжности и так называемого большого мира, запах ничейности приезжающих и отчаяния тех, кто вынужден уезжать, запах одержимых дорожным зудом всегда привлекал меня».
Часть пути я проделал вместе с жандармом. Он тут же вовлек меня в разговор. Вот ведь какое дело: тянешь-тянешь служебную лямку, а конца не видать. И вообще никаких перемен. Повышение по службе сулит, конечно, и жалованье побольше, но дело-то остается всё то же самое. Сперва он хотел учиться. Родители отправили его в школу старшей ступени, потом – два года гимназии, оттуда его забрали домой: отец испугался, что там он отупеет. «Моя гимназия ему поперек горла встала», – говорит он. Ученичество у столяра вместо латинской элоквенции, вместо греческих вокабул – верстак да рубанок. Это было настоящее горе. С тех пор всё пошло наперекосяк. С того самого момента, когда за ним хлопнула дверь гимназии и он понял, что больше никогда не вернется сюда. И вот: «мне уже перекрыт путь в лучшую жизнь». Полная безнадега. Был один серый, нескончаемый, гнетущий день, с неотвязной мыслью о самоубийстве на самом верху горы над городом, откуда он хотел броситься. Однако пришлось-таки идти на смотрины к столярному мастеру. Уже на следующий день он вынужден был влезть в спецовку, чтобы четыре года не снимать ее. Если раньше в глазах рябило от латинских вокабул, были Тит Ливий, Гораций, Овидий, то теперь он одуревал от стружки, опилок и подзатыльников мастера. Но всё же он выдержал экзамен на подмастерья и остался еще на год. Потом, прочитав объявление в газете, зазывающее в жандармерию, он бросил столярное ремесло, «только чтобы порвать со всем», и поступил на службу. Его мигом облачили в униформу, а утром он проснулся в большой казарме вместе с тридцатью двумя другими новобранцами, у которых были те же планы, что и у него. По завершении всех обязательных испытаний он вызвался служить в высокогорной местности. Сначала обретался в Толлинге, затем перевелся в Венг. Год назад он стал преемником сорокалетнего жандарма, умершего от заражения крови. «Оцарапался костью олененка». Ему бы медицину изучать. Дело как раз для него. Учиться на врача. Я сам удивился этой мысли. Она молнией мелькнула у меня в голове. Даже в висках застучало. «Медицину бы изучать», – сказал я. «Да, изучать медицину», – подтвердил жандарм.