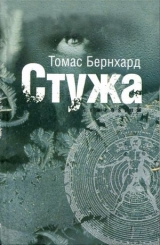
Текст книги "Стужа"
Автор книги: Томас Бернхард
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
У него за плечом висел карабин, совершенно новенький, с молодцевато поскрипывающим ремнем. А каково быть жандармом? «Всё время одно и то же», – ответил он. «Везде одно и то же», – сказал я. «Ну, нет», – возразил он. Раньше-то он думал, что на этой службе не соскучишься: сплошь какие-нибудь операции, задержания, дознания. «Это, конечно, есть. Но всегда одно и то же». Зато жизнь, вероятно, здоровая, предположил я. «Здоровая-то здоровая», – сказал он. И всё же она не лишена разнообразия, подумал я, вспомнив о драках на стройплощадке, в питейных заведениях. На ум пришло убийство, совершенное хозяином нашей гостиницы, но об этом я не упомянул. «В город бы перебраться», – сказал он. «Да, город», – посочувствовал я. В городе совсем иные возможности. Там творятся такие дела, о которых в деревне и понятия не имеют. Здесь хоть и бывают серьезные преступления, но куда более масштабные, интересные, «тонко сработанные» – только в городе. «Но жандармерия все-таки не полиция, – сказал он, – так что придется коптить небо в деревне».
«Да», – сказал я.
Сегодня, когда я возвращался из лиственничного леса, почтальон передал мне письма для хозяйки. Три письма, одно из них – от ее мужа. Я сразу подумал о хозяине, как только взглянул на почерк на конверте. И не ошибся. Забирая почту, хозяйка сказала: «Господи, это же от него!» – и сунула все три письма – два других были, видимо, казенными счетами – в карман фартука. Во время обеда из ее разговора с живодером, который помогал ей разливать пиво, я понял, что она действительно получила письмо от мужа. Он просил прислать немного денег на харчи, потому как в тюрьмах с кормежкой стало совсем скверно: после того как в газетах запричитали о том, что арестантам-де живется чуть ли не лучше всех, стали закручивать гайки с режимом. Деньги пусть шлет на имя одного чиновника тюремной администрации, а уж тот будет распоряжаться ими по его, хозяина, поручению. Я сидел прямо у стойки и слышал каждое слово.
Живодер сказал, что хозяйке следует «немедля» исполнить желание мужа, и назвал сумму, о которой, вероятно, шла речь в письме, но хозяйка заявила, что ничего посылать не собирается. И с какой это стати он, живодер, вздумал ей указывать. Уж это ее дело, посылать или нет. Живодер возразил: как же не посылать, иначе и быть не может. Кроме того, когда хозяин вернется, пойдут толки о том, что она ничего не послала мужу, хотя деньги, которыми она распоряжается, «хозяиновы», всё тут – его собственность. В таких переделках не надо бы мужа-то забывать. Она долго упрямилась, отбиваясь от настойчивых упреков даже своего любовника, живодера, но в конце концов уступила, хотя сумму назвала гораздо ниже той, на которую рассчитывал хозяин. Она повозмущалась тем, что своей необузданностью муж довел ее «до верха отчаяния», да ему никогда не было дела до нее и дочерей. А теперь изволь ему еще и деньги в тюрягу слать. Другим вообще ничего не шлют. Тюрьма на то и тюрьма, чтобы поголодать да научиться уму-разуму. Поработай-ка, на хлебе и воде сидя, да поразмысли хорошенько. «Но уж он-то ни в жизнь не изменится», – сказала она. И вышла она за него только потому, что уже ребенка носила, только из-за этого. Гостиницу она тогда даже не видала. «Только из-за ребенка», – повторила она. Живодер вошел в раж. Всякий раз, когда она возвращалась с пустыми бокалами, он осыпал ее новыми упреками. Хозяин, мол, был для нее опорой, к тому же у него всегда были свои «положительные стороны». Да и то сказать, не по ее ли настоянию – «ведь она всяко этого хотела» – он вообще был арестован, отдан под суд и теперь вот в тюрьме мается. Никто же и не сомневался ничуть, что это был несчастный случай, жертвой которого стал убитый хозяином посетитель. Она сама подбросила жандармам мысль, что раны на голове гостя – рабочего со строительства электростанции – получены не от падения, а от удара кружкой, который нанес ее муж. Поскольку хозяин сделал это в порядке самообороны, как точно установлено судом, ему и дали-то всего два года. «Его вообще могли бы не сажать, – сказал живодер, – он и сейчас бы здесь крутился, как всегда». Хозяйка вскинулась: «И это говоришь ты? Ведь я же только из-за тебя и донесла на него». На это живодер ничего не ответил. «Потому что хотела выставить его, потому что оба мы хотели убрать его из дома». Живодер стоял на том, что она всё равно дала маху со своим доносом. Деревенские и вообще все здешние настроены против хозяйки, все тут доподлинно знают, что она побежала заявлять в жандармерию. К тому времени убитый уж не одну неделю в могиле пролежал. Все забыть о нем успели. Покуда покойника по ее наущению не выкопали и не подвергли основательному осмотру, а потом против хозяина затеяли «крупный процесс». Если бы не было вчистую доказано, что он действовал лишь в порядке самообороны – а в судах часто правды не доищешься, скорее наоборот! – сидеть бы хозяину пожизненно. Неужто у нее совесть не шевельнется? – наседал живодер. Хозяйка сказала, что даже отвечать ему не желает. Ей нечего оправдываться. В любом случае всё сделано по справедливости. «Всё вышло по справедливости», – сказала она. А теперь что? – возражал живодер. Не хочет даже откликнуться на просьбу мужа, будучи перед ним, как пить дать, виноватой, и послать малость деньжат, чтобы он мог поесть по-человечески? «Ну ладно, – согласилась хозяйка, – пошлю я ему денег». Живодер потребовал, чтобы она тут же их выложила, он лично отправит их. Она сказала, что кошелек в ящике под стойкой. На глазах у хозяйки живодер вытащил несколько бумажек, вложил их в конверт и тут же написал адрес. В трактирной суете и в завесе табачного дыма и кухонного чада оба до сих пор меня не замечали. Улучив удобный момент, я встал и пересел к художнику, занявшему место у окна. «А как, собственно, обстоит дело с хозяином?» – спросил я. Без долгих размышлений художник ответил: «Одно слово – бедняга. Эта история с убийством окончательно его подкосила. Одна лишь хозяйка виновата в его беде. Когда он освободится и вернется в гостиницу, произойдет нечто ужасное. Хозяйка, конечно, боится этого». Да, она боится.
Живодер по совместительству еще и могильщик. Точно так же, как он зарывает собак и павшую скотину, он и людей земле предает. Как только живодер расстался с военной формой, они предложили ему, община предложила, два трудовых поприща, на которые не находилось охотников. Поскольку он ничему обучен не был, случай оказался самым подходящим. В лесорубы он после войны уже не пошел, на целлюлозную фабрику его тоже не тянуло, для железной дороги он был уже староват, от почтальонства просто отмахнулся, иных возможностей не было. Ему хватало свободного времени, и почти всегда он находился на свежем воздухе. Каждые две недели он ездит в город и, в отличие от всех местных, хоть с какого-то бока видит мир, которого остальные не знают. Он копает могилы. Ему надлежит убирать увядшие венки, и время от времени он подрабатывает тем, что продает крестьянам кладбищенский компост. Роясь в земле, он часто находит украшения, которые якобы забирает с собой в город для продажи. Зимой и летом он одет одинаково – кожаная куртка и кожаные брюки, стянутые шнурками над лодыжками. Во время похорон он должен стоять в сторонке, у церковной стены, и дожидаться окончания церемонии. Как только последние ее участники отойдут от могилы, он принимается за работу, быстро закапывает яму, а когда земля осядет, приводит могилу в надлежащий вид, насыпает сверху черную землю и нарезает дерн, выкладывая аккуратный холмик. За эти холмики он получает, как правило, целые кошелки мяса и масла и всю неделю – дармовые яйца, которые сбывает хозяйке, то бишь она вычитает их стоимость из той суммы, которую он платит ей в конце месяца за постой.
На кладбище он может горбатиться часами, перемещаясь вместе с кусками дерна, ватерпасом, пучками узких реек, которые приспособил для измерения. То, что в могиле, которую предписывается выкапывать глубиной два метра двадцать, ему всегда приходится стоять по колено в воде, он не скрывает. Ему не верят, пока сами не увидят. Глинистая земля вперемешку с галькой ему уже давно нипочем. В девять он садится на корточки и выпивает бутылку пива. В пять часов, спускаясь с кладбища, поскольку без четверти пять обязан запирать там мертвецкую, он бодро насвистывает. Все любят слушать его байки, даже те, что он выдумывает на ходу. К уже не раз рассказанному он приплетает что-нибудь новенькое и выдает нечто такое, чего от него не ждали.
«Живодер и могильщик в одном лице – это вам не хухры-мухры, а важная персона, с ней нельзя, как с другими-прочими», – говорит он. В его заплечном мешке нередко находится место раздавленной поездом собаке, кроме того, он извлекает из мешка просто всякий хлам, подобранный где-нибудь на чердаке, вроде найденных вчера деревянных резных ангелочков, которых он ставит в центр стола, чтобы выпить в их честь.
Когда я ходил за теплой водой, хозяйка стояла на кухне. Она чистила картошку, а рядом суетились обе дочки с поварешками в руках, они же бегали в чулан за дровами или чистили щетками что-нибудь из одежды. Хозяйка изъявила желание дать мне на время зимнее пальто своего мужа. «Вы же всё время мерзнете в своем плащишке, небось до костей пробирает мороз-то». Я сказал, что не расстаюсь с шерстяной тужуркой и мне не холодно. «Это вы просто так говорите», – возразила хозяйка. «Мне не холодно», – повторил я. «Когда бродите с художником-то?» – «Да, когда брожу с ним». Она отправила дочерей в погреб. «И надолго вы к нам?» Я ответил, что сам не знаю. Вообще-то, заметила она, у нее всегда все комнаты заняты. «Только не в нынешнем году. Люди не любят шума. А от этих, со стройки, уж очень много шума». Однако на постоянных жильцах не разживешься. «Тут, знаете, много не запросишь… Гостям надо что-то подать, и чтобы не показалось слишком мало, и чтобы повкуснее… Зато от рабочих выручка неплохая». Она заставила меня сесть. Просто толкнула в кресло. «Если бы гостиница стояла где-нибудь в другом месте, – вздохнула она. – А не в этой яме!»
Чистка картошки напомнила мне о дедовском доме с его вечно приоткрытыми дверями, о его запахе, о неслышно ступающих кошках, о молоке, которое иногда убегало, о тикающих ходиках. «Студенту тоже нелегко приходится», – сказала она. Куда-то в пространство. Невзначай. Однажды она была в столице и купила кое-что приодеться. «И рада была, что снова оказалась в поезде». И еще: «А теперь не отказалась бы пожить в городе, необязательно в столице, просто в городе». У нее ноги крестьянки, ноги уборщицы, ноги прачки. Тучные и рыхлые, покрытые венозной сеткой. Отопление номеров нынче подорожало вдвое. «А мясо – втрое», – посетовала она. Потом она сказала что-то такое, что изменило направление моих мыслей, перенеся меня на какое-то озеро, в какой-то лес, в дом на равнинной местности. Хлопоты что зимой, что летом – всё одно. Она подумывает о том, чтобы привести дом в порядок, всё отремонтировать, заново покрасить стены во всех комнатах, заменить старомодные вещи, «платяные шкафы, например, я вовсе уберу, – сказала она. – В зале поставлю новые столы, и повешу новые занавески, и обновлю лестницу, окна должны быть совсем большими, я сделаю так, чтобы хватало света». Я налил в кувшин теплой воды. «А мой муженек, – сказала хозяйка, – знать ничего об этом не хочет. Когда припожалует, всё и без него будет готово. Когда заявится…» То, как она это сказала, то, как она это произнесла, не выходило у меня из головы: «Когда припожалует…»
Когда привозят пиво, она встает у двери и пялится на водителей. «Когда-нибудь кто-нибудь из этих парней будет у меня в постели», – таков, должно быть, ход ее мыслей. Пиво привозят в три часа, но еще до полудня она приходит в нервное возбуждение, суетится, снует туда-сюда, перебирает белье в шкафах, путает ложки и вилки, что часто кончается перебранкой за обедом. Детей заставляет торчать перед домом, чтобы вовремя дали знать о прибытии пивовозов. Но те всегда пунктуальны и раньше трех не появляются. «Гляньте-ка, нет ли пивовозов!» – командует хозяйка. Она открывает окно на кухне, чтобы высунуть голову, но ничего не видит: бугор закрывает обзор дороги, по которой должны везти пиво. Ей это давно известно, и всё же она непременно высовывается. Когда ее спрашивают, чем она так взволнована, хозяйка отвечает: «С чего это вы взяли? Вовсе я не взволнована!» В одиннадцать часов она уже снимает все засовы на входной двери и оставляет ее открытой, привязав к большому крюку на стене, у нее для этого и петля на шнуре имеется, остается только набросить. «Пусть проветрится! – говорит она, – а то задохнешься от чада!» Как только подвозят пиво, она несется вниз и дает указания, сколько ящиков и бочек заносить в дом. Да пусть не громыхают, у нее есть больные и раздражительные постояльцы. Она наблюдает, как мужчины таскают ящики и катят бочки. На грузчиках толстые лоснящиеся кожаные фартуки от шеи до голеней и зеленые шапочки, а рабочие куртки даже зимой не застегнуты на верхние пуговицы. Она велит поставить первую бочку в стойку и подвести шланг, и тут же на столе, как грибы, вырастают первые бокалы – три, четыре, восемь, девять – с белопенными шляпками. Она подает их водителям, на стол которых отправляются также колбаса, хлеб и масло. Она подсаживается к парням и начинает расспрашивать: «Что же такое стряслось там, внизу?»
Они рассказывают то, что им известно о каком-нибудь несчастном случае, о чьих-то крестинах, о потасовке на собрании коммунистов, о мертворожденном младенце, о плоту на реке, «таком здоровенном, что под мостом не прошел», о том, что по горным дорогам ездить всё труднее, пока снег не разгребут как следует. «Но никто этим не занимается», – говорят они. Они наедаются до отвала, выходят из гостиницы и исчезают на своем грузовике. А она видит только одного из этих крепких парней – облокотившегося на раму открытого окна. «Им бы всё хиханьки да хаханьки!» – говорит она, возвращаясь в зал.
Хозяйка, по словам художника, – пример такого рода людей, которые не прилагают ни малейших усилий, чтобы нечто из себя сделать, ибо она не вылезает за пределы обыденщины, что со временем дает до ужаса отвратительные плоды, а для этого не требуется вовсе никаких усилий, нужно лишь отдаться всеобщему самотеку. Порой она является ему, художнику, возле самой кровати, возникает подобно образу, просто выплывает из подсознания, не то сон, не то реальность, как нечто невыносимое, а потому отнимающее покой. Когда ему не спится; когда он слышит шум «снизу», из зала; нередко посреди дороги; в лесу – с особой резкостью по отношению к хозяйке и к нему самому. Этот образ стал его тайным противником, как и образы других людей – тех, что когда-то пересекли его путь и давно забыли его и тот момент, когда принадлежали ему. По природе своей она столь же одинока, как и тысячи ей подобных. Возможно, она даже обладает кое-какими талантами, как и тысячи других. И тысячи поворачиваются в его сторону, когда к нему поворачивается она, столь же неуклюже, с таким же лицемерием и в том же всепоглощающем страхе, который постоянно наносит удары ее алчности. Она наделена способностями, которые могли бы поднять ее на неимоверные высоты, но удушаются в зародыше, она живет ради телесных ощущений, ради игры в прятки, которую ведет сама с собой, во тьме, образованной жиром и убогими истинами, которые можно пересчитать по пальцам.
Хозяйка знает, что делает, и всё же не ведает, что творит. «Любая сторона в ней вывернута наизнанку… У нее сильная воля, но сама она не сильна, по низости натуры». Он говорил так, будто выбрасывал описанный предмет, как бы избавляясь от хлама. Чтобы больше на глаза не попадался. «Ее знание основано на низменном самообмане, который никак не назовешь духовным. Это как у кошек и собак. Только слабее. Зависимее». Потом он вкратце рассказал о случае, когда оказался свидетелем выманивания денег: живодер выпрашивал у хозяйки крупную сумму. «За домом. Сначала в уборной, потом снаружи, под деревом». Шиллингов четыреста или пятьсот. «Это были крупные купюры. Тысячные я исключаю, скорее всего – сотенные. Он тут же сунул их в карман брюк, как только я появился». Хозяйка якобы сказала: «Можешь не отдавать, муж об этом не знает». Живодер поинтересовался, когда того выпустят. «По мне, так лучше бы вообще не возвращался, мне он не нужен», – гласил ее комментарий. Сколько ночей они провели в одной постели. «Без всякой страсти, – сказал художник, – лишь в силу бесстыдства». Она, а не он есть та движущая сила, которая гонит их по наезженной колее. «Бездумно, слепо, по-бабьи». Она уж и надеяться не могла, что ее муж окажется за решеткой. Он опостылел ей через год после свадьбы, когда ей было семнадцать. С тех пор и обманывает его. Она всегда откровенничает, насколько вообще можно быть откровенным, она ведь ничего не утаивает. «Самым сильным ее оружием всегда было то, что она ничего не скрывала, да и в разнообразии недостатка не знала», – сказал художник. «Она просто сделала шаг в сторону от деревенской площади. Прямиком к преступлению, – сказал художник. – Чуть свет опять подалась наверх, на гору, нисколько не уставшая, наоборот, посвежевшая. Я не раз наблюдал ее при этом. Время у меня было, встал я в три, вышел из дома и начал свои длинные обходы. Увидел ее, спрятался. В этих местах легко спрятаться. Когда она возвращалась, мужа часто не оказывалось дома. Это ее вполне устраивало, так как она могла выспаться. Наверняка они уже не один год выдерживали условие – не спрашивать по утрам друг у друга, что кто делал, кто куда ходил. Дети знали всё». Художник сказал: «Чтобы упрятать мужа в тюрьму, она даже ездила в С., в прокуратуру. У мужа были все шансы избежать наказания. В ту самую ночь, когда его увели жандармы, она пустила к себе живодера. Тот уже ждал своего часа, сидя на дереве. Бывало и так, что живодер пропадал на какое-то время. Тогда в доме воцарялась ледяная тишина». Хозяйка будто бы посылала детей в деревню за живодером. Если возвращались без него, мать награждала их затрещинами. «Пинками и затрещинами», – пояснил художник. Впрочем, хозяйка – «существо, которое позволяет себя бить, прячется, а потом появляется как ни в чем не бывало».
В последние годы с художником не было никого, кроме его домработницы. Она удовлетворяла и его «плотские запросы», которые все прочие то и дело «бесстыдно используют», однако он уже почти не поддерживает с ними отношений. «Она об этом ни сном ни духом», – сказал он. Для домработницы эта женщина достаточно интеллигентна, хорошо одевается и уходит по первому же требованию, уговаривать не надо. Однако, в отличие от большинства других домработниц, которых он знает, в нем она всегда видела только хозяина. Два дня на неделе принадлежали ей. Он воспринимал это как некоторое ограничение. Она чувствовала себя одинокой. Просто не знала, как распорядиться своим временем. Он платил ей больше, чем принято, и иногда покупал билеты на какое-нибудь увеселительное мероприятие, за что она расплачивалась особенной тщательностью при стирке и утюжке и чрезвычайным усердием на кухне. Родом она из деревни, а домработницы, выросшие в деревне, всегда самые лучшие. Она ходила к нему недолго, года два-три; раньше он не мог позволить себе нанимать домработницу. Сейчас она у своих родителей в Т. Вернулась к ним в первый же день после того, как он ее рассчитал. «Особа лет сорока пяти», – сказал он. Искусством ублажать и любезно выпроваживать гостей владеет, как лучшие математики своими премудростями. «Но я почти не принимал гостей!» За какие-нибудь три дня она изучила его вкусы, «что моей душе угодно». Он развязал ей руки. «Она внесла порядок в мой жутчайший бедлам», – сказал он. «В вопросах художнического быта "знала толк", всё понимала. А поскольку не имела понятия об искусстве, от нее я услышал самые точные суждения». Умела «и обувь чистить, и занавески бесшумно задергивать, и с важным видом попыхивать сигарой, как делают страдающие манией величия мэтры от искусства… Когда она была со мной, я понял, что значит быть богатым. Понял вдруг, что такое довольство и свобода передвижения». То, о чем ей и судить-то не подобало, она выражала убедительнее, метче и приятнее, чем ему когда-либо приходилось слышать. «Ей хотелось, чтобы всюду стояли цветы, на каждом свободном месте, но я запрещал». – «Не надо попадать в рабство к опрятности», – втолковывал он ей. Она считалась с этим. Она открывала ему и закрывала за ним дверь. Стирала пыль с книг и со стен, не вызывая у него протеста. Относила на почту его письма. Делала покупки. Ходила за него по всем казенным учреждениям. Она сообщала ему новости, которых он без нее и не узнал бы. «Она делала мне компрессы и не уставала тысячу раз повторять всяким надоедалам, что я в отъезде, хотя я лежал в своей комнате». Он сказал: «Богатство дает не меньше ясности, чем бедность». Однажды утром, когда он узнал о своей смертельной болезни, он запер всё, что имело затворы, а напоследок запер дверь за домработницей. «Она плакала, – вспоминал он. – Теперь я уже не вернусь. Для меня это всё равно что старый хлам подбирать. Я не могу вернуться, даже если бы хотел: у меня всё позади». Он сказал: «На самом деле у меня никогда никого не было, кроме моей домработницы. Я давно умер для всех, кроме нее».
У детей – вши, у взрослых – триппер, сифилис, выгрызающий порой всю нервную систему. «Люди здесь не ходят к врачу, – возмущался художник. – Их трудно убедить, что врач – такое же необходимое существо, как и собака. Люди, живущие инстинктом, противятся вмешательству. Естественно». Буря часто ломает деревья и убивает идущих внизу людей. «Ведь никто не защищен. Никогда. Нигде». Смерть настигает во время сна, в поле, на лугу. Люди гибнут в интервале между «глубокомысленным» и «возвышенным» разговорами. «Возвращаются в изначальное состояние». Чаще всего они ищут место «смертного уединения», где их нелегко было бы найти. «За пределами человеческого общежития». Животные тоже уходят далеко, подальше от других, когда чувствуют, что умирают. «Люди здесь как животные… Мертвые обломки чужой жизни» часто падали к его ногам. Это его страшит. Где-нибудь на просеке, на мосту, в глубине леса, «где тьма затягивает петлю». Он часто, по его словам, останавливается и оглядывается, думая, что его кто-то окликает сзади (у меня тоже бывает такое чувство), но ничего не видит. Он исследует кустарник, и воду, и камни, и подводную жизнь, «которая может быть столь же жестока, как и глубоководна». У него разные способы ходьбы по лесу: заложив руки за спину или сунув в карманы, пригибая руками голову, чтобы защитить ее. Он нередко ускоряет движение ног, чтобы догнать собственную голову, замедляет шаг, снова устремляется вперед. Он беседует с древесными стволами «как с членами некой внеземной академии, подобно детям, которым кажется, что они вдруг остались одни в хаотичной зловещей стихии». Его изобретательность позволяет достичь «поразительных, уходящих в бездны смысла словесных конструкций», которые он находит в лесу, на полях, луговинах, в толще снега. В лощине, например, ему пришли такие выражения, как магистр миропрезренческих наукили механик-законоед.Эта страсть пробудилась когда-то в один из летних месяцев и с тех пор не утихает, гробовщика человеческой волион погрузил в пробитую каблуком сапога дырку в ледяном покрове болотца. «Над нами властвует нечто такое, что, видимо, не имеет с нами ничего общего», что зачастую бесцеремонно вторгается в его жизнь. Над этим можно смеяться. Но сие настолько опасно, что «в этом можно и сгинуть». Он всегда восставал против «верховных сил», пока они «не переставали существовать» для него. «Где-то должен начаться и мятеж». Его мятежи уже нигде не начинаются. Здесь и там он встречает людей, которым кажется: у тебя баснословный капитал, несметный капитал, у меня такого никогда не было! Он признался: «Приходится часами унимать сердцебиение, которое в такой ситуации сравнимо с барабанной дробью. И ничто от этого надолго не защитит». Здесь люди не имеют капитала, а если он и есть, то нет сил употребить его, наоборот, «они его растренькивают». Именно здесь, «где всё, что в состоянии сделать человек, становится несостоятельным». Здесь уродство лезет во все щели «сексуального безрыбья». Вся местность «подточена их болезнями». Это некая долина, где гниль говорит «языком глухонемых»; то, что в других краях скрывается, маскируется до последней возможности, здесь беззастенчиво выпирает, «туберкулезом тут чуть ли не красуются. Его выставляют напоказ с полным бесстыдством, так, что за версту несет».
«Есть дети, – говорил художник, – которым до школы три часа ходу с горы. А нередко, прежде чем выйти из дому – в четыре утра, – они должны еще и на кухне подсобить. Двенадцатилетним приходится кормить и доить коров, а иначе кому же? – мать либо умерла, либо лежит больная, брат совсем мал, а отец в тюрьме за кабацкие долги. Запасшись ломтем черного хлеба, они топают в лютый мороз вниз. Прогресс обошел эти места стороной, да. С дикой внезапностью налетают ураганы, и кричи не кричи – никто не услышит. Сельских школ понастроили много, понаставили в обоих концах долины, а дорога к ним такое мучение, что не стоит тащиться, чтобы отупевать за партой. В лощине уже попадаются группы из двух-трех подростков, крепко сколоченные маленькие шайки тех, для которых всё уже слишком поздно. Дети здесь преждевременно повзрослевшие. Тертые. Ноги колесом. Головы с признаками водянки. Девочки бледны и худосочны, все мучаются нагноениями из-за проколов для сережек. Мальчики белесы, большеруки, с уплощенными лбами».
Вскочить и убежать и снова присмиреть, сидя на месте, – вот, собственно, к чему сводилось его детство. Комнаты, из которых не выветрились последние вздохи умерших. Постели, при первом прикосновении выдыхавшие запах покойников. То или иное слово, которое высокопарно прокатывалось по коридорам: «ни в коем случае», например, или «школа», «смерть» и «погребение». Его годами преследовали эти слова, терзали, «вгоняли в страшное состояние». И потом вновь были на слуху, как песнопение в своем чудовищном круговороте: слово «погребение», оторвавшись от кладбища и от всех кладбищ сразу, уводило далеко-далеко, в бесконечность, в то представление, которое люди связывают с бесконечностью. «Мое представление о бесконечности не изменилось с тех пор, когда я был трехлетним ребенком. Даже еще младше. Оно начинается там, где кончается зоркость глаза. Где всё кончается. И уже никогда не начнется». Детство пришло к нему «как человек, принесший в дом старые сказания, которые страшнее, чем можно помыслить, чем можно почувствовать, чем можно выдержать, и каковых ты никогда не слышал, потому что слышишь всегда. Не слышал ещеникогда». Для него детство началось на левой стороне улицы, а потом был крутой подъем. «С тех пор я всё время думал о падении. О способности к падению, я желал его, и меня влекли всяческие попытки в этом направлении… но нельзя позволять себе ни одной подобной попытки. Это в корне неверно». Тетки своими противными длинными руками тянули его в похоронные залы, высоко поднимали над позолоченным парапетом, чтобы он мог заглянуть в самый гроб. Они совали ему в ладошку цветы для покойников, и он вынужден был постоянно нюхать их и всё снова слышать: «Какой был человек! Как она хорошо выглядит! Посмотри, как он одет в миг прощания! Смотри же! Смотри!» Они «бесцеремонно» окунали его «в море тления». А в поездах у него в ушах стояло слово «вперед». Длинными ночами он любил приникать к щели в дверях спальни деда и бабки, где еще горел свет, где еще что-то рассказывали, где еще читали. Он восхищался их сном в одной постели. «Спят вместе, как овцы», – так он это ощущал. Они словно сплетались струями дыхания. Зори занимаются над колосящейся нивой. Над озером. Над рекой. Над лесом. Перекатываются через холм. Свежий ветер доносит звоночки птиц. Вечера – в камышах и в молчании, которое он наполнял своими первыми молитвами. Лошадиное ржание разрывает тьму. Пьяные гуляки, возчики, летучие мыши внушают страх. Три мертвых одноклассника на обочине дороги. Опрокинутая лодка, до которой не смог дотянуться утопающий. Крики о помощи. Головы сыра, такие огромные, что раздавить могут. Надгробья затевают игру, перебрасываясь деталями рождений и смертей. Мертвые черепа поблескивают на солнце. Открываются и закрываются двери. В домах священников садятся за стол. В кухнях кухарят. На бойнях забивают. В пекарнях пекут. В сапожных сапожничают. В школах учат – при открытых окнах, от чего становится жутко. Пестрые физиономии процессий. У крещаемых младенцев вид слабоумных. Епископа встречают всеобщим приветственным ором. Насыпь рябит фуражками железнодорожников, что вызывает смех мужчин, на которых, кроме рабочих брюк, ничего не надето. Поезда. Огни поездов. Жуки и черви. Духовая музыка. Потом огромные люди на огромных улицах: железнодорожный состав, от которого земля дрожит. Охотники берут его с собой. Он пересчитывает подстреленных рябчиков, серн, заваленных оленей. Лани, благородные олени, попробуй различи! Крупная дичь. Мелкая дичь. Снег, осыпающий всё. Желания в восемь, желания в тринадцать. Разочарования, орошающие наволочки. Потоками слез бессилия перед непостижимым. Вся жестокосердность мира, навалившаяся на него с шестилетного возраста.
Города, вскипающие злобой к своим открывателям.
«Детство всегда семенит рядом, точно собачонка, которая была когда-то веселой спутницей, а теперь требует особого ухода и лечения с наложением лубков и уймой лекарств, чтобы она потихоньку не испустила дух». Путь идет вдоль рек и не минует ущелий. Вечер, если ему подсказать, сконструирует самую добротную и хитросплетенную ложь. Да не сохранит от боли и возмущения. Затаившиеся кошки черными мыслями перебегут кому-то дорогу. Меня, как и художника, крапива затягивала на мгновения в какой-то дьявольский разврат. И я тоже крошил страх дробью малины, брусники. Стая ворон молниеносным вспорхом открывала лик смерти. Дождь набухал тяжестью и отчаянием. Радость перематывалась на веретено с венчиков щавеля. «Снег укутывал землю, словно ребенка». Ни влюбленности, ни смехотворной нелепости, ни жертвы. «В классных комнатах вязалась цепь простых мыслей, становясь всё длиннее». Потом городские магазины с запахом мяса. Фасады и стены, и ничего, кроме фасадов и стен, пока снова не открывался выход в поля, часто с поразительной неожиданностью, длившейся изо дня в день. Когда вновь начинались луга; желтые, зеленые, бурые нивы; черные леса. Детство: осыпь плодов с дерева, никакая иная пора не знает такого изобилия! Тайна его детства заключалась, по его словам, в нем самом. Он рос, как трава, среди лошадей, кур, молока и меда. Потом его снова вырывали из этого первозданного состояния, приковывали к каким-то целям, которых он не видел. Его планировали. Тысячекратно множа возможности, которые усыхали до одного зареванного вечера. До трех-четырех реальных вариантов. Уже неизменных. До трех-четырех законов. Схем. «Как рано можно сконструировать неприязнь. Ребенок еще в бессловесном состоянии желает достичь всего. Но ничего не достигает». Ведь дети гораздо бездоннее, чем взрослые. «Замедлители истории, не обремененные совестью. Они одергивают историю. Вдохновители поражений. Их безоглядность несравнима ни с чем». Еще не научившись сопли подбирать, ребенок уже несет смертельную угрозу всему сущему. Художника – как и меня – часто потрясает удар при каком-либо ощущении, которое было испытано в детстве – безотчетном ощущении, порождаемом каким-то запахом или цветом. «Это мгновение страшного одиночества».








