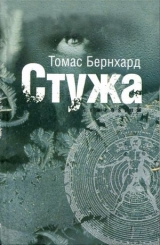
Текст книги "Стужа"
Автор книги: Томас Бернхард
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Художник сказал: «Священник – тяжело больной человек. Вчера до возвращения в гостиницу я разговаривал с ним. Он опять подбивал клинья насчет денег. Для богадельни. И для ризницы, представьте себе. Он слишком хорошо знает, какого я мнения о церкви. Он любит пройтись по свежевыпавшему снегу. Летом сидит на бережку своего пруда и за две недели умудряется не выловить ни одной рыбешки. Церковь держит свою духовную рать в послушании. Церковь здесь – нечто вроде доморощенной поэзии. Священника можно увидеть и на дереве, и в погребе, и на картофельном поле. Он возится с детьми. Его смех отличается каким-то дьявольским ритмом. Он боится всякой церемониальности, а пуще всего – епископа. Это, знаете ли, поэтично. Если услышите где-нибудь мужской плач, будьте уверены: это священник. Кстати, у него превосходная библиотека. С амвона он говорить не мастер. Он настолько боязлив, что его может не на шутку напугать даже птица, но если надо, он и среди ночи, в кромешной тьме, с одним фонариком и без причетников отправится к умирающему. Нередко – куда-нибудь на крутизну, где одни скалы и лед, в отдаленные крестьянские жилища».
«Эти древесные массивы, – сказал художник, – эти несметные запасы драгоценного леса гибнут здесь наверху. Тысячи, сотни тысяч стволов. Их пожирает целлюлозная фабрика. Там, в долине, они только на это и годятся. Вся эта местность была не чем иным, как диким великолепным торжеством флоры… Пойдемте, я покажу вам породы, которые пользуются здесь особым спросом… тут вам и ель обыкновенная, picea excelsa, она на первом месте, затем идут сосна, ель белая, лиственница, кое-где встречается европейский кедр. Пойдемте, я поясню вам кое-какие детали в отношении цветковых деревьев, так называемых покрытосеменных. И хвойных, голосеменных…»
В самом начале еще есть нечто, но уже и тут обнаруживается стремление как можно быстрее развить боль, отношения двух юных существ, которые внезапно или постепенно, но и в таком случае с изначальной внезапностью, сблизились друг с другом, – рассуждал художник. «Оно так прекрасно и так бесценно, пока его еще нет», – сказал он. Молодости «удается уловка на какой-то миг обмануть мир» и поддерживать днями и ночами иллюзию счастья. А я подумал об С. и решил тотчас же написать ей письмо, и тут же расхотел и попытался думать о чем-нибудь другом, не о ней, но не получилось и не получалось, пока мы были за деревней, пока шли дальше, не удавалось мне это ни в лиственничном лесу, ни в лощине, ни в гостинице. Я спрашивал себя: что это было? Разве это не давно минувшее? Как это всё случилось? Как и почему оборвалось? Сначала без нее не проходило и дня, потом почти ни одной ночи, потом всё распалось, как распадалось всегда, утекло в двух направлениях, обозначенных двумя разными людьми. Есть ли к чему возвращаться? Я часто просыпался среди ночи в страхе от этой мысли. И я ловил след, который обрывался вдруг где-нибудь в глуши, у реки, у какого-нибудь огня. Я без конца задавался вопросом: что приводит человека в такое состояние, которое неизбежно делает несчастливыми две юные натуры? Я еще очень молод! Да, всё прошло. Были тогда и последние встречи, выспрашивания, допытывания – и какой беспощадный конец! Если я напишу снова, она решит, что всё можно начать сызнова. Но начать уже нельзя, непозволительно. «Это ложь», – сказал художник. Я понял, что он имел в виду: ложь, которая опирается на другую ложь и ищет укрытия в третьей – в другом человеке. Я о таком убежище уже неделями и думать не думал. Я отошел от этой мысли, как удаляются от дел с твердым решением больше не возвращаться. И слава Богу. Художник сказал: «Тогда это напоминает две горы, разделенные бурной рекой». Я вдруг поймал себя на том, что незаметно распелся, начал напевать еще с тех пор, когда мы подходили к кукурузному полю. Пением я хотел заглушить свои мысли. Но мысли не уходят по приказу, их так просто не выпроводишь. Наоборот: они еще упрямее полезут в голову, и обернутся упреками, и нальются злобой. И если ввязаться в этот разрушительный процесс, можно упасть без сил, прямо на ходу, куда бы ты ни подался, где бы ни искал прибежища. Художник сказал: «Самые красивые цветы срезают в первую очередь, и умным садовникам остается лишь разводить руками». Он всё больше затягивал меня в омут мрачных мыслей, которые наконец – сколь ни безумным всё это казалось – сужающейся петлей, в которую я сунул свою голову, помогли мне оторваться от него. Не сказав ни слова, я побежал вперед, чтобы дождаться его у стога. Я извинился перед ним. Реакции не последовало.
По дороге, между лиственничным лесом и стогом, где будто бы нашли пропавшую собаку мясника, «скрюченную и залубеневшую на тропке», художник указывал мне на различные деревья, образующие местами небольшие рощицы или живущие своей одинокой жизнью. «Вот смотрите, ель обыкновенная, picea excelsa, знатная родня той пихты, что зовется красной елью и ошибочно именуется также благородной. Пихта белая…» Он шагнул к изгороди и сказал: «А вот, обратите внимание, дуб… Это каменный дуб, а это черешчатый… Дуб растет зачастую более двухсот лет. Его немецкое имя, Eiche, восходит к древнеиндийскому igya, что означает нечто вроде почитания, поклонения. Здесь вы встретите также ясень и ольху, и даже клен. А там, внизу, видите: тис, тот самый, о котором я вам рассказывал в день вашего приезда. Это царственный реликт незапамятных времен…» Когда мы шли вдоль лиственничного леса и мне казалось, что я иду по собственным, еще вчера проложенным следам, он заметил: «Здесь мы сталкиваемся с демоническим покоем, имеем дело с феноменом, которым пока еще слишком мало занималась наука». Действительно, вокруг стояла мертвая тишина, снизу не доносилось никакого шума, обычно сопутствующего работам. Ни звука. «Мир по-прежнему носится с примитивным романтическим представлением об этой тишине. Этот покой я всю жизнь воспринимал как болезнь изнуренной природы, как страшно разверстую бездну души. Эта тишина мерзостна даже природе».
Нельзя, конечно, рассчитывать на полную осведомленность, но мне кажется, его очень удручает то, что для него нет писем. «Никто не знает, где я нахожусь, – вот и не пишут. Но я даже не хочу, чтобы мне кто-то писал, – сказал он. – Коль скоро я никому не пишу, никто не знает, где я. Думаю, что никогда не напишу ни одного письма». Собственно, он в таком состоянии, что и не способен на это. Когда садится записать кое-что для себя в свои «завиральные тетради», которые он стал вести несколько лет назад, в минуты, «когда начинаешь погружаться в себя», у него так усиливается головная боль, что он вынужден бросать перо, не доводить мысль до конца, захлопывать тетрадь и ложиться в постель. Он и в самом деле не хочет никому писать. Всё для него настолько безвозвратно, что он не хочет ничего реанимировать, «ни одного лица, ничего, ровным счетом ничего». В последнее время он часто кажется себе живущим под водой, а потом снова вмерзшим в мир, разорванный и бессвязный. «Кричать нельзя, даже рот открыть невозможно». Всё проходит, и ничто не уходит, «как будто время остановилось». А каков будет исход («должен же быть какой-то исход»), я не знаю. А он может оказаться самым скверным, это я знаю из опыта. В чудо я не верю, по крайней мере теперь. Я могу себе представить, что он убьет себя. Но пройдет какое-то время до того, как он сделает это. Возможно, он будет дожидаться весны, а потом лета и следующей зимы и еще повременит. У него всегда одно перехватывает другое. Но десятилетиями это длиться не может, для него не может. Даже годами, поскольку он смертельно болен и скоро, так или иначе, умрет. Это заложено у него в подсознании, даже если совершенно стерто в верхних слоях мозгового вещества. Кстати, брат его деда, помощник егеря, покончил жизнь самоубийством. Будто потому, что «не мог более видеть людские страдания». Его нашли в лесу. Он пустил себе пулю в рот. Если выяснять мотивы, то в отношении всякого человека предполагаются все мыслимые причины. Но как утверждает ассистент, его брат был с самого начала «предрасположен к самоубийству». Он вдруг вновь заводит разговор о болезни, «перед которой совершенно отступает воображение». По ночам он докапывается до ее корней, но в решающий момент всё снова стирается. Лишь боль остается, «боль, через пик которой невозможно перевалить… Поначалу, – сказал художник, – меня вводили в заблуждение относительно какого-то способа лечения моей головы, какой-то методы. Но мне вдруг привелось заглянуть за кулисы врачебного ремесла: они ничего не знают и даже ничего не находят! Я отвергал всякие методы. Врачебная братия – всего-навсего сборище шарлатанов, вы уж поверьте! Ремесленники, и только! Разумеется, врачи не могут так просто говорить больным в лицо, что они умирают… что медицина лишь способ поверхностного успокоения тела и души…» Он сказал: «Держать голову повыше? Я и держал, и опускал совсем низко. Боль возникала, когда ей заблагорассудится, болезнь творила всё, что ей угодно, но она еще так внове, что боль, представьте себе, можно отслеживать до мельчайших колебаний и оттенков, всю эту болевую механику! Однако не будем о болезни, болезнь развязывает как грубые, так и тонкие языки… Хочется знать, страдает ли некто так же глубоко, как и ты сам… тогда речь заходит и о сострадании. Рассказывают о самом катастрофичном состоянии медицины, о смертельных случаях, о бессилии врачей, об изуверских операциях, о пластических экспериментах, о скандальных неудачах и так далее…»
«Будет желание, можно отправиться вниз, в кондитерскую, – сказал он. – А вы знаете, что у кондитера туберкулез? Здесь на каждом шагу разносчики этой заразы. Даже дочка кондитера болеет туберкулезом, видимо, это связано со стоками целлюлозной фабрики, с копотью, которую за десятки лет наизрыгали паровозы, с плохой пищей, которой здесь пробавляются. Почти у всех здешних дырявые легкие; пневмоторакс и пневмоперитонеум – обычное дело. Бациллы разъедают им грудь, голову, руки и ноги. У всех какое-нибудь изъязвление на туберкулезной почве. Долина печально знаменита размахом этой болезни. Тут вы найдете все ее формы: туберкулез кожи, туберкулез мозга, кишечника. Много случаев менингита, от которого умирают в одночасье. Рабочие заболевают туберкулезом от грязи, в которой вынуждены ковыряться. Крестьяне заражаются от собак и кишащего бациллами молока. Большая часть населения поражена скоротечной чахоткой». Кроме этого он отметил, что «эффект применения медикаментов, например стрептомицина, равен нулю. Знаете ли вы, что туберкулезом болен живодер, что хозяйка тоже туберкулезница? Что ее дети уже трижды побывали в лечебнице? А ведь туберкулез отнюдь не мыслится роковым недугом. Говорят, его можно излечить. Но это – довод фармацевтической индустрии, на самом деле туберкулез ныне так же неизлечим, как и во все времена. Даже те, кто прошел вакцинацию, заболевают. Зачастую самые тяжелобольные имеют такой здоровый вид, что подумаешь, их никакая хворь не берет. Розовощекие лица никак не наводят на мысль о разъеденных легких. Постоянно натыкаешься на людей, которые изведали прижигание или размозжение диафрагмального нерва. Но очень многим жизнь загубили неудачные пластические операции». Мы не идем в кондитерскую, мы тут же поворачиваем домой.
Собачий лай
«Я мог бы сказать, что это происходит в вышине, – рассуждал художник, – и в глубине, поочередно: высоко наверху и в самом низу, на всех склонах, вы слышите, голова рассекается настом, идет беспрерывное разрушение железными клиньями воздуха, железом ветра, да будет вам известно. Тут всё превращается в клочья, в сор, и это приходится вдыхать, вдыхать через слуховые проходы, пока не свихнешься, пока разбухшие ушные раковины не изувечат твой мозг и твое лицо, представьте себе, изувечат с безграничной наивностью воли к разрушению. Слушайте, замрите и послушайте: тявкают! Это нельзя искоренить, можно лишь оттеснить, оттереть, бросить все силы мозга против этого тявканья, лая, жуткого воя, можно опрокинуть его, но тем ужаснее он будет, когда снова поднимется, это угнетает плоть, душу и плоть, это, как червивая масса, внедряется в любое пространство, заполняет всё, к вашему сведению, утверждается повсюду – в немыслимых жировых складках истории, вселенной, в самых тугоплавких отложениях четвертичного периода… Это же нелепость, – сказал художник, – прятаться в собачьем лае, всё равно будешь обнаружен, и тогда в тебя вопьется страх – мне страшно. Да, я чувствую этотстрах, я всюду слышу: страх и снова страх, и я слышу этотстрах, и уже один только этот преследующий, как призрак, комплекс страха истерзает меня, доведет до безумия, не только моя болезнь, нет, поймите, не толькоболезнь, но эта болезнь вкупе с этимкомплексом страха… Слышите?!.. Как гавканье строит свои ряды, как соблюдает интервалы, как бьют бичи собачьего лая, чуете собачью сверхловкость, сверхотчаяние, адскую неволю, которая мстит, не может не мстить своим унылым учредителям, должна отомстить мне, вам и всем тоже, всем безграничным, ужасным, а в сущности, ущербленным призракам, этим человеческим обрубкам, адским осколкам горней выси и небесным осколкам преисподней, мстить каторжанскому несчастью всех разносчиков трагедий… Слышите, вот они, разносчики трагедий, этот ускальзывающий от ответов, упрямый пучок змеиных жал. Слышите: чудовищно мерзкая республика советов всемогущего слабоумия, слышите: самопровозглашенное парламентское лицемерие… Это собаки, это собачий лай, это смерть во всех своих диких проявлениях, смерть во всей своей недужности, в зловонии профессиональной преступности, смерть, этот камень на шее всякого отчаяния, бациллоноситель чудовищной бесконечности, смерть истории, смерть бедности, это, слышите вы, – смерть, которой я не желаю, которой никто не желает, уже никто, это она, смерть, собачий лай, слышите, это неумолимое утопление разума, отказ всех забрезживших догадок от своих показаний, слышите: это сумасшедшее шлепанье всех мягких пластов памяти на бетонной мостовой, на бетонной мостовой великого, возвышенного безумия человека… Послушайте, что я думаю о собачьем лае, я пытаюсь тем самым исследовать нрав адских испарений, прободение границ между геологическими эпохами: кембрийского периода, силурийского, каменноугольного, пермского и триаса, юрского, чудовищного третичного и четвертичного при неимоверно бессмысленной неуступчивости всё еще прущих из недр мощных аллювиальных отложений… Послушайте, я вхожу в этот лай, заползаю в него и выбиваю ему зубы, я покоряю его грозовым зарядом своего безрассудства, разрываю его мысль, сокрушаю его лживую пропаганду со всеми ее ухищрениями… Послушайте, остановитесь и послушайте, как вскипает кровавая пена на собачьих языках. Слушайте же собак, слушайте, слушайте…»
Мы находились в таком месте, откуда можно было заглянуть в глубь ущелья. «К волкам, – пояснил художник. – Отсюда можете камнем бросить взгляд во всю волчью премудрость». Он совсем обессилел. Я слышал собак. Слышал лай и тявканье. Я сам был совершенно измотан. Слововорот художника опрокинул меня, словно камнями завалил. «Тут я увидел его раздавленным на дороге, прямо перед собой, под собой», – сказал однажды художник. Я моментально приводил его словоизвержение в логический порядок. И всегда был ошеломлен, стоило мне лишь нажать на кнопку слухового механизма, и извержение захлестывало меня. Но я слишком устал, совершенно изнемог. «Слышите?! – сказал художник. – Это лай светопреставления. Это, несомненно, конец света собственной персоной, этот лай. Какой строгостью это отражается на человеческих лицах, в человеческих гримасах мысли, в гримасах рассудка, при полном исключении всего смешного». Он сказал: «Мне страшно. Пойдемте в гостиницу. Не могу больше слышать это тявканье». Собаки никогда еще не лаяли столь непрестанно в течение всего дня и предшествующей ночи. «Что мог бы возвещать этот лай? – задумчиво произнес художник. – Что бы мы там себе ни думали, сколько бы мы ни знали – это настоящее светопреставление».Слово «светопреставление» он прокатил «по лотку языка» как величайшую драгоценность и медленно, как «особое прегрешение против вкуса», протянул это слово «по лотку языка». Потом мы шли молча. В лощине он сказал: «Позор! Разве вы не видите, что начертано там, наверху, в самой вышине, которую мы льстиво именуем небесным лоном? Там начертано: "Позор!"»
Прежде чем уединиться в своей комнате, «не для того чтобы поспать, а в полной тишине ужаса повыть про себя, повыть внутрь себя», он сказал: «Как, однако, всё размочалено, как всё расползлось, как подорваны все основы, как распались все скрепы, не осталось ничего, совсем уже ничего, вы видите, как из религий, и из антирелигий, и из растянувшейся на века смехотворности всех богоучений ничего не вышло, вы сами видите, что веры, как и безверия, больше не существует, нет и науки, нынешней науки, вы видите: как камень преткновения, залежалая закуска тысячелетий, всё вырвала с корнем, всё выветрила, всё бросила на ветер, теперь всё – лишь воздух… Слышите, всё вокруг – это всего лишь воздух, все понятия, все опоры, всё – один только воздух…» И он добавил: «Замороженный воздух, ничего кроме…»
День пятнадцатый
«Немощь, – сказал художник, – в деревне немощно всё. Большое заблуждение думать, что деревенский люд наделен какими-то особо здоровыми качествами. Сельские! Как бы не так! Сельские – недочеловеки сегодняшнего мира! Низшие существа. Деревня вообще зачахла, деградировала, гораздо больше деградировала, чем город. Последняя война подточила деревенских! До самых потрохов. Это уже просто человеческая рухлядь, шваль деревенская! Да и были разве они когда-нибудь хороши, мужики и бабы, скажите на милость? Было ли оно уж так безгрешно, сельское население? Наследственная связь с землей, земля-кормилица – думаете, такое когда-нибудь было? Нет, был лишь расхожий миф! Туфта! Туфта, говорю вам! Слышите: туфта! Деревенские, может быть, более сдержанны, но в этом и заключается их непроглядная дремучесть, неотесанность, убожество! Этот кондовый, грубый менталитет, когда простодушие и подлость вступают в сварливый дурацкий брак, опустошая всё!.. От сельского люда не приходится ждать ничего путного! Деревни – угодья разнузданной тупости! Сельская набожность – не более чем тупость! И заметьте, я говорю о всеобщей заразе! Меня от деревни просто с души воротит! Я ни во что не ставлю и не ставил крестьянство и так далее. Вы можете держаться иного мнения. По-моему, село не имеет будущего. Всё деревенское население вообще! Деревня – уже не дойная корова, но всё еще – заповедник грубости и слабоумия, разврата и чванства, вероломства и смертоубийства и неуклонного вымирания! Это уже даже не монополия безмятежности! Нет, как я вижу, более глубокого заблуждения, чем миф об исконном деревенском ладе и о необходимости делать отсюда поучительные выводы, да еще философского свойства, миф о том, что в деревне хоть немного лучше, чем в городе! Совсем наоборот!
Там, где кончается глушь, где мир – лобовая сшибка, вот где благоденствие, вот где достаток. Здесь же им и не пахнет. В эту долину ему путь закрыт. Здесь для него слишком тесно, и слишком грязно, и слишком мерзко. Скалы преграждают ему дорогу. Благосостояние заблудилось бы здесь в одну темную ночь. Оно доходит лишь до предгорий. А тут его ждет темная яма. Здесь только работа, нищета, и больше ничего. Все стежки-дорожки ведут в петлю и в реку. Дерут глотку профсоюзы. Витийствуют партии. А всё остается по-прежнему. В сорок лет деревенские мужики – уже развалины. На краю могилы. Стоит к ним немного приглядеться, прислушаться, и станет ясно, что они готовы просто сигануть вниз, с утеса. Они вешаются в амбарах, в строительных бараках при электростанции, в моечных цехах целлюлозной фабрики. Сама мысль об этом, если хотите знать, часто губит рожениц. Электрические провода доводят их до сумасшествия, а вода в реке ревет, как забиваемая скотина».
Зимой по естественным причинам труднее всего вести работы на стройплощадке, рассказывает инженер. Мы сидим внизу, в зальчике, и художник делает вид, будто ему необычайно интересно то, что говорит инженер. У художника сильные головные боли, но он старается всячески это скрыть, пьет вместе со всеми вино и порой делает какое-то движение рукой, словно хочет убедиться, что Паскаль, которого он носит в кармане пиджака, всё еще на месте.
«А когда надвигаются морозы, с бетоном вообще работать нельзя, – продолжает инженер. – Но заняться есть чем: сейчас мы как раз укладываем мостовую опору. Это небезопасно». Художник спрашивает: «А не холодно вблизи воды-то? У меня мороз по коже, когда я просто гляжу на нее, а как можно целый день стоять над водой, да еще и команды подавать». – «Дело не в холоде. Главное – не страдать головокружением. Если поплывет в глазах, опомниться не успеешь, как полетишь в воду». – «Там, наверное, глубоко?» – спрашивает художник. «В том месте река неглубокая, – говорит инженер, – но бешеная. Даже если ты хороший пловец и силой не обделен, как все наши, едва ли сумеешь выплыть, тебя так подхватит, что вмиг унесет к старой плотине, а там – верная смерть». – «Ах да, – говорит художник, – там ведь есть еще и старая плотина. Ее не снесут, когда закончат электростанцию?» – «Снесут. К тому же она вот-вот развалится». – «Естественно, а сколько людей под вашим началом?» – спрашивает художник. «Две сотни, – отвечает инженер, – но практически всегда меньше, у кого-то выходной, кто-то болеет. В среднем на стройке человек сто восемьдесят». – «Сто восемьдесят! – говорит художник. – Весьма впечатляющая цифра». – «Прежде всего надо сообразить, как лучше их использовать. Где они в самый нужный момент нужнее всего. Тут, конечно, приходится поломать голову. Но на это у меня ночь. Ночью у меня в голове выстраивается всё, что должно быть сделано на следующий день». – «А вы записываете свои соображения?» – спрашивает художник. «Нет, ничего не записываю. У меня всё в голове. А в машине, когда утром еду вниз, привожу в порядок то, что надумал ночью. Часто поручаю тем, которые ужинают в гостинице, передать мои распоряжения дальше. Так я обхожусь без лишней беготни по стройплощадке. Не так-то легко бывает добраться от бригады до бригады. Они работают на большом расстоянии друг от друга. Одна бригада, к примеру, работает на мосту, другая на погрузке в нескольких сотнях метров, у дороги, третья внизу, у каскада». Художник спрашивает: «Где же они обедают?» – «В столовке. Там обедают все, кроме каких-то единиц, которые не заняты на работе. Те поднимаются в гору, чтобы отобедать в гостинице, где получше кормят». – «В столовой, конечно, дешевле, чем здесь?» – интересуется художник. «Дешевле, но не так вкусно». – «А как на Рождество? Все они разъезжаются по домам?» – «Домой едут очень немногие. У большинства и дома-то нет. В столовке устроили рождественский праздник. Я тоже там был». – «А надбавку к празднику руководство предприятия им выплачивает?» – «Да», – отвечает инженер. «И эта надбавка адекватна?» Инженер говорит, что относительно высока, «строительные фирмы не мелочатся, когда речь идет о наградных к праздникам». А вообще-то рабочие и так прилично зарабатывают. Подсобному рабочему там, на площадке, его три тысячи шиллингов обеспечены. «Столько не имеет ни один из учителей средней школы, – говорит художник. – Конечно, работу подсобника там, внизу, не сравнить с работой учителя». – «Ясное дело». Живодер говорит: «У них еще и сверхурочные, и заработок доходит аж до четырех тысяч или и того выше». – «Сверхурочные – это хорошо, – говорит инженер, – но с ними рабочим прямой путь в могилу». Не секрет же, что они становятся легочными больными, нередко ломаются в одночасье, а потом неделями лежат в больнице. «Начальство тоже косо смотрит на перебор со сверхурочными. Приходится платить за недели и месяцы стационарного лечения». Но, если учесть, как они выкладываются там, внизу, «о переплате не может быть и речи». Кроме того, у них и потребности серьезные, им надо и поесть хорошо, и выпить не повредит после работы, чтобы не отчаяться. «Легче всего холостым, они помоложе и покрепче и могут кое-что отложить впрок. Часто, поработав несколько лет по колено в грязи, они находят себе другое занятие, случается, открывают свое дело, если кое-что соображают в этом». Между прочим, он и сам раньше вкалывал по колено в грязи. В молодости он вынужден был зарабатывать подсобником себе на учебу, и ему, так же как мне самому, всё это не чуждо, он по себе знает, что значит месить ногами жижу и ковыряться в котловане, чтобы, дай-то Бог, выдать на-гора свои восемь кубов грунта за день и не лишиться работы, снова оказавшись на улице. «Всё это мне знакомо, на этих делах у меня рука набита, а они это примечают, отчего у меня и отношения с ними со всеми хорошие». Ни с одним другим инженером на стройплощадке они не умеют так отлично ладить. На него можно в случае чего положиться, если надо, к примеру, что-нибудь пробить для них у начальства. «Когда потеплеет, – говорит он, – мы многое наверстаем». – «Здесь вам очень хорошо платят, – замечает художник. – Насколько я знаю, инженеры-строители – самые высокооплачиваемые специалисты во всей стране». – «Да, – отвечает инженер, – так-то оно так, но я мог бы еще в Индию поехать, там мне платили бы больше. Но в Индию я не поехал, хотя предложение заманчивое».
Я вдруг подумал о людском круговороте в столице, где между двенадцатью и половиной второго вся чистая публика совершает променад по Грабену и Кертнерштрассе и демонстрирует себя, точно в витрине километровой длины, я взглянул на всё это глазами крупного торговца, глазами фабрикантши, супруги адвоката и сотней других глаз, например директора счетной палаты или госпожи зеленщицы, которая с Нашмаркта поспешила заявиться сюда, наверх, чтобы при сем присутствовать. Я представил себе, как сам я, с тетрадками и книгами под мышкой, смешиваюсь с толпой и на каждом шагу слышу обрывки какого-либо разговора, то на излете, то в самом начале, иногда ловлю просто бранные возгласы или сердитые реплики. И меня овевает неожиданно свежий ветер, хлынувший, как мне кажется, с ближайших гор и холмов прямо в уличные коридоры, и я не знаю, куда податься в это обеденное время. Все друзья куда-то подевались, исчезли за стенами своих домов, засели в столовых, где встречаются со своими девушками и родственниками из провинций, а ты, один-одинешенек, ломаешь голову, что предпочесть: просто плыть вместе со словесным потоком любопытствующих или важничающих прохожих или же посидеть в каком-нибудь парке, коих так много в столице и один другого краше, и я принимаю решение поддаться второму поползновению и уже сворачиваю за Альбертину, минуя террасу с памятником фельдмаршалу Альбрехту, и вот я оказался на зеленом островке, где дни напролет поют птицы, а дети играют в салочки. Здесь сидят секретарши, жующие свои бутерброды, сюда заходят передохнуть молочницы и какой-нибудь доктор философии, который тоже не находит более подходящего уголка и, расположившись на каменной стопе статуи или на террасе лестницы, поглощает приготовленный еще с утра, бережно обернутый ломтик копчености. Благоухает жасмин, и припахивает вареными яйцами, и лишь иногда идиллия нарушается шуршанием метлы, которой один из бесчисленных дворников гонит вороха листвы из одного конца парка в другой. Ясное око часов говорит мне, что до следующей лекции остается еще два часа. Книги ложатся на самую верхнюю ступень лестницы, ведущей к перегруженному причудливой патетикой греческому храму муз, а всё мое тело блаженно вытягивается в лучах солнца, которое, кажется, вот-вот скиснет. Скоро и октябрь подойдет к концу, и парк останется без единого листочка и без единой души. Скоро первые снежинки упадут на плечи, и на смену летним туфлям придут ботинки. Но даже зимой на Кертнерштрассе так кипит жизнь, что и при тридцатиградусном морозе становится почти жарко. А Грабен к Рождеству искрится огнями, и люди поднимают бокалы и радуются, что родились на свет. Порой проберет ознобец, это когда стоишь среди людей в полном одиночестве, а потом вспомнишь про свою надежную постель, и сразу на душе полегчает.
Сегодня, сидя у окна, я подумал о том, что неплохо бы озаботиться своим будущим. По крайней мере – ближайшим. Поразмыслить о том, что будет со мной, когда закончится практика в Шварцахе. С чем я пойду на экзамены? Я не чувствовал, что набрался достаточных знаний, чтобы вообще держать экзамены. Но здесь мне всё равно не удалось бы к ним подготовиться. Не хватило бы времени. Ведь я же целиком нахожусь под влиянием художника, я должен сопровождать его, должен и не могу ничего иного; даже если бы он не всегда приглашал меня, я бы ходил за ним как привязанный. Все прогулки на один лад. Это даже не прогулки – просто пешие передвижения сквозь снегопад, сквозь ветер и лес, сквозь стужу. Иногда я остаюсь один. Это когда он уединяется у себя, чтобы доползти до постели («только не думайте, что сплю!»), и еще когда во время прогулки он ни с того ни с сего, отсылает меня в гостиницу, как было позавчера. Он поднимает на меня глаза, тычет в меня палкой и говорит: «Ступайте в гостиницу. Сейчас мне надо побыть одному». И я ухожу, но тотчас вновь к нему возвращаюсь в мыслях, которые только им и заняты.
Я должен написать домой, сообщить хотя бы здешний адрес, чтобы домашние, когда обо мне уже две недели ни слуху ни духу – правда, они наверняка навели справки в клинике, – знали, что со мной приключилось. Но их озадачило бы мое сообщение о том, что я торчу здесь ради наблюдения за каким-то человеком. Наблюдение? Вести за кем-то наблюдение – этого они бы просто не поняли. Как это так: наблюдать за человеком? Да я и сам этого не знаю. За братом ассистента? Да. А зачем? Потому что он тяжело болен? Страдает смертельным недугом? Который никто даже диагностировать не может? Что это? Заболевание мозга? Повреждение рассудка? Имеется в виду человек, которого следует считать ненормальным? И тебе его подсудобили? По инициативе ассистента? И с одобрения главврача? Какого-нибудь видного специалиста? Подвергли такой опасности? Молодого человека? Который с самим собой-то разобраться не может? Приставили к художнику, у которого ералаш в голове? У которого вся жизнь ералаш? У которого всё не как у людей? Ведь это может страшным эхом отразиться в нашем сыне, нашем брате, нашем племяннике. Да, значит, лучше не писать им. В конце концов, что такое две недели? Часто я не давал о себе знать и подольше. Месяцами. Я их даже приучил к своим неожиданным появлениям и разлукам без предупреждений и вестей о себе. И, считая моим местонахождением Шварцах, где, как им известно, я неплохо устроился, они вовсе не будут обеспокоены отсутствием писем от меня. Мое будущее подобно лесному ручью, который знают по многочисленным точным описаниям, никак иначе. А лес бесконечен и угрюм, каким он выглядит в непроизвольных, совершенно детских представлениях, которые тут же смещаются в зону мрака и больше не покидают ее. Будущее несется вперед. И всё же притормаживает перед дверью. Войти в нее? Как? Чем надо оснастить себя, чтобы пройти через эту дверь, которая ведет в бездонный мрак? Я приеду домой, и запрусь в своей комнате, и разберу себя по косточкам, доберусь до самых потрохов. Это будет холодный, беспощадный анализ. Окна будут закрыты, может быть, за ними будет даже валить снег, всё должно отступить от меня, за обеденным столом меня не увидят, даже к завтраку не буду спускаться; меня будут звать, а я не отзовусь. Потом ежевечерняя прогулка по лесу вдоль ручья, мимо мельницы, передышка на скамейке, откуда открывается широкий обзор местности. Потом можно и отправляться в поездку. Снова комната в общежитии, в которую не пробиться ни единому лучу солнца. Я сам готовлю себе еду, я смотрю на часы, я ложусь и не могу уснуть, я выхожу на улицу, возвращаюсь и вновь открываю свои книги. А практика? Что еще она может мне дать? Как долго мне еще оставаться в Шварцахе? А если ассистент будет недоволен? Что, если он подумает: ах, уж лучше бы я поручил это кому-нибудь другому, не этому. Буду ли я снова получать пять сотен шиллингов, как в предыдущие годы? Где же мне теперь отсидеться какое-то время? Знает ли обо всем этом старшая сестра? Ну, разумеется. Я же отсутствую, она отмечает это всякий раз, когда раздают еду. Сейчас вспоминается тоскливая атмосфера в ординаторской. Там стоит радиоприемник, который уже несколько лет неспособен издать ни звука. Часы тикают исправно, но время показывают неправильно. Из ваз торчат давно увядшие, осыпающие сухую труху цветы. Длинный стол накрыт серой клеенкой, и она прибита к нему гвоздями. На стенах висят картины, изображающие сцены из деревенской жизни – творения какого-то академического постника. Книги, которые никто не раскрывал десятилетиями. За столом я вижу главного врача, ассистента, ассистента ассистента, травмохирурга, врачиху из педиатрического отделения. А в одном ряду со мной вижу двух других практикантов, доктора из Греции, только что принятого терапевта. Они молча едят и время от времени рисуют на клеенке какие-то знаки: сложные переломы предплечья, положение эмбриона, а сестра-подавальщица стирает их, когда все уходят. Я блуждаю по длинным коридорам, опять теряю ориентацию внизу, где все двери оказываются вдруг запертыми и непонятно, как можно войти или выйти, я барабаню в дверь, и мне уже кажется, что я на всю ночь заточен в этом междверном пространстве. Я слышу чьи-то шаги и вновь бью кулаками в дверь, и она открывается, и я вижу на пороге сестру, которая говорит: «Господин доктор, как вы сюда попали?» Уж не ослышался ли я? Неужели я и впрямь «господин доктор»? А потом я пытаюсь сравнить двоих пациентов, страдающих одним и тем же недугом и по-разному на него реагирующих. Один из них умирает, другой же остается жить, будто ему ничто и не угрожало. А у обоих одна и та же болезнь. Об этом я читаю при скудном свете в книге Кольтца, описывающего заболевания головного мозга, но болезнь художника, которая относится к патологии мозга – как же иначе? – Кольтцем не упоминается. А это новейшее исследование одного из ведущих ученых. Свежее поступление из Америки.








