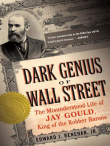Текст книги "Костры амбиций"
Автор книги: Том Вулф
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 49 страниц)
– Шерман! Как насчет заявления прессе?
– Шерман! Эй ты, пиздюк!
– Ладно! – Это выкрикнул Киллиан. – Хотите заявление? Мистер Мак-Кой ничего говорить не будет. Я его адвокат, и я вам кое-что скажу.
Снова толкотня, давка. Микрофоны и камеры теперь устремились к Киллиану.
Шерман стоял сразу за ним. Киллиан уже не держал Шермана под руку; Гольдберг еще держал.
Чей-то выкрик
– Представьтесь!
– Томас Киллиан.
– По буквам!
– К-И-Л-Л-И-А-Н. О'кей? Это не арест, это цирк! Мой клиент был готов в любой момент предстать перед большим жюри, чтобы ответить на выдвинутые против него обвинения. А ему устроили этот цирк, грубо нарушив договоренность между окружным прокурором и моим клиентом.
– Что он делал в Бронксе?
– Я все сказал, и больше ничего добавлять не буду.
– Вы утверждаете, что он невиновен?
– Мистер Мак-Кой полностью отрицает обвинения, и этот арест – этот возмутительный цирк – ни в коем случае не должен был иметь места.
Пиджак у Киллиана совсем промок. Рубашку Шермана дождь давно вымочил, он чувствовал, как вода бежит по спине.
– iMira! iMira! <Смотри! (исп.)> – Какой-то латиноамериканец все время повторял одно и то же слово:
– iMira!
Шерман стоял ссутулив мокрые плечи. Чувствовал, как отяжелевший от воды пиджак оттягивает запястья. Через плечо Киллиана виднелся частокол микрофонов. Гудели моторы видеокамер. Каким ужасным огнем горят эти лица! Хотелось умереть. Прежде никогда такого не бывало, чтобы по-настоящему хотелось умереть, хотя, как и многим другим, ему случалось тешиться этим чувством. Зато теперь он действительно хотел, чтобы Бог или Смерть принесли ему избавление. Настолько жутким было испытываемое им чувство, а было оно не чем иным, как чувством жгучего стыда.
– Шерман!
– Мать твою!
– iMira! iMira!
А потом он стал мертвым, таким мертвым, что не смог бы даже умереть. Упасть и то не хватило бы духу. Репортеры, операторы, фотографы, – какая дикая брань! – они все еще здесь, всего в трех футах! – мухи и личинки, а он дохлый зверь, по которому они ползают и которым питаются.
Так называемым заявлением Киллиан отвлек их всего лишь на минутку. Киллиан! – чьих связей было якобы достаточно, чтобы уберечь клиента от обыкновенного ареста! Что ж, и впрямь это не обыкновенный арест. Это смерть. Последних остатков чести, достоинства, самоуважения, которыми когда-то обладало существо по имени Шерман Мак-Кой, его лишили, разом и запросто, и теперь это уже не он, а лишь его душа, уже умершая, стоит под дождем в наручниках, а вокруг Бронкс, и перед ней очередь из дюжины других арестованных, ожидающих у неказистой железной дверцы. Эти паразиты зовут его Шерман. Облепили с ног до головы.
– Эй, Шерман!
– Признаешь обвинение?
Шерман смотрел прямо перед собой. Киллиан и двое детективов, Мартин и Гольдберг, по-прежнему пытались заслонять его от жадных паразитов. Из толпы выдвинулся телеоператор, толстый как бочка. Камера лежала у него на плече словно гранатомет.
Гольдберг крутнулся к нему и заорал:
– А ну убери свою поганую камеру! Сует прямо в лицо!
Оператор отступил. Как странно! И какая в этом полнейшая безнадежность! Гольдберг теперь выступает его защитником. Он стал как бы собственностью Гольдберга, его домашним животным. Гольдберг и Мартин привезли сюда своего зверя и теперь заботятся, чтобы он был доставлен по назначению.
Киллиан – Мартину:
– Так не годится. Ребята, вам надо что-то предпринять.
Мартин пожал плечами. И тут Киллиан со всей серьезностью говорит:
– У меня же туфли к чертовой матери размокнут!
– Мистер Мак-Кой!
Мистер Мак-Кой? Шерман повернул голову. Высокий бледный мужчина с длинными светлыми волосами стоял во главе кучки репортеров и операторов.
– Питер Фэллоу из «Сити лайт», – сказал мужчина. Он говорил с британским акцентом, снобистским и высокомерным до пародийности. Он что – издевается? – Я несколько раз звонил вам. Очень хотелось бы знать вашу точку зрения на все это.
Шерман отвернулся… Фэллоу, этот его неотвязный мучитель из «Сити лайт»… Никаких угрызений: подошел, представился… какое там… его жертва уже мертва… Полагалось бы его ненавидеть, но Шерман не мог, слишком полон был омерзением. К самому себе. Он был мертв даже для себя самого.
Наконец всех задержанных во время облавы в ночном клубе впустили внутрь, и Шерман с Киллианом, Мартином и Гольдбергом оказались у самой двери.
– О'кей, советник, – сказал Киллиану Мартин, – дальше мы сами справимся.
Шерман бросил умоляющий взгляд на Киллиана. (Ведь вы, конечно же, пойдете со мной!)
– Когда вас приведут к судье, я буду уже наверху, – сказал Киллиан. – Ни о чем не беспокойтесь. И помните: никаких заявлений; о вашем деле не говорите ни с кем, даже в камере – особенно в камере!
В камере! Тут еще крики какие-то из-за двери…
– Сколько времени все это займет? – спросил Шерман.
– Точно не знаю. Там впереди еще все эти гопники. – Затем, повернувшись к Мартину:
– Послушайте. Будьте человеком. Попробуйте провести его через обкатку пальцев впереди этой кодлы. В смысле – ну, ради бога.
– Попытаюсь, – отозвался Мартин, – но я ж говорил вам. Им за каким-то хреном нужно протащить его через все это шаг за шагом.
– Это понятно, но вы у нас в долгу, – сказал Киллиан. – Вы у нас в большом долгу… – он замолк. – Давайте по-честному.
Внезапно Гольдберг потянул Шермана под локоть. Мартин двинулся следом. Оглянувшись, Шерман поискал взглядом Киллиана. Шляпа Киллиана так промокла, что казалась черной. Галстук и плечи пиджака пропитались влагой.
– Не волнуйтесь, – сказал Киллиан. – Все будет в порядке.
По тому, как Киллиан произнес это, Шерман понял, что у него на лице написано полнейшее отчаяние. Затем дверь закрылась; все. Киллиана рядом нет. Шерман отрезан от мира. Он думал уже, что страх ушел, осталось одно отчаяние. Но вот опять он боится, боится еще больше. Заколотилось сердце. Дверь закрыта, и он затерян в Бронксе, в мире мартинов и гольдбергов.
Он оказался в просторном невысоком помещении, разбитом на клетушки, некоторые со стеклянными стенками, похожими на внутренние прозрачные переборки в какой-нибудь радиовещательной студии. Окон не было. Яркая электрическая дымка висела в воздухе. Туда и сюда расхаживали люди в форме, но не на всех форма была одна и та же. У высокой стойки стояли двое мужчин со скованными за спиной руками. Рядом двое молодых людей в каких-то лохмотьях. Один из задержанных через плечо обернулся, увидел Щермана, локтем толкнул другого, они оба поглядели на Шермана и засмеялись. Откуда-то сбоку донесся крик, который Шерман слышал еще на улице: «iMira! iMira!» Гогот, потом громкий прерывистый звук, с которым у человека опорожняется кишечник. Низкий голос произнес: «А-ах ты. Засранец».
Другой голое «О'кей, уберите это. Ну-ка водой из шланга».
Двое в лохмотьях, согнувшись, завозились позади двоих задержанных. За стойкой был громадина-полицейский с абсолютно лысой головой, большим носом и выдающейся челюстью. На вид ему было лет шестьдесят, не меньше. Двое в лохмотьях как раз снимали с одного из задержанных наручники. На одном из парней в лохмотьях был дутый жилет, надетый на рваную черную футболку. На ногах кроссовки и пятнистые маскировочные штаны с резинками у щиколоток. На жилете значок-щит с надписью «Полиция». Потом Шерман и у второго тоже заметил значок. К стойке подошел еще один старый полицейский и говорит:
– Слышь, Ангел, с Олбани лажа.
– Чу-удненько, – протянул лысый. – А у нас этакая кодла, да еще и в самом начале смены!
Гольдберг посмотрел на Мартина, закатил глаза, усмехнулся. И сверху вниз оглядел Шермана. Он все еще держал Шермана под локоть. Шерман тоже оглядел себя. Пенопластовые шарики! Упаковочные пенопластовые шарики, которых он набрался на заднем сиденье в машине Мартина, были на нем повсюду. Облепили переброшенный комом через запястья пиджак. Твидовые брюки – сверху донизу. Брюки сырые, мятые, на коленях и бедрах сбились сикось-накось, и повсюду на них паразитами кишат пенопластовые шарики.
С Шерманом заговорил Гольдберг:
– Видите вон ту комнату?
Шерман поглядел туда, куда было указано, сквозь широкий застекленный проем. Там стояли шкафы с картотекой, лежали стопы бумаги. Всю середину помещения занимал большой серо-бежевый аппарат. На него хмуро взирали двое полицейских.
– Это телефакс, который посылает отпечатки пальцев в Олбани, – объяснил Гольдберг. Он сказал это с той ласковой напевной интонацией, с какой говорят со сжавшимся от испуга ребенком. Этот тон еще больше напугал Шермана. – Около десяти лет назад, – продолжал Гольдберг, – один умник подал идею – кажется, это десять лет назад было, а, Марти?
– Не знаю, – отозвался Мартин. – Знаю только, что это самая, блядь, идиотская идея в мире.
– В общем, кому-то пришло в голову собирать все отпечатки пальцев со всего этого блядского штата Нью-Йорк в одном центре в Олбани… И тогда все распределители подключили к Олбани, чтобы, значит, рраз! – отпечатки на компьютер, он – бах! – ответ, и подозреваемый идет наверх, и с ним разбирается большое жюри… Да только там, в Олбани, полный бардак, особенно если сломается эта машина, как сейчас.
Из всего, что сказал Гольдберг, Шерман не понял ни звука, кроме одного: что-то не в порядке и Гольдбергу зачем-то понадобилось лезть из кожи вон, чтобы объяснить это ему.
– Ага, – сказал Шерману Мартин, – будьте довольны еще, что сейчас полдевятого утра, а не полпятого вечера. Был бы сейчас вечер, вам бы, скорей всего, пришлось провести ночь в следственном изоляторе или даже на Райкерс-Айленде.
– На Райкерс-Айленде? – переспросил Шерман. Голос стал хриплым. Шерман едва выжал из себя эти слова.
– Да, – подтвердил Мартин. – Если лажа с Олбани происходит в конце дня – все, кранты. Здесь ночевать не положено, и всех отвозят на Райкерс. Это, я вам доложу; вам еще здорово повезло!
Он говорит, что Шерману очень повезло. Шерман вроде как должен быть ему за это теперь благодарен! Во всем здании они его единственные друзья! Шерман почувствовал острый прилив страха.
Чей-то выкрик
– Господи, кто тут сдох, ч-черт его дери!
Запах докатился и до стойки.
– Фу, гадость какая! – проговорил лысый полицейский по имени Ангел. Огляделся. – Смойте же наконец!
Шерман посмотрел в направлении его взгляда. Сбоку, дальше по коридору, виднелись две камеры. Решетка, белый кафель; камеры были сплошь отделаны белыми квадратными кафельными плитками – как в бане. Перед первой стояли двое полицейских.
Один крикнул сквозь прутья в камеру:
– Эй, что там с тобой такое?
Шерман почувствовал давление ручищи Гольдбе-га, который повел его к стойке; Шерман предстал перед Ангелом. У Мартина в руке появились какие-то бумаги.
– Имя? – обратился к Шерману этот ангел. Шерман попытался сказать – и не смог. Рот совершенно высох. Язык прилип к нёбу.
– Имя?
– Шерман Мак-Кой. – Его шепот был еле слышен.
– Адрес?
– Нью-Йорк, Парк авеню, восемьсот шестнадцать. – «Нью-Йорк» он сказал для вящей вежливости и послушности. И впрямь, ведь не обязаны здесь, в Бронксе, знать, где находится Парк авеню.
– Нью-Йорк, Парк авеню. Возраст?
– Тридцать восемь.
– Раньше сюда попадали?
– Нет.
– Слышь, Ангел, – заговорил Мартин. – Мистер Мак-Кой нам очень способствует… и, гм… может, позволишь ему где-нибудь тут пересидеть, может, не надо его туда, со всеми этими гопниками? Там эта мудовая пресса у входа – они и так уже его достали.
Шермана залила волна сентиментальной признательности. Он понимал, до чего это нелепо, но вопреки всему продолжал ощущать ее.
Лысый ангел надул щеки и поглядел в сторону, как бы обдумывая. Затем сказал:
– Не могу, Марти. – Он прикрыл глаза и поднял свой огромный подбородок, словно добавив: «Приказ сверху».
– Чего им еще надо? Эти твари с телевидения полчаса ему там под дождем кровь сосали. Глянь на него. Такой вид, будто он сюда по сточной канаве полз.
Гольдберг хмыкнул. И тут же, чтобы это не показалось Шерману оскорбительным, пояснил:
– Вы сейчас не в лучшем виде. Сами знаете.
Единственные его друзья! Шерману захотелось плакать, больше того, это ужасное, жалкое чувство было глубоко искренним.
– Не могу, – вновь произнес Ангел. – Надо все пройти от и до. – Он прикрыл глаза и опять поднял подбородок. – Наручники можете снять.
Глядя на Шермана, Мартин скривил рот на сторону. (Мы пытались, дружище, но что ж тут поделаешь!) Гольдберг отомкнул и снял наручники. У Шермана на запястьях остались от них белые полосы. Вены на тыльной стороне ладоней вздулись. Давление, видно, подскочило зверски! Брюки облеплены пенопластовыми шариками. Мартин подал ему промокший пиджак. Пиджак тоже в пенопластовых шариках.
– Выньте все из карманов и дайте мне, – приказал Ангел.
По совету Киллиана Шерман много с собой брать не стал. Четыре бумажки по пять долларов, около доллара мелочью, ключ от квартиры, носовой платок. Шариковую ручку и водительские права – почему-то он решил, что нужно иметь с собой какое-нибудь удостоверение. Принимая каждый из предметов, Ангел вслух называл его: «двадцать долларов бумажками», «одна серебряная шариковая ручка» – и отдавал кому-то, кого Шерману было не видно.
Шерман сказал:
– Можно мне… оставить себе платок?
– Дайте глянуть.
Шерман поднял платок. Рука ужасающе дрожала.
– Что ж, можете оставить. А вот часы давайте сюда.
– Да часы-то… Они же дешевые, – сказал Шерман. Вытянул руку. Часы были в пластмассовом корпусе, на нейлоновом ремешке. – Мне все равно, что с ними будет.
– Не важно, давайте.
Шерман расстегнул ремешок и сдал часы. Новый спазм ужаса сотряс все его существо.
– Ну, я прошу вас… – проговорил Шерман. Едва эти слова прозвучали, он уже знал, что не надо было их говорить. Они звучали умоляюще. – Как же мне время-то… Можно я оставлю себе часы?
– У вас что – свидание или как? – Ангел обозначил улыбку, но лишь едва-едва, дескать, шутки он понимает. Однако часы не вернул. Затем сказал:
– О'кей, теперь давайте поясной ремень и шнурки.
Шерман уставился на него. Поймал себя на том, что смотрит с открытым ртом. Оглянулся на Мартина. Мартин тоже смотрел на Ангела. Теперь уже Мартин прикрыл глаза и, подняв подбородок, как это уже делал Ангел, произнес:
– Ну и ну. – (Они-таки и впрямь решили достать тебя, парень.)
Шерман расстегнул ремень и вытащил его из шлевок. Как только он сделал это, брюки тут же сползли, обвиснув на бедрах. Этот твидовый костюм он давно не носил, и брюки в поясе стали широковаты. Он подтянул их, заправил выбившуюся рубашку, и они снова сползли. Пришлось придерживать их спереди. Сел на корточки вынимать шнурки. Теперь он и вовсе жалкое существо, ползающее у Мартина и Гольдберга под ногами. Пенопластовые шарики оказались у него под самым носом. Видна была их сморщенная поверхность. Словно какие-то жуки, какие-то паразиты! В тепле мокрая шерсть штанов издавала неприятный запах. Мокрая рубашка липнет, от подмышек исходит кисловатый душок. Полный распад. Полнейший. Было такое чувство, что один из них – Мартин, Гольдберг или этот Ангел – возьмет вдруг наступит на него – хрясь! – ему и конец. Шерман вынул шнурки и встал. Резко поднявшись с корточек, ощутил головокружение. На миг подумалось, не упасть бы в обморок. Брюки опять сползли. Одной рукой он подтянул их, другой подал Ангелу шнурки. Они были похожи на двух сушеных червяков.
Голос из-за стойки произнес:
– Пара коричневых шнурков.
– О'кей, Ангел, – сказал Мартин. – До скорого.
– Ладно, – проговорил Ангел.
– Ну, удачи вам, Шерман, – сказал Гольдберг, добродушно улыбаясь.
– Благодарю вас, – сказал Шерман. Ужасно. Он действительно чувствует благодарность.
Послышался звук сдвигаемой в сторону двери камеры. Вдоль тесного коридорчика стояли трое полицейских, следя за тем, как группа латиноамериканцев выходит из одной камеры и заходит в соседнюю. Шерман узнал нескольких из тех людей, что стояли перед ним в очереди.
– Давай-давай пошевеливайся, заходи.
– jMira! iMira!
Один человек остался в коридоре. Полицейский держал его за руку. Долговязый, с длинной шеей, на которой безвольно болталась голова. Похоже, очень пьяный. Он что-то бормотал себе под нос. Вдруг он вскинул взгляд к небесам и выкрикнул: «jMira!» Свои брюки он поддерживал тем же манером, что и Шерман.
– Слышь, Ангел, с этим-то что мне делать? У него полные портки! – С особенным омерзением полицейский произнес слово «портки».
– А, ч-черт, – сказал Ангел. – Сними с него штаны и куда-нибудь выкинь, потом смой с него все это дело и дай ему какие-нибудь из тех, зеленых, от рабочей формы.
– Да мне и дотрагиваться до него противно, сержант. А нет ли у тебя такой штуковины, типа захвата, каким в супермаркетах снимают с полок банки?
– А как же, – отозвался Ангел, – я сейчас тебе им башку сниму.
Полицейский рванул долговязого обратно к первой камере. Ноги пьяного подламывались как у марионетки.
– А у вас-то, – обернулся Ангел к Шерману, – у вас-то что на штанах?
Шерман оглядел себя.
– Не знаю, – сказал он. – Это на заднем сиденье машины было.
– Чьей машины?
– Машины следователя Мартина.
Ангел покачал головой так, словно теперь он все понял.
– О'кей, Тануч, отведи его к Гэсби.
Молоденький белый сержант взял Шермана за локоть. Рукой Шерман придерживал брюки, так что локоть торчал будто птичье крыло. Брюки был мокры даже в поясе. Мокрый пиджак он держал перекинутым через другую руку. Пошел. Правая нога выскользнула из туфли, потому что шнурки отсутствовали. Он было остановился, но полицейский указал ему на вход в коридорчик. Шерман пошел шаркая, чтобы ноги не вываливались из туфель. Туфли издавали чавкающий звук – так они промокли.
Шермана вели к клетушке с большими окнами. Теперь, проходя по коридору, он хорошо видел внутренность тех двух камер. В одной было человек двенадцать. Двенадцать серо-черных силуэтов вдоль стен. Дверь в другую была открыта. В ней был только один человек – тот самый долговязый пьяница; бесформенной кучей он лежал на приступке. Пол вымазан чем-то коричневым. И бьющий в нос запах экскрементов.
Полицейский препроводил Шермана в клетушку с окнами. В ней был здоровенный веснушчатый полицейский с широким лицом и светлыми вьющимися волосами; он оглядел Шермана с головы до ног. Полицейский по имени Тануч сказал: «Мак-Кой» – и подал здоровенному лист бумаги. Комната была битком набита какими-то металлическими стойками. Одна – похожая на контур металлоискателя вроде тех, что можно видеть в аэропорту. Другая – треножный штатив с фотокамерой. Еще одна представляла собой нечто вроде пюпитра, только ее верхняя часть была слишком маленькой, чтобы на ней поместились ноты.
– Хорошо, Мак-Кой, – сказал здоровенный, – пройдите-ка через вон тот контур.
Хлюп, хлюп, хлюп… Одной рукой поддерживая брюки, в другой неся мокрый пиджак, Шерман зашаркал сквозь проход контура. Аппарат взвыл громким «бип-бип».
– Ой-ой-ой, – сказал полицейский. – О'кей, давайте мне ваш пиджак
Шерман подал ему пиджак. Тот проверил карманы и принялся мять пиджак сверху донизу. Швырнул пиджак на край стола.
– О'кей, расставьте ноги и отведите руки в стороны, вот таким образом.
Полицейский развел руки, словно собираясь нырнуть ласточкой.
Шерман не мог отвести глаз от правой руки верзилы. На ней была полупрозрачная резиновая хирургическая перчатка. Она доходила ему почти до локтя.
Шерман расставил ноги. Когда он развел и руки, брюки упали чуть ли не до колен. Здоровенный подошел к нему и принялся охлопывать по рукам, по спине, по груди, по бокам, а затем по бедрам и по ногам. Рука в резиновой перчатке производила неприятное сухое трение. Новая волна паники… Шерман в ужасе уставился на перчатку. Полицейский поглядел на него и хмыкнул – ему, видимо, стало забавно, – а затем поднял правую руку вверх. Огромная кисть, толстенное запястье… Кошмарная резиновая перчатка оказалась у Шермана перед самым носом.
– Насчет этой штуковины не волнуйтесь, – сказал он. – Дело в том, что мне надо взять отпечатки, а для этого приходится брать за палец и каждый по очереди прикладывать к подушечке с краской… Понятно? – Он говорил это тоном дружеской беседы, как-то даже задушевно, будто они стоят вдвоем где-нибудь в переулке и он объясняет, как работает двигатель его новой «мазды». – Я этим занимаюсь целый день, руки все в краске, и, во-первых, от этого кожа грубеет; а иногда и смыть как следует не получается. Приходишь домой, а там у жены в гостиной все белым отделано, руку на диван или еще куда-нибудь положишь, потом встаешь – глядь, на нем пальцы отпечатались; ну, и у жены истерика. – Шерман молча смотрел на него. Не знал, что сказать. Огромный, грозного вида полицейский явно хочет ему понравиться. Как все это странно. Похоже, им всем очень хочется нравиться.
– О'кей, пройдите снова сквозь контур. Шаркая туфлями, Шерман снова прошел в проем контура, и снова сработал сигнал.
– Черт, – сказал верзила. – Еще раз. Сигнал сработал в третий раз.
– Ни хрена не понимаю, – сказал полицейский. – Погодите минутку. Идите сюда. Откройте рот. Шерман открыл рот.
– Не закрывайте… Секундочку, повернитесь вот так. Никак свет не поймать. – Он пытался повернуть голову Шермана под немыслимым углом. От перчатки пахло резиной. – Вот зар-раза. Да у вас же там целый серебряный рудник! Знаете что, согнитесь-ка в поясе. – Вот-вот, еще чуть пониже…
Шерман согнулся, придерживая рукой брюки. Неужели он…
– А теперь снова сквозь контур, только очень медленно.
Шерман зашаркал задом наперед, согнутый под углом почти в девяносто градусов.
– О'кей, медленнее, медленнее, медленнее – хорош, так…
Шерман почти уже прошел через проем. По эту сторону оставались только голова и плечи.
– О'кей, еще чуть-чуть… еще… чуть дальше, чуть дальше…
Сигнал сработал еще раз.
– Оп-па! Оп-па! Вот так! Так и стой! -Аппарат продолжал гудеть. – Вот зар-раза! – радостно произнес верзила. Заохал, заходил кругами, хлопая себя ладонями по бедрам. – В прошлый год мне тоже один такой попался. О'кей, можете выпрямляться.
Шерман стал прямо. В недоумении он молча смотрел на верзилу. Тот высунул голову в дверь и заорал:
– ЭЙ, Тануч! Подь сюда! А ну, глянь-ка!
По ту сторону коридорчика у открытой камеры стоял полицейский со шлангом, окатывал пол. Шум воды отдавался от кафельных стен.
– Эй, Тануч!
Из дальнего конца коридора появился тот полицейский, что привел Шермана в комнату верзилы.
– Глянь-ка, Тануч! – Потом Шерману? – О'кей, нагнитесь, и по-новой. Задом через контур, только медленно-медленно.
Шерман нагнулся и сделал как было велено.
– О'кей, оп-па, оп-па, оп-па… Вот, обрати внимание, Тануч! Пока все тихо. О'кей, еще чуток, еще чуток, еще чуток.. – Сработал сигнал. Верзила снова был вне себя. Опять заохал, заходил кругами, зажестикулировал. – Нет, ну ты видел, Тануч? Это в голове! Христом-Богом клянусь!.. Это у парня в башке!.. О'кей, выпрямляйтесь. Откройте рот… Вот оно. Нет, вот, чуть поверните. – Он снова принялся вертеть голову Шермана, пытаясь поймать больше света. – Вот, взгляни-ка! Вишь, сколько металла?
Тот, которого звали Тануч, не сказал Шерману ни слова. Лишь глядел ему в рот – так осматривают тайник в погребе.
– Бог ты мой, – проговорил Тануч. – Действительно, не зубы, а какой-то монетный двор. – Затем обратился к Шерману, словно впервые его увидел:
– Вас в самолет-то когда-нибудь пускали?
Верзила хохотнул.
– А ведь ты не один такой, – сказал он. – В прошлый год мне тоже попался вроде тебя клиент. Я с ним чуть не спятил. Все понять не мог… какого хрена… ясно, да? – Разговор опять принял доверительную тональность – как бы два приятеля субботним вечером. – Эта машинка очень чувствительная, а у тебя в башке сплошной металл, доложу я вам.
Шерман был подавлен, унижен до крайности. Но что тут поделаешь? Может быть, эти двое, если правильно себя с ними вести, помогут ему не попасть в эти, как их… вольеры! Вместе с той публикой! Шерман молча стоял, придерживая брюки.
– А в чем это у вас штаны? – полюбопытствовал Тануч.
– В пенопласте.
– В пенопласте? – удивился Тануч и закивал головой, но совершенно непонимающим образом. Вышел.
Потом верзила поставил Шермана перед металлическим штативом и дважды сфотографировал: в фас и в профиль. Шерману пришло в голову, что это и есть тюремные снимки – их вешают на стендах уголовного розыска. Этот огромный неуклюжий медведь сделал его тюремные снимки, пока Шерман стоял, придерживая штаны рукой. Потом подвел Шермана к стойке и каждый палец по очереди брал, прижимал к подушечке с краской, а затем обкатывал о какой-то бланк с типографским текстом. Процедура оказалась на удивление грубой. Он хватал каждый палец Шермана так, словно это нож или молоток, и совал его в краску. Затем он извинился.
– Всю работу приходится самому делать, – объяснил он Шерману. – Никто не поможет, даже и не надейся.
С противоположной стороны коридорчика донеслись жуткие звуки рвоты. Трое латиноамериканцев приникли к решетке.
– Ээээээй! – заорал один из них. – Он блюет! Он все уже заблевал!
Тануч подоспел туда первым.
– Ах ты боже мой. Ну, красота. Слышь, Ангел! Это не человек, это какая-то баржа с отбросами. Чо бум делать?
– Это тот самый? – спросил Ангел.
Начал расходиться запах рвоты.
– Чобумделать, чобумделать… – проворчал Ангел. – Смой из шланга и оставь его как есть.
Камеру отперли, и, пока двое полицейских стояли по сторонам, третий вошел внутрь со шлангом. Заключенные принялись прыгать и скакать, спасаясь от струй.
– Слышь, сержант, – сказал полицейский со шлангом. – Этот хмырь заблевал себе все штаны.
– Те, от рабочей формы?
– Угу.
– Т-твою мать. Обдай из шланга. Здесь не прачечная.
Шерману виден был долговязый пьяница, с опущенной головой сидевший на приступке. Локтями он упирался в запачканные блевотиной колени.
Верзила наблюдал все это через окно. Он покачал головой. Шерман подошел к нему.
– Послушайте, сержант, нет ли у вас тут такого места, где я мог бы подождать? Я не могу туда. Я… просто не могу.
Верзила высунул голову из комнаты, где снимают отпечатки, и проорал:
– Эй, Ангел, ты что делать будешь с этим моим Мак-Коем?
Ангел высунулся из-за своей стойки и, уставясь на Шермана, провел ладонью по лысому черепу.
– Мммм… – Затем та же рука указала в направлении камеры. – Туда.
Вошел Тануч и вновь взял Шермана за локоть. Кто-то отпер решетку. Тануч препроводил Щермана внутрь, и он зашаркал по кафелю, поддерживая рукой брюки. Решетку опять задвинули. Шерман уставился на латиноамериканцев, сидевших на приступке у стены. Они тоже на него уставились – все, кроме того долговязого, который сидел, все так же опустив голову, и возил локтями по заблеванным коленям.
Пол был с наклоном к канализационной решетке в центре. Он еще не высох. Стоя на нем, Шерман чувствовал его покатость. Несколько струек воды еще сбегали к стоку. Вот где он. В сточной трубе, по которой, расслаиваясь, течет из мясорубки человеческая жижа.
Шерман слышал, как задвинулась за ним решетка, и вот он стоит в камере, поддерживая правой рукой брюки. Левой он прижимал к себе пиджак. Непонятно было ни что делать, ни даже куда смотреть, и поэтому он избрал себе свободную часть стены и стал стараться смотреть… на них… боковым зрением. Их одежды были смешением серого, черного и коричневого, за исключением кроссовок, создававших на полу узор из цветных полос и ярких пятен. Шерман знал, что на него смотрят. Бросил взгляд в направлении решетки. Ни единого полицейского! Да и пошевельнут ли они хоть пальцем, если…
Места по всей длине приступки были заняты латиноамериканцами. Шерман выбрал точку примерно в четырех футах от ее конца и прислонился там спиной к стене. От стены стало больно позвонкам. Он поднял правую ногу, и с нее упала туфля. Как можно небрежнее он вновь сунул в нее ступню. Наклонившись посмотреть на свою ногу среди кафельного сверкания, он почувствовал, что вот-вот упадет от головокружения. Еще эти пенопластовые шарики на брюках.
Его охватил страх – вдруг обитатели камеры примут его за помешанного, за безнадежного идиота, которого можно прикончить просто ради разминки. Слышался запах рвоты… рвоты и сигаретного дыма… Он опустил голову, как бы в полудреме, и скосил глаза в их сторону. Они на него смотрят! Смотрят и покуривают. Тот, высокий, который повторял «iMira! iMira!» все еще сидел на приступке, опустив голову и опершись локтями на покрытые блевотиной колени.
Один из латиноамериканцев встает с приступки и идет к нему! Уголком глаза Шерман наблюдал за ним. Неужели начинается? Так сразу?!
Подошедший устроился справа рядом с ним, опершись спиной о стену, как Шерман. У него были жидкие курчавые волосы, усики круглой скобкой с опущенными вниз концами, слегка желтоватая кожа, узкие плечи, выступающий животик и совершенно безумный взгляд. На вид лет тридцати пяти. Он улыбнулся, и улыбка придала ему вид еще более безумный.
– Эй, слышь, а я тебя у входа видел.
Видел меня у входа!
– Когда тебя телевидение снимало. Слышь, а тебе что шьют?
– Халатность за рулем, – сказал Шерман. У него было такое чувство, будто он выдавливает из себя последние слова на этом свете.
– Халатность за рулем?
– Это, ну… когда собьешь кого-нибудь машиной.
– Машиной? Ты сбил кого-то машиной, и сюда набежало телевидение?
Шерман пожал плечами. Больше он ничего говорить не хотел, однако боязнь выказать отчужденность пересилила.
– А тебе что шьют?
– У-у, мне-то? Двести двадцатую, двести шестьдесят пятую, двести двадцать пятую… – Он выбросил руку в сторону, будто хотел объять весь мир. – Наркотики, оружие, азартные игры – всякое дерьмо, знаешь ли.
Он, похоже, в некотором роде даже гордился своим бедственным положением.
– А ты сбил кого-то машиной? – спросил он снова. Явно он находил это деяние тривиальным и немужественным. Шерман поднял брови и устало кивнул.
Латиноамериканец удалился на свое место, и Шерман видел, как он разговаривает с тремя-четырьмя соседями, которые еще разок глянули на Шермана и отвернулись, словно все это им ни к чему. Шерман почувствовал себя виноватым, что не оправдал их ожиданий. Странно. Однако именно так он себя почувствовал.
Страх быстро уступал место скуке. Минута ползла за минутой. Начал побаливать сустав левого бедра.
Шерман переместил вес направо – заболела спина. Потом заболел сустав правого бедра. Пол кафельный. Стены кафельные. Он скатал пиджак, сделав из него подушку. Положил ее у стены на пол, сел и откинулся. Пиджак был влажный, брюки тоже. Наполнился мочевой пузырь, и пошли укольчики газов в кишечнике.
Ханурик, подходивший поговорить с ним, знаток цифири, подошел к решетке. Во рту сигарета. Он ее вынул и заорал:
– Эээээй! Спичку дайте!
Полицейские – ноль внимания.
– Эээээй, спичку дайте!
В конце концов тот, которого звали Тануч, подошел к нему.