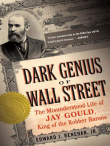Текст книги "Костры амбиций"
Автор книги: Том Вулф
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 49 страниц)
22
Пенопластовые шарики
Шерман повернулся на левый бок, но вскоре у него заболело левое колено, словно вес правой ноги перекрывал кровоток. Сердце билось, пожалуй, чересчур часто. Он повернулся на правый бок. Каким-то образом под правой щекой оказался правый кулак. Будто это нужно, чтобы подпереть голову, будто подушки мало, но это полная чушь, да и вообще, как можно заснуть, подпирая голову кулаком? Пожалуй, бьется чуть-чуть слишком часто, вот и все… Вскачь не несется, нет… Он опять перевернулся на левый бок, потом лег ничком, но от этого напряглась поясница, и он вновь повернулся на правый бок. Обычно он спал на правом боку. Сердце забилось чаще. Но оно бьется ровно. Оно его еще слушается.
Он подавлял в себе искушение открыть глаза и проверить, много ли света пробивается из-под плотных штор. К утру полоска постепенно светлеет, так что в это время года можно различить пять-тридцать сейчас или уже к шести. А вдруг она уже светлеет?! Нет, не может быть. Вряд ли сейчас больше трех часов, максимум три-тридцать. Но он мог, сам того не заметив, заснуть на часок-другой! – и тогда, если светлая полоска…
Дольше сопротивляться не было сил. Открыл глаза. Слава богу, еще темно, он еще в безопасности.
И тут… сердце куда-то рванулось. Принялось колотиться с пугающей частотой и страшной силой, пытаясь вырваться из грудной клетки. Все тело от этого сотрясалось. Какая разница, есть у него еще несколько часов полежать тут, корчась на постели, или утренний жар уже пробивается из-под штор и время пришло.
Меня повезут в тюрьму.
Лежа с бьющимся сердцем и открытыми глазами, он очень остро ощущал свое одиночество на широкой кровати. Шелковые воланы свисали по всем четырем углам балдахина. Шелк стоил больше ста двадцати пяти долларов за ярд. Таково было дизайнерское представление Джуди о королевском ложе восемнадцатого века. Королевском! Что это, как не насмешка над ним, превратившимся во вздрагивающий ком плоти и страха, который глубокой ночью ежится и не может найти себе места в постели!
Меня повезут в тюрьму.
Если бы Джуди лежала рядом, если бы она не ушла спать в комнату для гостей, он охватил бы ее обеими руками и прижался к ней изо всех сил. Как он соскучился по самой возможности обнять ее…
И тут же, на следующем выдохе: Но что с этого было бы проку? Никакого проку совершенно. От этого он стал бы чувствовать себя еще более слабым и беспомощным. Интересно, она-то спит? Что, если взять да и войти к ней в комнату? Нередко она спала, лежа на спине, как опрокинутая статуя, как статуя этой, как ее… Он так и не вспомнил, чья статуя. Перед глазами желтоватый мрамор, складки покрова, окутывающего тело, – что-то очень известное, любимое и мертвое. Что ж, Кэмпбелл-то в конце коридора спит, это уж точно. За это он мог ручаться. Он уже заглядывал к ней в комнату, с минуту смотрел на нее, словно видит ее в последний раз. Она спала слегка приоткрыв рот, душой и телом доверившись покою и безопасности родительского дома. Она заснула почти сразу. Ничто из того, что он сказал ей, реально не существовало… арест… газеты… «Про тебя напишут в истории?»… Эх, знать бы, что она про все это думает! Возможно, дети постигают жизнь не только теми путями, о которых мы знаем, а еще и по интонации голоса. По выражению лица… Но Кэмпбелл, похоже, поняла лишь, что произойдет нечто печальное и волнующее и что ее отцу плохо. Полная отделенность от внешнего мира… в лоне семьи… губы слегка приоткрыты… всего в двух шагах по коридору… Ради нее надо собраться с силами. И на какое-то время ему это удалось. Сердце замедлилось. Тело вновь начало повиноваться. Ради нее он будет сильным, если уж больше не для кого. Я мужчина. Когда приходилось сражаться, он сражался. Он сражался там, в джунглях Бронкса, и он победил. Жуткий момент, когда он швырнул покрышку в того… громилу… А другой громила распростерт на мостовой… Генри!.. Если придется, он станет сражаться снова. Но насколько это может оказаться тяжко?
Вечером, говоря с Киллианом, он все себе представил. Не будет это так уж тяжело. Киллиан объяснил все, шаг за шагом. Всего лишь формальность, неприятная, конечно, но это совсем не то, что реально сесть в тюрьму. Не то, что какой-нибудь обыкновенный арест. Киллиан проследит за этим, Киллиан и его приятель Фицгиббон. Контракт. Нет, не обычный арест, совсем не то, что обычный арест; Шерман так и цеплялся за эту фразу; «совсем не то, что обычный арест». Но тогда – что? Он все время пытался вообразить зримо, как это будет, и, прежде чем он успевал что-либо сообразить, сердце куда-то бросалось, заходилось в панике, впадало в буйство.
Согласно плану Киллиана, двое тех самых следователей, Мартин и Гольдберг, заедут за ним в 7.30, по дороге в Бронкс, где у них смена начинается в 8.00. Они оба живут на Лонг-Айленде, каждый день ездят в Бронкс, и им нетрудно будет, сделав крюк, заехать и подобрать его на Парк авеню. К их приезду подойдет и Киллиан, вместе ним поедет в Бронкс и будет присутствовать при самом аресте, причем все это – особое ему послабление.
Лежа в кровати под воланами стодвадцатипятидолларового шелка, он закрыл глаза и попытался внимательно все продумать. Он сядет в машину с двумя следователями – коротышкой и толстяком. Киллиан будет рядом. Они поедут по шоссе ФДР на север, в Бронкс. Первым делом его отведут в Центральный распределитель – к началу утренней смены, и с формальностями будет покончено быстро, еще до того, как накопится каждодневная текучка. Центральный распределитель – что это такое? Вчера вечером Киллиан упоминал это название запросто, как бы между прочим. Но сейчас, лежа без сна, Шерман осознал, что не имеет понятия, что этот Центральный распределитель собой представляет. Формальности… какие формальности? Арест! Как ни пытался Киллиан объяснить, все оставалось непредставимо. У него возьмут отпечатки пальцев. Как? Отпечатки пальцев передадут в Олбани <Олбани – административный центр штата Нью-Йорк.> по компьютерной связи. Зачем? Чтобы убедиться, что нет других не приведенных в исполнение ордеров на его арест. Но неужто они и так не знают! Пока не придет ответ из Олбани (снова через компьютер), ему придется ждать в вольере. В вольере! Именно этим словом все время пользовался Киллиан. Волъер – каких таких зверей они там держат в своих вольерах?! Словно прочитав его мысли, Киллиан сказал ему, чтобы он не беспокоился насчет всяких дел, о которых мог начитаться в книжках про тюрьмы. Неупоминаемый термин, имевшийся в виду, – гомосексуальное изнасилование. Вольеры – это камеры временного содержания, в которых арестованные ждут первого слушания своего дела.
Поскольку ранние утренние аресты явление редкое, очень даже может оказаться, что он будет в этом самом вольере вообще один. Когда поступит ответ, он подымется наверх и предстанет перед судьей. Наверх! Но что это означает? Наверх – откуда? Он заявит о своей невиновности и будет выпущен под залог в десять тысяч долларов – все это завтра… через несколько часов… а рассвет уже набирает силу, просачивается из-под штор…
Меня повезут в тюрьму – как человека, который сбил негритянского мальчика, примерного школьника и бросил его умирать!
Сердце яростно билось. Пижама промокла от пота. Нет, нельзя думать. Надо закрыть глаза. Надо спать. Он попытался устремить глаза в воображаемую точку посредине. На обратной стороне век… какие-то движущиеся кружочки… извилинки… какая-то пара мешковатых рукавов… Оказалось, это рубашка, его собственная. Хорошего ничего не надевать, говорил ему Киллиан, потому что в вольерах временного содержания может быть грязновато. Но костюм с галстуком все равно надо, непременно, потому что это ведь не обычный арест, не обычный арест… Старый серо-голубой твидовый костюм – тот, английский… белую рубашку, строгий темно-синий галстук… а может, тот, чуть посветлее, в мелкую крапинку?.. Нет, темно-синий – это и солидно, и без претензий, как раз… чтобы садиться в тюрьму!
Он открыл глаза. С потолка шелковые воланы. «Возьми себя в руки!» Это он произнес вслух. Не будет, ничего такого на самом деле не будет, не будет.
Меня повезут в тюрьму!
Около половины шестого, когда за шторами начало желтеть, Шерман оставил попытки уснуть или хотя бы отдохнуть и встал. Как ни удивительно, но ему от этого полегчало. Сердце продолжало биться часто, но панику он усмирил. Лучше, когда что-нибудь делаешь – хотя бы просто принимаешь душ или надеваешь серо-голубой твидовый костюм и темно-синий галстук… Тюремное мое облачение. На лице, смотревшем из зеркала, не было той усталости, которую он в себе ощущал. Йейльский подбородок; на вид вроде сильный.
Он собирался позавтракать и выйти из квартиры прежде, чем Кэмпбелл встанет. Не было уверенности, что при ней он сможет сохранять присутствие духа. Кроме того, ему совершенно не улыбалась необходимость разговаривать с Бонитой. Чересчур неловко. Насчет Джуди он не знал, чего хочет. Смотреть ей в глаза, в которых застыло выражение обиды на его предательство, в глаза человека, смертельно пораженного и напуганного, он не хотел. С другой стороны, хотелось, чтобы жена была рядом. И точно: не успел он выпить стакан апельсинового сока, как Джуди вышла на кухню, уже полностью одетая и причесанная. Она спала не больше его самого. Еще через секунду из той части квартиры, что отводилась для слуг, вышла Бонита и спокойно принялась готовить им завтрак. Вскоре Шерман уже радовался присутствию Бониты. С Джуди он не знал, как говорить. А при Боните говорить было вовсе не обязательно. Завтрак не лез в глотку. В надежде прояснить голову он выпил три чашки кофе.
В 7.15 позвонил швейцар, сообщил, что мистер Киллиан ждет внизу. В холл Джуди вышла вместе с Шерманом. Он остановился, посмотрел на нее. Она попыталась ободрительно улыбнуться, но вместо улыбки на ее лице появилось выражение тупой усталости. Тихим, но твердым голосом она сказала:
– Смелее, Шерман. Помни, кто ты. – Затем открыла рот, как бы намереваясь произнести что-то еще, но ничего не сказала,
И правильно! Ничего лучше она и не могла сделать! Дескать, я стараюсь видеть в тебе нечто большее, Шерман, однако все, что от тебя осталось, – это твое достоинство!
Он кивнул. Не мог выговорить ни слова. Повернулся и пошел к лифту.
Киллиан стоял под навесом у самой двери подъезда. На нем был серый в белую полоску костюм, коричневые замшевые туфли и коричневая шляпа. (Как смеет он быть таким щеголем в день моей гибели?) Парк авеню была пепельно-серой. Небо темное. Похоже, собирается дождь… Шерман с Киллианом обменялись рукопожатием, потом отошли по тротуару футов на двадцать, чтобы их разговор не слышал швейцар.
– Как самочувствие? – спросил Киллиан. Тон его был такой, каким разговаривают с больными.
– Тип-топ, – сказал Шерман с угрюмой усмешкой.
– Ничего особо плохого не будет. Вчера вечером я снова говорил с Берни Фицгиббоном, сразу после разговора с вами. Он проследит, чтобы вас протащили через всю эту дребедень как можно скорее. Проклятый Эйб Вейсс – он все время держит нос по ветру. Гвалт в прессе здорово его напугал. Иначе даже такой идиот, как он, не пустился бы на подобные штучки.
Шерман молча кивнул. Ему было уже не до рассуждений об умственных способностях Эйба Вейсса.
Меня повезут в тюрьму!
Боковым зрением Шерман заметил поравнявшийся с ними автомобиль, а потом следователя Мартина за рулем. Автомобиль был двухдверным «олдсмобил-катласом», довольно новым. Мартин в пиджаке и при галстуке, так что швейцар, может, и не поймет ничего. Э, да все равно скоро они поймут – все эти швейцары, домохозяйки, кассиры, менеджеры и финансисты, генеральные директора и их детишки, пристроенные по частным школам, няньки, гувернантки и экономки, все население этой цитадели богатства. И все же, если бы кто-нибудь заметил, как его уводит полиция, он бы этого не перенес.
Машина остановилась как раз на таком удалении от подъезда, чтобы швейцар не вздумал выйти. Из нее вылез Мартин, отворил дверцу и пригнул спинку переднего сиденья, чтобы Шерман и Киллиан могли сесть сзади. Мартин улыбнулся Шерману. Улыбка палача!
– Привет, советник! – бросил Мартин Киллиану. И опять рад несказанно. – Билл Мартин, – представился он и протянул руку, Киллиан пожал ее. – Берни Фицгиббон говорит, что вы когда-то работали вместе.
– А, да, – отозвался Киллиан.
– Берни – молоток!
– Ну, я бы вам при случае кое-что про него порассказал.
Мартин хмыкнул, и в Шермане забил слабенький родничок надежды. Киллиан знает этого Фицгиббона, который служит в прокуратуре Бронкса начальником Отдела особо опасных преступлений, Фицгиббон знает Мартина, а Мартин теперь знает Киллиана… а Киллиан – Киллиан это его защитник!.. Прежде чем Шерман успел нагнуться, чтобы влезть в машину, Мартин предупредил:
– Смотрите там с одеждой осторожнее. Там эти мудовые – простите за выражение – пенопластовые шарики. Пацан у меня коробку открыл, и все белые горошки из пенопласта, которые при упаковке кладут, распустил по салону; они теперь пристают и к одежде, и к чему только не пристают.
Согнувшись, Шерман увидел и толстяка с усами – Гольдберга, сидевшего на переднем пассажирском месте. Этот улыбнулся Шерману еще шире.
– Шерман! – Он сказал это так, как говорят «привет» или «с добрым утром». Дружелюбнейшим образом. И весь мир замерз, закоченел. Просто по имени! Как слугу… Как раба… Как заключенного… Шерман не ответил. Мартин представил Киллиана Гольдбергу. Опять бодрый товарищеский треп.
Шерман сидел позади Гольдберга. Действительно, по всей машине валялись белые пенопластовые упаковочные шарики. Два уже прицепились Шерману к штанине. Один – на самой коленке. Он снял его и еле отлепил потом от пальца. Еще один он почувствовал под собой и принялся его оттуда выуживать.
Едва они отъехали, свернув с Парк авеню по Девяносто девятой улице по направлению к шоссе ФДР, Гольдберг крутнулся на своем сиденье и говорит:
– Знаете, моя дочь-старшеклассница читать любит, так вот она прочитала книжку, и там описана ваша контора – «Пирс-и-Пирс», верно? – в общем, как раз про ваших.
– Да ну? – выговорил Шерман. – А что за книжка?
– По-моему, называется «Расчетливые убийцы». Что-то в таком духе.
Расчетливые убийцы! Книга называлась «Расчетливые умельцы». Он что – добить меня своими жуткими шуточками пытается?
– Ха! Расчетливые убийцы! – вмешался Мартин. – Бога ради, Гольдберг, «у-мель-цы»! – Потом Киллиану и Шерману, через плечо:
– Здорово, когда твой напарник интеллектуал! – И напарнику:
– А книжки, они вообще-то какой формы, а, Гольдберг? Круглой или треугольной?
– А вот такой вот! – сказал Гольдберг и рубанул себя ребром левой ладони по сгибу локтя правой руки. Потом снова обернулся к Шерману:
– Ей, между прочим, в самом деле книжка понравилась, хоть она еще и школу не кончила. Говорит, что собирается после колледжа пойти работать на Уолл-стрит. Такие, во всяком случае, у нее были планы на этой неделе.
И этот туда же! То же бесстыжее, отвратное дружелюбие рабовладельца! Теперь, значит, ему положено возлюбить их! Теперь, когда игра окончена, когда он проиграл и находится в их власти, он не должен таить обиду. Должен восхищаться ими. Они поймали уолл-стритского воротилу на крючок, и во что он сразу же превратился? В их добычу! В охотничий трофей! В их цепного зверя! И где – в «олдсмобил-катласе»! Дуболомы с окраин вроде тех, что толпами спешат по Пятьдесят восьмой или Пятьдесят девятой улице к мосту Куинсборо, – толстеющие молодчики с вислыми усищами, как у Гольдберга… а он теперь их собственность.
В районе Девяносто третьей улицы какой-то швейцар придерживал дверь перед старушкой, выходившей из подъезда. На ней было каракулевое манто. Очень строгое черное манто, каких давно уже не носят. Ах, счастливая, замкнутая жизнь Парк авеню! Как это жестоко, что Парк авеню, весь нью-йоркский бомонд так и будет по-прежнему жить своей обычной будничной жизнью.
– Ладно, – обратился Киллиан к Мартину, – давайте точно определимся, куда и что. Подъезжаем ко входу со Сто шестьдесят первой улицы, так? Спускаемся по лестнице, и Ангел отправляет Шермана – мистера Мак-Коя – сразу на обкатку пальцев. Ангел все еще там?
– Ага, – с ленцой протянул Мартин, – он все еще там, но нам придется заехать с другой стороны, к основному входу.
– Зачем?
– Такой у меня приказ. Там будет дежурный офицер и пресса тоже.
– Пресса?
– Мало того. К тому времени, как мы туда прибудем, надо надеть наручники.
– Кой черт? Я вчера говорил с Берни. Он дал мне слово. Какого же еще дерьма?
– Насчет Берни я не в курсе. Это все Эйб Вейсс. Вейсс хочет, чтобы таким манером и я получил приказ прямо от дежурного по округу. Арест произвести по кодексу. Вам и так уже сделали послабление. Вы знаете вообще-то, что намечалось? Хотели притащить эту хренову прессу прямо к нему на квартиру и пристегнуть его прямо там.
Киллиан нахмурился.
– Кто это вам велел?
– Дежурный Краутер.
– Когда?
– Вчера вечером. Позвонил мне домой. Слушайте, вы же знаете Вейсса. Что я буду вам говорить!
– Это… это… не… правильно, – проговорил Киллиан. – Ведь Берни дал слово. Это… очень и очень… не правильно. Так нельзя. Не правильно это.
Мартин и Гольдберг оба одновременно к нему обернулись.
– Я этого так не оставлю, – сказал Киллиан. – Мне это очень не нравится.
– Э-э… Чего говорить-то, – отозвался Мартин. – Мы же тут ни при чем, нам-то не все ли равно – так, сяк. Все претензии к Вейссу.
Теперь они были уже на шоссе ФДР, неслись на север, к Бронксу. Пошел дождь. По другую сторону ограждения, шедшего посредине скоростной трассы, утренний поток машин начал уже густеть, но на их стороне ничего еще не мешало и не задерживало. Вот и горбатый пешеходный мостик, перекинутый с манхэттенской стороны на островок посреди реки. Эстакаду в порыве восторгов семидесятых выкрасили в ядовито-фиолетовый цвет гелиотропов. От ее фальшиво жизнерадостного вида Шерман совсем сник.
Меня везут в тюрьму!
Гольдберг снова выгнулся всем корпусом назад.
– Слушайте, – сказал он, – я, конечно, извиняюсь, но я должен надеть вам наручники. Когда приедем, мне ковыряться с ними будет уже недосуг.
– Это ж полная хреновина! – сказал Киллиан, – Сами знаете.
– Это зако-он! – печально прогудел Гольдберг. – Когда арестовываешь по подозрению в серьезном преступлении, положено надевать наручники. Бывало, я это обходил, но там будет этот мудень дежурный.
Гольдберг вытянул правую руку. В ней была пара наручников.
– Давайте руки, – сказал он Шерману. – Надо с этим кончать.
Шерман глянул на Киллиана. Скулы адвоката напряглись.
– Ладно, пускай! – бросил он Шерману таким пронзительно напряженным голосом, словно хотел сказать: «Кое-кому придется за это поплатиться!»
Заговорил Мартин:
– Вот что. Почему бы вам не снять пиджак. Он пристегнет их вам спереди, а не сзади, вы пиджак через них перекинете, и вам их даже самому будет не видно.
Он говорил это так, будто они четверо приятелей, вместе сплотившихся против немилосердной судьбы. На миг Шерману от этого стало лучше. Повозившись, он снял свой твидовый пиджак. Затем подался вперед и сунул руки в зазор между спинками передних кресел.
Они ехали по мосту… Видимо, это мост Уиллис авеню… он толком не разобрал, что за мост. Видел только, что это мост и что они едут через Гарлем-ривер прочь от Манхэттена. Гольдберг застегнул браслеты на его запястьях. Шерман откинулся на спинку сиденья и глянул вниз: ну вот, он в кандалах.
Дождь припустил сильнее. Мост проехали. Вот и Бронкс. Пейзаж напоминал старые трущобные кварталы какого-нибудь промышленного монстра вроде города Провиденс, штат Род-Айленд, Массивные, но невысокие здания, все в копоти и трещинах; широкие черные полосы мостовых безрадостно тянутся с холма на холм. Спустившись по пандусу, Мартин въехал на другую скоростную трассу.
Шерман подался вправо, чтобы взять пиджак и перекинуть его через наручники. Когда он убедился, что доставать пиджак придется сразу двумя руками, и когда неловкое движение отозвалось болью от врезавшихся в запястья наручников, нахлынула волна унижения… и стыда. Он, чей разум – неприкосновенная священная обитель, непроницаемый тигель, где плавятся драгоценные кристаллы мыслей, и вдруг в кандалах… в Бронксе… Это какая-то галлюцинация, кошмар, какой-то сбой и работе мозга, сейчас прозрачная оболочка лопнет… и… Дождь хлынул еще сильнее и «дворники» заметались туда-сюда перед обоими полицейскими.
В наручниках Шерман никак не мог перекинуть пиджак через руки. Он все время комкался. На подмогу пришел Киллиан. К пиджаку пристали три или четыре пенопластовых шарика. Еще два – к штанине. Вряд ли он дотянется до них пальцами. Может быть, Киллиан… Впрочем, какая разница?
Проехали еще, свернули направо… Стадион… Стадион «Янки»!.. Якорь! Нечто такое, за что можно зацепиться! На стадионе «Янки» он ведь был! Рядовые игры чемпионата по бейсболу всего-навсего… Но он там был! Это часть здравого и пристойного мира! Не то что все это… все это Конго!
Снова вниз по пандусу, прочь со скоростной трассы. Дальше – вокруг основания гигантской чаши стадиона. Его стена всего футах в сорока, а то и меньше. Толстый седой дядька в тренировочной куртке с надписью «Янки» и «Нью-Йорк» в дверях какого-то служебного подъезда. На чемпионат по бейсболу Шерман ходил с Гордоном Шенбургом, чья фирма закупала места в ложе на весь сезон, и между пятым и шестым инингом Гордон достал корзину с завтраком – плетеную, со множеством отделений и столовыми приборами из нержавейки; всех кормил бутербродами с паштетом и икрой, а какие-то пьянчуги увидели это из прохода сзади, обозлились и принялись выкрикивать всяческие оскорбления и передразнивать Гордона, повторяя услышанные от него слова. Слова были «да неужели», и они с преувеличенным сюсюканьем повторяли раз за разом: «Данюжели!». И опять: «Данюжели!». Это было почти все равно что обозвать Гордона пидером, и Шерману эпизод запомнился, несмотря на то что после его не обсуждали. Эта ругань! Эта бессмысленная враждебность! Злоба! Мартины и гольдберги! Все они сплошь мартины и гольдберги.
Тут Мартин свернул на очень широкую улицу, и под вознесенными на эстакаду путями метро они покатили вверх по склону. На тротуарах у прохожих лица были почти сплошь черные; под дождем все куда-то спешили. До чего же они темные, да еще какие-то опухшие, что ли. По сторонам множество серых зачуханных лавочек, как во всех трущобных районах крупных американских городов – что в Чикаго, что в Акроне, что в Аллентауне… Рюмочная «Киряловка»; домашняя кухня «Гурманьячная»; «Корн: упаковочная мастерская»; «Б. и Г. Давидофф: Путешествия и Круизы»…
«Дворники» расшвыривали по стеклу струи дождя. На вершине холма высилось внушительное белокаменное здание, раскинувшееся, казалось, на целый квартал, – монументальная громада, какие чаще можно видеть в округе Колумбия. Через дорогу на стене приземистого конторского здания красовалась чудовищная вывеска: «АНДЖЕЛО КОЛОН, КОНГРЕСС США». Они перевалили на спуск. То, что Шерман увидел на склоне по другую сторону холма, потрясло его. То были уже не просто облупленные трущобы, а руины, словно после стихийного бедствия. Справа целый квартал занимала огромная дыра в земле, впадина, обнесенная витой железной сеткой, за которой там и сям виднелись вершинки чахлых деревцов катальпы. Сперва Шерману показалось, что там свалка. Затем он увидел, что это обширная котловина – автостоянка для легковушек и грузовиков, однако даже немощеная. Слева высилось новое строение, современное (в дешевом смысле этого слова) и под дождем являвшее собой вид безотраднейший.
Мартин остановил машину и стал пережидать встречный транспорт, чтобы сделать левый поворот.
– Что это? – спросил Шерман у Киллиана, кивком головы указав на мрачное строение.
– Здание Уголовного суда.
– Это туда мы и едем?
Киллиан утвердительно кивнул и стал смотреть прямо вперед. Вид у него был напряженный. Шерман почувствовал, что сердце начинает куролесить. То и дело оно отчаянно дергалось.
Не подъезжая к фасаду здания, Мартин повел машину по спуску к его торцу. Здесь у мрачной маленькой железной дверцы стояла очередь мужчин, а чуть дальше, беспорядочной толпой, еще человек тридцать-сорок, в основном белые; они ежились под дождем, кутались в накидки, в дешевые спортивные куртки и грязные плащи. «Контора по оказанию помощи неимущим, – подумал Шерман. – Нет, бесплатная столовая». Все это очень походило на очередь за бесплатным супом, которую он видел у церкви на углу Мэдисон авеню и Семьдесят первой улицы. Но тут отчаянно алчущие глаза ожидавших как по команде обратились к машине – к нему – и сразу обнаружилась съемочная аппаратура.
Толпа встрепенулась, будто огромный разлегшийся пес, которого укусила блоха, и ринулась к автомобилю. Кое-кто бросился даже бегом, и Шерман видел, как прыгают вверх и вниз телекамеры.
– Бог ты мой, – сказал Мартин Гольдбергу. – Ну-ка, вылазь да придержи дверцу, а то мы даже из этой гребаной машины его не вытащим.
Гольдберг выскочил наружу. Сразу же все вокруг заполонили небритые, опухшие личности. Загородили Шерману здание. Все, что ему было видно, – это толпа, окружившая автомобиль..
Заговорил молчавший до этого Киллиан:
– Вот что, Шерман. Главное, помалкивайте. Никак не реагируйте. Лицо не прикрывайте, голову не опускайте. Вы как бы не замечаете их напрочь. С этой сволочью вам не сладить, так что даже не пытайтесь. Дайте я первым выйду.
Оп-па! – Киллиан каким-то образом перекинул ноги через колени Шермана и одним броском вылетел из машины. Локтем он попал при этом Шерману на скрещенные руки и вдавил ему наручники в пах. Перекинутый через руки твидовый пиджак сбился комом. К нему пристало пять или шесть пенопластовых шариков, но тут уж ничего не поделаешь. Дверь открыта, Киллиан снаружи. Гольдберг и Киллиан протягивают руки. Шерман опустил ноги на мостовую. Киллиан, Гольдберг и Мартин заслоняли собой пространство возле открытой дверцы. Толпа репортеров, фотографов и операторов лезла им чуть ли не на плечи. Шум, выкрики. Первое впечатление, что идет драка. С ним хотят расправиться! Киллиан запустил руку под скомканный пиджак и помог Шерману подняться, потянув за наручники. Кто-то пихнул камеру через плечо Киллиана прямо Шерману в лицо. Резко нагнувшись, он уклонился. Глянул вниз и обнаружил, что пять, шесть, семь, бог знает сколько пенопластовых шариков пристало к штанинам. Они везде – на пиджаке, на брюках. Струи дождя бегут по лбу и щекам. Дернулся было вытереть лицо, но тут же спохватился; для этого надо было бы поднять обе руки с пиджаком вместе, а он не хотел, чтобы увидели наручники. Вода текла и текла. Он чувствовал, как она затекает ему за шиворот под рубашку. Из-за наручников он сутулился. Попытался было расправить плечи, но в этот момент Гольдберг потащил его за локоть. Принялся пробиваться с ним сквозь толпу.
– Шерман!
– Ау, Шерман!
Все как один орали «Шерман»! Просто по имени! Он и в их власти тоже! Что за лица! Что за настырность! Тянутся с микрофонами. Один с размаху наткнулся на Гольдберга, пихнув его прямо на Шермана. Над плечом Гольдберга появилась камера. Гольдберг со страшной силой двинул локтем, бац! – и камера полетела наземь. Другая рука Гольдберга была продета под локоть Шермана. От толчка, вызванного ударом Гольдберга, Шерман потерял равновесие. Ступил куда-то в сторону, и его каблук пришелся на голень человека, корчившегося на земле. Маленького, с курчавыми темными волосами. Гольдберг ему еще добавил, наступив на живот. У того вырвалось: «Ооооооахха!»
– Эй, Шерман! Эй, жжжопомордый!
Шерман ошарашенно оглянулся. Фотограф. Камера заслоняла ему пол-лица. На другой половине бросалась в глаза прилепленная белая полоска. Клочок туалетной бумаги. Шерман видел, как у фотографа шевелятся губы:
– Вот так, сюда смотри, жжжопомордый!
Мартин был на шаг впереди Шермана, пытался расчищать проход.
– С дороги! С дороги! А ну, раздайся!
Киллиан взял Шермана за другой локоть – чтобы заслонить его с другого боку. Получилось, что теперь его тянули вперед за оба локтя, и он сознавал, что тащится мокрый и сгорбленный. Голову было не поднять.
– Шерман! – Женский голос. Микрофон у самого лица. – Вас уже когда-нибудь арестовывали?
– Эй, Шерман! Обвинения признаешь?
– Шерман! Кто та брюнетка?
– Шерман! Ты его нарочно сбил?
Микрофоны просовывали между Киллианом и Мартином и между Мартином и Гольдбергом. Шерман попробовал поднять голову, один из микрофонов ткнулся ему в подбородок. Он старался уворачиваться. Каждый раз при взгляде вниз в глаза бросались белые пенопластовые шарики на пиджаке и брюках.
– Эй, Шерман! Эй, мудила! Как тебе наш фуршетик?
Какая брань! По большей части фотографы. Любыми средствами пытаются заставить его посмотреть на них, но – такая брань! Такая грязь! Позволяют себе все что хотят, любой мат! Он теперь – их! Животное, которое можно помучить. Брошен им на растерзание. Они могут делать все что хотят! Он ненавидит их, но при этом… такой стыд! Дождь заливал глаза. Ничего поделать с этим он не мог. Рубашка намокла. И вперед они уже не продвигались. До маленькой железной дверцы оставалось футов двадцать пять, не больше. Но перед ними народ – тесно сбившаяся очередь каких-то мужчин. Не репортеры, не фотографы и не операторы. На некоторых полицейские мундиры. Другие на вид латиноамериканцы, главным образом молодые парни. Потом еще несколько белых… совершенно опустившиеся… пропойцы… но нет, надо же, у них значки. Сотрудники полиции. Все стоят прямо под дождем. Мокнут.
Мартин и Гольдберг к этому времени втиснулись в толпу полицейских и латиноамериканцев, Киллиан и Шерман жались сразу за ними. Гольдберг и Киллиан все еще держал Шермана под руки. Репортеры и операторы по-прежнему наскакивали на него с боков и сзади.
– Шерман! Эй! Скажи что-нибудь прессе!
– Один снимок!
– Эй, Шерман! Зачем ты его сбил?
– … Парк авеню!..
– … преднамеренно!..
Мартин повернулся к Гольдбергу и сказал:
– Надо же им было именно сейчас провернуть облаву в том кабаке на Сто шестьдесят седьмой улице. Понавытащили оттуда, а теперь жди, пока в распределитель запустят двенадцать рыл этих чурок.
– Чу-удненько, – протянул Гольдберг.
– Послушайте, – сказал Киллиан. – Все-таки надо его как-нибудь пропихнуть туда. Не можете сами – поговорите с Краутером, но это надо сделать.
Пробившись сквозь толпу, Мартин ушел и тут же вернулся.
– Дохлый номер, – пожал он плечами, как бы извиняясь. – Говорит, что этот арест должен быть по кодексу от и до. Придется постоять.
– Это он очень не прав, – сказал Киллиан.
Мартин поднял брови: знаю, сам знаю, но что я могу поделать?