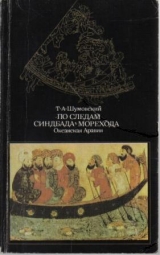
Текст книги "По следам Синдбада Морехода. Океанская Аравия "
Автор книги: Теодор Шумовский
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Самым крупным индонезийским портом среди служивших морской торговле арабов был Палембанг у северо-восточного края Суматры, глядевший уже в Южно-Китайское море. Здесь проходил основной поток грузов и останавливалось каждое судно, шедшее в Китай и Корею. Далее на восточном побережье Суматры лежал Арух, а на западном – Фансур и Менангкабо. На северной оконечности Явы располагались Тубан и Джаршик.
Большое значение всех этих точек на земле Индонезии для арабов видно из того, что для каждой из них в халифате была известна высота стояния нужного светила, зная которую мореплаватели могли добираться до избранного ими порта.
108
...Сейчас мы можем вернуться к Адену и Багдаду, чтобы продолжить путь на восток вдоль южных берегов материковой Азии.
Не нужно лишний раз подчеркивать, что арабские парусники ходили не только каботажно. Старая арабистика, дорожа устоявшимися взглядами, считала, что арабы плавали лишь вдоль морских берегов, притом на небольшое расстояние. Держась такого взгляда, нельзя удовлетворительно объяснить, каким образом сыны аравийских пустынь распространили свое влияние по всем островам Индийского океана и Средиземного моря. А ведь Ахмад ибн Маджид провел корабли Васко да Гамы от Африки к Индии всего за двадцать шесть суток. Не следует видеть в арабах и ристателей одного лишь открытого моря; действительность – внутриаравийская торговля, с одной стороны, и стремление возможно быстрее достичь заморских стран, используя для этого счастливо открытые муссонные ветры,– с другой, естественно, ставит в деятельности предтеч Ахмада ибн Маджида и его самого прибрежное и сквозное плавания рядом.
Арабские кормчие избегали пользоваться центральными участками Красного моря, Аденского и Персидского заливов из-за нередких случаев пиратства; они вели суда в виду берега. Такая мера имела свои преимущества – она давала возможность быстро пристать в нужном месте для устранения возникшей течи или для пополнения запасов пищи и пресной воды. Но неотступным призраком сопровождала мореходов грозная опасность – разбить парусник о подводные камни или посадить его на мель. Ахмад ибн Маджид, которого приходится часто вспоминать на этих страницах, ибо его слово и дело показывают нам арабское мореплавание изнутри, т. е. в подлинном виде, наставляет Васко да Гаму: «Не приближайтесь к берегу... выходите в открытое море; там вы... окажетесь под защитой волн». Имеются в виду крупные волны глубоководья: во всех своих руководствах прославленный «лев моря» настойчиво и последовательно учит отличать «ма'-абъяд» – белую воду от «ма'ахдар» – зеленой воды, иначе говоря, приподнятые участки морского дна от опущенных. Сказанное позволяет лучше понять, почему южноаравийские гавани к востоку от Адена – Ахвар (Хавра), Зуфар, Фартак, а также расположенные на островах Курия-Мурия и Масира даже при изменениях маршрутов движения грузовых кораблей никогда не теряли своего значения окончательно, не исчезали их названия со страниц арабских лоций, тем более что эти гавани служили местом продажи корабельных снастей и съестных припасов заходящим в них судам. Давно, задолго даже до раннего халифата, отшумела слава античной Музы —
109
ал-Муджи на аравийском берегу против Сокотры. «Торговый порт Муза полон арабскими капитанами и матросами, которые занимаются торговыми сделками. Они участвуют в торговле с Эритреей и Сомали в Африке и Бхарукаччей в Индии на собственных судах». Эти слова египетского купца – он-то знал, о чем писал,– создавшего в первом столетии н. э. «Перипл Эритрейского моря», остаются вечным памятником городу, который вместе с Аденом, Хисн ал-Гурабом и Маскатом явился родиной аравийского судостроения и одним из первых очагов заморской торговли. Несколько позже место ал-Муджи в международных связях занял «блаженный остров» – Сокотра: здесь окончательно развязывались пути на юг и восток.
Подобно судам Египта и Аравии, багдадским кораблям перед выходом в океан приходилось постоянно чередовать прибрежное плавание с выходом в открытое море. Для большинства из них главной базой служила Басра на общем русле Тигра и Евфрата – Шатт эль-Арабе; во все века халифата, не считая потрясений 869 – 883 (восстание африканских рабов) и 920 годов (нападение карматов), этот город являлся столичной гаванью аббасидской державы; именно и только через него Багдад общался с индоокеанским заморьем. Выйдя из Басры и миновав Абадан, суда медленно, то и дело ощупывая лотом дно, вступали в Персидский залив: согласно лоции, здесь надлежало опасаться мелей и движущихся песков. Осторожно огибая препятствия, моряки поворачивали влево и достигали Сирафа на иранском берегу.
Сираф, как и Басра, мужал и рос любимым детищем новой мировой державы – мусульманского государства, оттесняя на задний план старые речные порты – Хиру и Убуллу (античный Аполог). Он и сам не был новопостроенным, в отличие от Басры это был доисламский порт, одна из опор мореплавания при Сасанидах. Но он стоял на море, а Хира помещалась на берегу Евфрата, Убулла – при впадении одноименного канала в Тигр, и не спасли ни ту, ни другую толпившиеся у их причалов вереницы торговых судов из Аравии, Индии и Китая: халифату, стремившемуся в пору мужания раздвинуть свои пределы, нужно было «ногою твердой стать при море», морская держава должна была иметь выдвинутые точки опоры. Но Басра и Каир построены на берегу рек... Впрочем, это имело свое историческое объяснение: город на Шатт-эль-Арабе представлял опорную крепость бедуинов в завоеванной стране, позже здесь проходил нерв, связывавший Багдад со всем индоокеанским миром; город на Ниле, отойдя в глубь страны для лучшей защиты от внешних врагов, снаряжал в своей тиши корабли для нападения на них.
110
Статьи сирафского вывоза были не столь многочисленны, как у соседнего Хурмуза или у более отдаленного Цейлона, занимавшего первое место в тогдашнем мире по разнообразию предлагаемых товаров, однако имели большую ценность: хлопчатобумажные и шелковые ткани, пряности, жемчуг. Но самым высоким сокровищем Сирафа являлись проживавшие в городе семейства потомственных кормчих. Одни из членов этих старых родов ходили в дальние моря, другие доживали свой век в многоэтажных домах из дорогого индийского дерева тика; от старших младшим передавались орудия и тайны мореходного искусства. По-видимому, тик – строительный материал, сопровождавший моряка всю его жизнь (кроме зданий из него изготовлялись корабельные корпуса и плавучие маяки),– пропитывался особым составом, крепившим древесину, ибо греческий писатель Теофраст в. третьем столетии до н. э. заметил, что тиковый корпус корабля может служить более двух веков, но лишь при условии постоянного пребывания в морской воде; воздействие кислорода воздуха способствует разрушению древесных волокон. ...Семь дней в 977 году оказались роковыми для Сирафа: город стал жертвой сокрушительного землетрясения. Суда, еще вчера стекавшиеся со всего Востока к его причалам, теперь навсегда покинули их; место поверженной твердыни в заморской торговле халифата занял ближний остров Киш (Кайс), где купцы основали новую колонию. Один из правителей Киша известен тем, что из своего далека посылал в Африку охотников за рабами; привезенные в невольничьих судах пленники с большой прибылью продавались им на рынках острова.
От Сирафа и Киша парусники шли на запад, к архипелагу Бахрейн. Если в сирафском торге жемчуг был только одной из статей, то на Бахрейне он являлся основным предметом сделок и, по-видимому, стоил дешевле, ибо продавали его еще не купцы, а сами ныряльщики; для этих рано слепнувших людей, обремененных заботой о своих детях и уже незрячих отцах, выловленные сокровища, которым они обычно не знали настоящей цены, были единственным источником существования. В конце XV века Ахмад ибн Маджид говорит о бахрейнском жемчуге: «...сей почитай, тысяча кораблей ловит испокон веку, а она ( = ловля.– Т. Ш.) не пустеет». Круглое число внушает мысль: нет ли здесь округления и не слишком ли оно, округление, велико? Но во всяком случае надо помнить, что бахрейнские ловли были известны еще ассирийцам при Навуходоносоре (604 – 562 гг. до н. э.).
За архипелагом путь снова устремлялся к восточному берегу: у места, где сливаются воды Персидского и Оманского заливов, купаясь в блеске своей вечной славы, стоял великий
111
Хурмуз. Два обозначения – греческое «Армозия» и русское «Гурмыз» («Ормуз») – определяют приблизительную протяженность его века: первое принадлежит адмиралу Александра Македонского Неарху, второе – тверскому купцу Афанасию Никитину; между этими двумя людьми пролегли восемнадцать столетий. Но лишь первостроители халифата, арабы, отняв у персов древнюю гавань, сообщили ей «державную поступь», вовлекли в круг своих международных связей. Этому способствовало не только выгодное (по существу ключевое) положение города на путях торговли, в дальнейшем дополнительно оттененное падением Сирафа; счастливое преимущество Хурмуза перед другими гаванями состояло и в том, что окрестности твердыни на Ормузском проливе были богаче дарами природы и плодами трудов человеческих: отсюда вывозились пшеница, рис, рожь, соль, вино, индиго, киноварь, железо, медь, а кроме того, золото и серебро. Особую статью дохода составляла продажа лошадей, которых здесь разводили, может быть, еще с парфянских времен, а то и раньше. Купив местного коня, Афанасий Никитин взошел с ним на «таву», отплывавшую в Индию (слово «тава», обозначающее вид морского судна, имеет индийское происхождение и кроме русского стало – в несколько ином обличье – достоянием арабского и китайского языков). «Ормуз – великая пристань,– отзывается тверской странник.– Люди всего света бывают в нем, есть здесь и всякий товар. Все, что на свете родится, то в Ормузе есть». ...Жизнь классического Хурмуза окончилась менее чем через десять лет после того, как посланцы лиссабонского двора впервые увидели Индию: в 1507 году он попал в жесткие руки португальских воинов, а в 1621-м, спустя много веков, составивших почти тысячелетие, вернулся под власть персов, которые, учтя местные данные и сложившиеся связи города, построили здесь новый порт – Бендер-Аббас.
Покинув хурмузскую гавань, купеческие суда вновь плыли к западу: на оманском берегу их ждали Сухар и Маскат. Весь разноязыкий Восток толпился на рынках юго-восточной Аравии, говорит стихотворец Саади (1184 – 1292), вошедший в двустишие Пушкина («Иных уж нет, а те далече, Как Саади некогда сказал»). Саади повествует как очевидец («На пристань в Омане я вышел...»). Но его-то что привело к торжищам на шумных набережных Оманского -залива? Ответ может быть найден в арабской пословице: «Невежда ищет богатства, а ученый – совершенства». Живые впечатления от знакомства с новыми и новыми ликами земной жизни, от общения с разными людьми, вызванные ими переживания и раздумья расширяют просторы перед созидающим умом, возвышают
112
сердце искателя и оттачивают его слово. За три века до знаменитого стихотворца землеописатель Мукаддаси, добывавший себе жизненный опыт не столько в путешествиях, сколько в скитаниях, тоже побывал в Омане. Его внимание здесь обратилось главным образом на древний Сухар – «преддверие Китая, сокровищницу Востока, рынок Йемена». К этой-оценке он подводит следующим описанием: «Сухар – столица Омана. Нет сейчас в Китайском море (одно из названий Индийского океана в средневековой письменности.– Т. Ш.) города более славного, чем он,– благоустроенный, населенный, красивый, здоровый, приятный, средоточие богатства, вместилище купцов, обитель плодов и злаков... Здесь удивительные рынки и восхитительные окрестности, простирающиеся вдоль морского берега. Дома тут из обожженного кирпича и тикового дерева, они высоки и дорого, стоят... Есть здесь колодцы и каналы с питьевой водой, и население живет среди полного изобилия». О Маскате, расположенном неподалеку, Мукаддаси отзывается более кратко и сдержанно, хотя уже в его время здесь процветало производство хлопчатобумажных и шелковых тканей; эта отрасль дожила в городе вплоть до последних столетий, когда ее дальнейшее существование было пресечено британской и североамериканской конкуренцией. Пятнадцатый век, наряду с девятнадцатым занимающий особое место в памяти человечества, принес Маскату славу крупного центра судостроения; готовые суда вывозились главным образом в Индию. ...Закончив торговые дела, купцы спешно возвращались на борт: попутный ветер имеет свои сроки. Пополнившие запас пресной воды и провизии, парусники теперь, после зигзагообразного движения как бы «вывинтившись» из Персидского и Оманского заливов, шли на юго-восток; миновав крайний выступ аравийской земли – мыс Рас-эль-Хад (Ра'с аль-хадд), они выходили на просторы Аравийского моря. Здесь можно было встретиться с аденскими судами, шедшими к странам восточного заморья, и продолжать путь уже вместе.
Средневековые землеописатели называли моря именем какой-либо из омываемых ими стран. Например, Красное море называлось «морем Хиджаза», «морем Йемена», «морем Абиссинии», у Мукаддаси, о котором шла речь, Индийский океан назывался «Китайским морем». Но странным образом западная половина Индийского океана в открытой акватории, куда выходит значительная часть побережья Персии, никогда при арабах не звалась именем этой страны. Зато западная половина океана получила навеки от имени полуострова, которого она касается лишь краем, название Аравийского моря. И если это покажется странным, то лишь на первый взгляд.
6 Т. А. Шумовский
113
Вспомним омано-малабарские (т. е. омано-индийские) связи в глубокой древности; арабские суда на службе у греко-индийской торговли в течение последних дохристианских столетий; проникновение «сабейских», как выражается китайский путешественник Фа Сянь всего за два века до ислама, т. е. арабских, купцов за мыс Коморин, в «подветренные страны» мусульманских источников; насыщенность языка хинди арабскими словами, которые столь непривычно видеть передаваемыми санскритским письмом,– все эти факты с достаточной убедительностью свидетельствуют в пользу того, что по, освоенности водные пространства, простирающиеся на восток от Аравии вплоть до Индии, психологически были для арабских мореплавателей как бы продолжением родного полуострова; здесь, на исхоженных морских дорогах, власть над которыми переходила от одного поколения кормчих к другому, начиналась океанская Аравия.
Парусники шли к Индии по двум трассам: одни – прямо, с легким отклонением к югу, чтобы сразу попасть в ее северные порты, другие круто на юго-восток, к Лаккадивским островам, за которыми открывались пути к богатым городам малабарского побережья Индии и выход на Цейлон. Мы ограничимся описанием первого направления: оно представит нам все западноиндийское побережье.
Пройдя крайние восточные гавани державы халифов – Мансуру и Дайбул (в устье Инда), путники достигали полуострова Катхиявар; здесь, у ворот Индии, им приходилось опасаться пиратов, хозяйничавших в заливе, отделяющем Кач от Саураштры. Метальщики «греческого огня» на судах были наготове, купцы за их спинами возносили моления о даровании морякам великой меткости. ...Одна за другой появлялись и отходили назад гуджаратские стоянки – далеко известные Мангалор, Суманат, Диу, Джуджа, Машия, суда входили в Камбейский залив и становились на якорь у города, который дал ему свое имя – Камбея, «пристани всему Индийскому морю», как сказал о нем Афанасий Никитин.
Звеньями арабской золотой цепи, охватившей Индию, то смутно мерцая, то остро переливаясь блеском купеческих сокровищ, от Камбея к югу нисходили старые порты Западного Индостана: Броч, Сурат, Даман, Хаджаши, Махаям, Тана, Чаул, Дабул, Гоа, Хонавар, Мангалор второй, Кананор, Кабукат, Каликут, Кочин, Кулам, Билингам. «...Арабской золотой цепи, охватившей Индию...» Не слишком ли сильно сказано? Не должен ли арабист, пишущий эти строки, заподозрить себя в некоем, пусть невольном, пристрастии? Ходили же индийские корабли, например, к Восточной Африке, и довольно часто; те, которые видел Васко да Гама в Малинди,
114
был-л, конечно, не первыми. Да, но кто взялся бы оспаривать мысль о том, что они звались «индийскими» не по составу путешествовавших в них, не по соответствующим обычаям и целям, а по месту выхода, «порту приписки», как теперь говорят? Ведь в каждом индийском порту, особенно крупном и преимущественно на западном побережье, действовала арабская фактория. Эти сообщества, во-первых, вели обширную внешнюю торговлю, а во-вторых, оживленный товарообмен с местными непосредственными производителями. Последним не было нужды везти плоды своего труда на продажу за море – арабские купцы скупали все представлявшее обоюдную ценность на месте производства; ни к чему было и отправляться на край света за иноземным товаром – благодаря арабским купцам, привозившим на индийский рынок всевозможные произведения Востока и Средиземноморья. Столь удобные условия торговли оплачивались незначительными (при беглом взгляде) уценками при покупке товара у его производителей и наценками при его продаже, тем не менее накопления купцов постепенно превращались в громадные состояния. Пример описанного в книге X века «Чудеса Индии» оманского торговца-еврея Исаака, вернувшегося после сделок в Индии миллионщиком, конечно, не единичен, и цифра 60 миллионов дирхамов ( = 178 200 килограммов серебра), которой иной раз могло оцениваться имущество арабского купца, ведшего свои дела на индийской земле, вполне может быть достоверна. Другой слой индийцев, с которым приходилось тесно соприкасаться негоциантам из халифата, состоял из правителей приморских городов и окружавшей их крупной и мелкой челяди. Эти получали большой доход от арабской морской торговли за счет налогов и подношений и всячески ее поддерживали: в конечном счете благосостояние этих крошечных властелинов зависело от уровня индо-арабской торговли.
Не следует, однако, думать, что в Индии арабы так же полно и всесторонне взяли в свои руки внешние связи страны, как это они сделали в Африке. Некоторые наиболее состоятельные купцы из коренного населения индийского Запада, особенно те, которым не давали спать лавры мусульманских, а до ислама сабейских соперников, сами иногда предпринимали дальние плавания за Ормузский пролив, Сокотру и Мадагаскар. Этим объясняются, в частности, санскритское происхождение названий Сокотры и Занзибара, упоминание последнего в поздних Пуранах (индийских эпических поэмах X – XVI вв.) и то обстоятельство, что восточноафриканские суда в пору ислама строились не только по арабским образцам, но и по тем, которые создали морепроходцы древней
6* 115
и средневековой Индии. Однако же, чем глубже укоренялись арабские торговые поселения на индийских побережьях, тем теснее сближались исконное население и пришельцы, шло медленное, но неотвратимое и необратимое взаимопроникновение культур. Кроме перевода индийских сочинений на арабский язык и насыщения индийских языков арабскими словами наука теперь может указать на менее известные примеры: плавание в 1009 – 1010 годах кормчего Хавашира ибн Юсуфа на корабле индийца Дабавкары (Судостроителя), которое позволяет предполагать, что оно было одним из многих предприятий такого рода; посещение Васко да Гамы на борту его флагмана в 1498 году «знатными индусами», в обществе которых находился – «мавр из Гуджарата», т. е. знакомый нам Ахмад ибн Маджид. Подробный рассказ португальского летописца XVI века Жоау да Барруша о втором событии, имевшем столь значительные последствия (он приведен в нашей книге «Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида, арабского лоцмана Васко да Гамы, в уникальной рукописи Института востоковедения АН СССР», 1957) применительно к тому, о чем сейчас идет речь, любопытен двумя сообщениями: вместе с индийскими гостями был мавр – так в средиземноморской Европе называли арабизованных северо-африканцев или вообще арабов. Этот мавр – из Гуджарата, т. е., по-видимому, он постоянно живет в северо-западной Индии, тогда как об Ахмаде ибн Маджиде мы знаем, что родина его – оманская гавань Джульфар. Врастание мусульманских переселенцев, особенно богатого купечества, в жизнь индийского общества привело к распространению ислама.
Афанасий Никитин оставил краткое и выразительное описание ^некоторых западноиндийских портов:
«А Камбай – пристань всему Индийскому морю, и товар в нем, все делают алачи (ткани из сученых шелковых и бумажных ниток.– Т. Ш.), да пестряди (ткани из разноцветных ниток.– Т. Ш.), да грубую шерстяную ткань, да делают краску индиго (синюю, производимую из растения 1пс%огега ппенэпа.– Т. Ш.); в нем же родится лакх (красящее вещество.—Г. #/.), сердолик и гвоздика.
Дабул – пристань весьма великая, и привозят сюда коней из Египта, Аравии, Хорасана, Туркестана и Старого Хормуза...
А Каликут есть пристань для всего Индийского моря, и пройти его не дай бог никакому судну; кто его минует, тот не пройдет поздорову морем. А родится в нем перец, имбирь, цвет мускат, цинамон, корица, гвоздика, пряное коренье, адряк (пряность.– Т. Ш.), да всякого коренья родится в нем много. И все в нем дешево; да рабы и рабыни очень хороши, черные».
116
У современника Никитина персидского писателя Абдар-раззака Самарканди о Каликуте сказано: «Это совершенно надежный порт». Такое достоинство, как безопасность купцов и товаров, ценилось еще в древности, и не удивительно, что каликутский рынок привлекал к себе торговцев и покупателей со всего света. Известный путешественник Ибн Баттута пытливым взором отметил в XIV веке тринадцать китайских кораблей, стоявших у причалов Каликута. Громкая слава города, одного из величайших на средневековом Востоке, привела к тому, что имя его было на многих устах и часто ложилось на страницы разноязычных рукописей.
Кроме статей торговли, о которых говорит Никитин, предметами каликутского вывоза были красное дерево, хлопчатобумажные ткани и драгоценные камни, из привозных – аравийская амбра, жемчуг Цейлона и китайский фарфор; ввозились кожи и кони, золото, серебро и медь, киноварь. Разнообразие и высокая ценность товаров, обращавшихся на этом крупном международном рынке, способствовали непрерывному обогащению мусульманских, преимущественно арабских, купцов; их колония в Каликуте была одной из самых могущественных во всей Индии. По существу сердцем широко исламизованного индийского Запада предстает средневековый Каликут, поэтому не случайно, что упоминаемый в хронике Жоау ~ да Барруша «добрый кормчий гуджаратский мавр» Ахмад ибн Маджид привел корабли Васко да Гамы именно сюда: здесь было лицо мусульманской Индии, которой он гордился, здесь можно было найти лучшие из товаров, которые она имела. Но с появлением «франков», людей необычного облика и поведения, говоривших на непонятном языке, повеяло чужим запахом; постоянное и безраздельное занятие каким-либо делом обостряет людское чутье относительно всего, что с этим делом связано,– купцы иноземного происхождения, в большинстве арабского, ощутили опасность выхода к рынку Каликута новой противоборствующей силы, гостеприимство стало таять. Причины душевного порядка не должны заслонять общественных моментов или отодвигать их, но вправе учитываться наравне с ними. Местный царек, притязательно звавший себя «самудри раджа» – морским князем, естественно, принял сторону мусульманских торговцев – он со своим пышным двором ведь состоял, говоря строго, у них на содержании,– и неприязнь к европейским «гостям» охватила местное население. Тучи сгустились дочерна, любой день мог привести к расправе с иноземцами. Дождавшись обратного муссона, португальцы в том же 1498 году покинули опасную гавань и устремились на родину. Всего несколько месяцев понадоби
117
лось для этих событий, описание которых заключено в знаменитых «Лусиадах» между ликующей и мрачной строфами; первая повествует о переходе к Индии с Ахмадом ибн Маджидом на борту, вторая – о последних днях пребывания лиссабонских морепроходцев в Каликуте. Гордость португальской поэзии Луиж Камоэнш, навеки смолкший четыре века назад (ум. в 1580 г.), доныне тревожит каждое живое сердце упругим и ярким стихом:
В кормчем, суда стремящем, нет ни лжеца, ни труса, Верным путем ведет он в море потомков Луса. Стало дышаться легче, место нашлось надежде, Стал безопасным путь наш, полный тревоги прежде.
К берегу дальней Тежу чтоб не вернулись франки, Сталью сразить пришельцев или спалить их барки Мавры клялись, взывая: франки – источник бедам, К' Индии путь да будет их королям неведом!
(Перевод наш.– Т. Ш.)
Клятва не сбылась. Подгоняемые попутным ветром, чужие корабли уходили на запад – отдышаться и обновить силы. Как помнит история, это было началом конца старого Калику-та и океанской Аравии.
Выйдя из каликутской гавани и взяв направление на юг, арабские купеческие суда оказывались на траверсе Лаккадивских и продолжающих их Мальдивских островов, имея обе гряды по правому борту. Арабы давно знали эти места, здесь у них были многочисленные поселения; в одном из них Ибн Баттута, о котором выше шла речь, полтора года состоял судьей при мусульманской торговой колонии. На страницах мореописательных рукописей времен халифата Лаккадивы и Мальдивы упоминаются довольно часто; обозначение первых – «фалат» – имеет общие коренные звуки с малайским ри1аи – «остров» (кергЛаиап – «архипелаг»), во втором случае наименование «дибаджат» восходит к пракритскому (Зу1ра – «остров» (вошедшему в одно из арабских названий Цейлона – Сарандиб и в одно из ранних европейских имен для Мадагаскара – СотогЫтат, а также в общеизвестные прилагательные Лаккадивский, Мальдивский; в морской Индии можно обнаружить немало топонимов с участием этого древнего слова). Оба архипелага во все века имели для арабов большое значение благодаря обилию произраставших на них кокосовых пальм: как бедуину в пустыне верблюд исстари давал все для существования, так скромное островное дерево
118
предоставляло все необходимое для постройки судна – стволы и волокно под золотыми руками корабельных умельцев превращались в корпуса, мачты, канаты и паруса. По-видимому, здесь было много верфей, поставлявших готовые суда на внешний рынок или чинивших попутные. Проходя мимо северных из этих земель, купеческие парусники постепенно приближались к материковому порту Кулам, вскоре за которым нетерпеливому взору странников открывалась южная оконечность Индии, мыс Коморин.
На куламском рынке обращались примерно те лее товары, что на рынках других малабарских портов. Как и там, здесь тоже гнездились мусульманские купцы, и, вероятно, весьма густо; о численности выходцев из Юго-Западной Азии в составе населения приморских городов индийского Запада можно судить по Саймуру – даже это сравнительно малозаметное людское пристанище, обычно не входящее в разряд поименно перечисляемых и тем более описываемых гаваней Индии, насчитывало в своих пределах около десяти тысяч мусульман; данные, полученные благодаря такому расчету, конечно, приблизительны, но возникающее представление в достаточной мере отчетливо. Наряду с общими чертами Кулам имел особую: его правитель взимал с каждого судна плату за разрешение пройти на восток.
По какому праву? Но кто об этом думает, если налицо условия, при которых никому не миновать входа в гавань, счастливо лежащую у стыка двух половин океана? Что за условия – полоса ли безветрия, где течение сносит парусник в нежелательном направлении, или, наоборот, зона противных ветров, не позволяющих отойти в открытое море, стремление ли избежать встречи с пиратами или с громадными рыбами, вышибавшими корабельное дно,– не известно, что именно, однако некое препятствие к обходу Кулама существовало, иначе не было бы смысла устанавливать обязательный налог.
О нравственном облике куламского владыки есть еще одно показание, заключенное в знаменитом «Витязе в тигровой шкуре» Шота Руставели:
До его прихода царь уж не один испил стакан.
Чаши полны, все довольны, пили вволю, стол весь пьян.
Все забыто: что тут клятвы, что тут вера, что Коран!
(Перевод Ш. Нуцубидзе)
Под «его» в первом стихе имеется в виду глава местной колонии арабских купцов «Усен», т. е. Хусейн: царек угощает своего благодетеля и сопровождающих последнего
119
именитых арабов, во вторую очередь своих вельмож, но прежде всех самого себя; на то, что он, а не Хусейн – устроитель пира, указывают слова: «...до его прихода царь уж не один испил стакан» – так может поступить лишь не очень церемонный хозяин по отношению к гостям. Однако на какие же деньги устроено обильное чревоугодие, описание которого, кстати, рисует весьма распространенную, вероятно, картину более чем свободного поведения благочестивых мусульман вне халифата,– на какие деньги, если почтенный хозяин пиршества в основном состоит на содержании у иноземных купцов? Налог на проход множества судов предоставлял достаточные средства для взаимовыгодного застолья индийской и арабской сторон.
Известия о том, что хоть один из князей Кулама отменил взимание незаконного налога или же вел воздержанную жизнь, у нас отсутствуют. Это позволяет распространить сделанное выше заключение на все время существования куламского княжества. Тогда, если мы хотим представить себе исторических деятелей живыми людьми, сквозь черты крошечного деспота проступает хорошо знакомый собирательный образ властелина восточной страны. В темной душе этого честолюбца намертво сплелись надменность и невежество, тщеславие и жестокость. Исходная причина всех зол такого рода – раболепие подобострастной челяди – внушила распаленному уму представление о личной безнаказанности, а впоследствии – непогрешимости. Сомнение в его достоинствах не может себя обнаружить, ибо в царстве, которое он «осчастливил» своими откровениями, мудрость и справедливость заменены ложью и насилием. Бесчинства чиновных лиц в александрийской таможне, поборы в других портах и хлопоты купца Мадмуна – все это, прошедшее перед нами на прежних страницах, есть отражение и подтверждение деспотизма, нашедшего много прибежищ в мире океанской Аравии. ...Но купеческие суда, оставив куламскому сборщику требуемую мзду, уже вышли в море, миновали Билингам или побывали в нем, спустились к мысу Коморин и, обогнув его, вступили в Бенгальский залив; отправимся следом.
Трудно понять, почему огромное водное пространство, приблизительно равное Аравийскому морю и значительно превосходящее многие моря на западе и востоке, названо заливом. У арабов Бенгальский залив звался «морем Хар-канда». В последнем слове можно с большим основанием видеть сказочную Голконду, алмазные россыпи которой находились в бассейне. Кистны: протекая почти через всю южную Индию от запада к востоку, эта река впадает в








