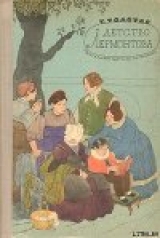
Текст книги "Детство Лермонтова"
Автор книги: Татьяна Толстая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Глава II
Болезни и печали. Компаньонка Юленька. Отрезанная коса
Ребенка растрясли в дороге, и он заболел. В большом барском доме в Тарханах, в спальной Арсеньевой, стало шумно и суетливо – Елизавета Алексеевна взяла к себе новорожденного, и к ней приходила ночевать дочь. Из соседней комнаты, из кабинета Арсеньевой, сделали детскую.
Юрию Петровичу опять вручили хозяйственную книгу с расчетами, и Соколов ходил к нему с докладами, но молодой барин его выслушивал рассеянно и никакого интереса к делам имения не проявлял. Он упрекал жену за отъезд из Москвы.
Ему пришлась по сердцу широкая столичная жизнь. Но Мария Михайловна, раздраженная болезнью, в свою очередь упрекала мужа и приводила ему примеры страстной и неразлучной любви супругов.
Вскоре приехали все тетки Арсеньевы: вдовая Дарья Васильевна и незамужние Мария и Варвара. С ними приехала заплаканная Юленька, сирота, воспитанная у них в доме.
Арсеньевы приехали с покорнейшей просьбой: нельзя ли пристроить Юленьку в компаньонки к Маше? Сирота не объест, а может, Машеньке станет веселей. Юленьке уже восемнадцать лет, она любит детей, будет помогать: и стол для гостей накроет, и белье починит, и с Мишенькой погуляет в саду.
Тем временем Юрий Петрович продолжал скучать: жена болела, теща неизменно была суровой, новорожденный страдал от младенческих недомоганий, кожа его часто покрывалась сыпью и даже нарывами, отчего ребенок горел в жару.
– Золотуха, – покачивая головой, успокоительно говорил медик.
У маленького поздно прорезались зубы, он плохо спал по ночам и надрывно кричал; жена и теща тоже не спали и каждое утро с увлечением рассказывали друг другу о своих переживаниях и наблюдениях за ребенком. Но Юрий Петрович слушал их равнодушно; он любил сына, но ничего не понимал в уходе за ним.
Юрий Петрович стал часто уезжать в Кропотово, выдумывая разные предлоги, и там оставался жить неделями. Мария Михайловна волновалась и плакала. Когда муж приезжал обратно, она расцветала и становилась счастливой от одного его присутствия. И, странное дело, она стала замечать, что и Юленька оживляется и волнуется, видя Юрия Петровича. Машенька поделилась своими наблюдениями с матерью.
Арсеньева убедилась, что дочь права, что Юленька кокетничает с Юрием Петровичем.
Она распорядилась тотчас же заложить лошадей и везти Юленьку обратно в Васильевское; потом велела принести большие ножницы.
Пока Юленька ползала у нее в ногах, умоляя о прощении, Арсеньева схватила ее за волосы и велела сенным девушкам держать девицу. Прежде чем можно было что-либо предположить, по распоряжению Арсеньевой Олимпиада стала отрезать косу Юленьки острыми ножницами, отделяя одну прядь за другой, а когда обошла затылок, вырезала еще волосы лестницей на лбу, а косу бросила на пол и растоптала. Юленька билась в истерике. Арсеньева на скорую руку написала записку всем своим золовкам-колотовкам, что Юленька оказалась дрянью. Арсеньева не ложилась спать, пока воющая, обезображенная Юленька в сопровождении лакея Федора и кучера Терентия не была увезена из Тархан.
Золовки очень рассердились на Арсеньеву за самоуправство. Зачем она отрезала косу Юленьке, как крепостной девке? Кто возьмет ее теперь замуж после такого срама? Неужто нельзя было по-хорошему? Ведь они, Арсеньевы, много потерпели от этой зловредной сироты, а скандала на всю губернию не делали!
Арсеньева долго бранилась.
Мария Михайловна спросила на другой день, куда девалась ее компаньонка. Арсеньева, зная, что этой истории не скрыть, все рассказала дочери, и Маша зарыдала.
– Как я несчастна, маменька! – говорила она в отчаянии. – За что, за что бог отнял у меня здоровье? Помогите мне вылечиться, помогите, а то я не стану жить!
– Эх, ежели бы знать, где здоровье купить, доченька! Все, что имею, отдала бы! А то сама всю жизнь мучаюсь, ноги болят…
Маша, видя, что у матери слезы побежали из глаз в три ручья, пошутила, чтобы отвлечь ее:
– А как бы вы без денег стали жить?
– Новые бы накопила! – уверенно ответила Арсеньева. – Я умею из копейки рубли добывать. И ты бы поучилась у меня. Это наука трудная, но ведь ты моя дочь, значит, можешь достичь, чего пожелаешь. Всего можно добиться. Только есть одно обстоятельство непоправимое: смерть. Ее не переспоришь. А что болезнь? Разве я плохо жизнь прожила?
Маша чувствовала, что мать ее утешает не так, как надо… Поведение мужа ее огорчало до глубины души.
Юрий Петрович уехал в Кропотово и долго не возвращался. Мария Михайловна не знала, что и думать. Арсеньева уговаривала дочь исполнять предписания медиков, но ничто не помогало: Мария Михайловна тосковала, бледнела и волновалась. Завернувшись в теплый платок, она лежала у себя в комнате.
Здесь ей снились большие города с каменными домами и златоглавыми церквами; здесь, когда зимой шумела метелица и снег белыми клочьями падал на тусклое окно, ложился перед ним высоким сугробом, она смотрела на белые просторы полей, на серое небо и ветлы, обвешанные инеем и колеблемые ветром над прудами. Неизъяснимая досада заставляла ее плакать, Арсеньева же, отдыхая в отсутствие зятя, ее уговаривала:
– Вернется он, за деньгами вернется! – и наказывала дочери не посылать за ним.
В самом деле, Юрий Петрович вернулся сердитый и объявил, что ему надоела жизнь в Кропотове. Надо переезжать на зиму в Москву, чтобы Машенька лечилась.
Арсеньева запротестовала. Ей не хотелось, чтобы семейная жизнь молодых стала в столице «притчей во языцех»; она полагала, что положение Маши в обществе с таким мужем будет невыгодным. Но Юрий Петрович не терял надежды на переезд. Он опять стал нежен с женой, и они опять подолгу вновь просиживали часами у фортепьяно, а по вечерам гуляли в саду. Мария Михайловна начала поправляться. Движения ее стали живее и спокойнее. Румянец стал пробиваться на ее исхудавших щеках. Зная, как муж любит бывать на разных вечеринках, она даже изредка выезжала с ним к соседям.
Глава III
Ссоры супругов Лермантовых. Вмешательство Арсеньевой
Как-то летом Машенька с мужем решили прокатиться к соседям. Прогулка приятная – имение отстоит всего в пяти верстах от Тархан; такая поездка не могла утомить Марию Михайловну.
Когда они сели в коляску, Арсеньева глядела на отъезжающих из окна второго этажа и залюбовалась молодой парой. Нарядная дочь ее похорошела, повеселела. И как бережно поддерживал ее Юрий Петрович! С отменной ловкостью военного он подсаживал ее в экипаж. Кучер Ефим Яковлев, красавец в синем кафтане, с павлиньими перьями на шапке, перестал удерживать лошадей, и серая пыль заклубилась за быстро побежавшими колесами.
Молодые возвратились в тот же вечер. Арсеньева услышала звон своих колокольцев и поспешила к окну.
Юрий Петрович легко спрыгнул с сиденья и заботливо помог жене выйти из экипажа. Но Мария Михайловна от него отворачивалась, и лицо ее стало ужасным: глаза покраснели от слез, на распухшей щеке темнел огромный синяк.
Вообразив, что Маша расшибла в экипаже себе лицо, Арсеньева тотчас же спустилась вниз, желая поухаживать за больной дочерью. Но Мария Михайловна легла на диван и, сказав, что она сама во всем виновата, попросила мать уйти. У Юрия Петровича был очень смущенный вид: он не отходил от жены, заботясь о ней.
Арсеньева велела позвать в кабинет кучера. Ефим еще не успел переодеться после поездки и стоял в длинном синем кафтане и четырехугольной шляпе с павлиньими перьями. Несмотря на лето, он обязан был для представительности ездить в ватной одежде.
Войдя в кабинет, Арсеньева неторопливо села в кресло и спросила, пытливо глядя Ефиму прямо в глаза:
– Говори, подлец, что случилось?
Молодой кучер ответил честно и охотно:
– Не знаю. Молодая барыня жаловалась и сердилась по-французски, а он закричал по-русски: «Надоели твои упреки! Когда выздоровеешь, все будет иначе, пока терпи». Но Мария Михайловна не унималась и опять говорили по-французски, а он… простите, барыня, язык не поворачивается вымолвить… кулаком в ейное личико ткнул.
– Что? – вскрикнула Арсеньева вспылив. – Как ты смеешь!..
– Простите, бога ради, что сказал, но вы велели… Известно, что молодой барин добёр, но горяч. Видно, не сдержался, как наш брат…
– Ты еще рассуждаешь? – вознегодовала Арсеньева.
– Простите, барыня, истинный бог! – сжимая шапку, бормотал перепугавшийся парень. – Молодой барин каялся потом, в ногах у нее валялся, прощения просил и по-русски и по-французски. Он ведь любит Марию Михайловну, сами знаете.
– Оправдывать его смеешь? – закричала Арсеньева.
– Простите, барыня-сударыня, виноват! Но как промеж господами меня поставили – меня, серого мужика, – может, я что и не так сказал, только по совести…
Арсеньева сказала выразительно:
– Ежели хоть одна душа узнает!..
Яковлев живо вынул из-за ворота крест, поцеловал его и перекрестился:
– Да пусть глаза мои лопнут, ежели хоть слово…
Ах, окаянный Сахар Медович, как он приворожил ее дочку! Драться начал! Драться!.. И она, несчастная мать, ничего не может против этого предпринять.
Она пошла в детскую. В колыбели мирно спал ребенок, высвободив из-под одеяла тоненькую, с длинными пальцами ручку.
Арсеньева присела с внуком рядом. Как защитить дочь? Будь Михаил Васильевич жив, он бы помог, проучил бы его как-нибудь, а что она может? Как срамить его? Дочь всегда берет его сторону и сердится на мать, когда она вмешивается.
Можно действовать лишь в том случае, когда она просит. Но ежели оставить этот случай без внимания… Ох, за что господь наказал? Разве Михаил Васильевич ее когда-либо пальцем тронул? Кто же может помочь?
Вдруг блеснула мысль: а что сейчас делают молодые?
Велела Олимпиаде:
– Ступай под дверь Марии Михайловны, послушай, что там делается. Только живо.
Олимпиада побежала так быстро, что поскользнулась на лестнице, и слышен был грохот падения, а затем ее стон. Впрочем, она вскоре приползла и прошептала:
– Ссорятся… Ох, ссорятся!
Она застонала и откинулась навзничь. Сенные девушки подбежали к ней, а Арсеньева, перекрестившись, решительно пошла вниз.
Дверь комнаты молодых была прикрыта неплотно, и слышно было, что Юрий Петрович говорил о том, что жизнь его проходит в напрасном кипении, что он совершает ненужные действия, подобные сегодняшнему. Зачем он это сделал? Зачем? О, как он казнит себя за несдержанность! Зачем он совершает поступки, о которых вспоминает с раскаянием, жалея о своем нетерпении, о невыдержанности своей?.. Ведь он чувствует в груди своей громадные силы, но не знает, как их применить. Он шел в ополчение, желая совершить подвиг, но это ему не удалось, и огненный порыв разменялся на мелочи.
Ему скучно и тяжело жить. Он всегда волнуется и страдает. Вопросы справедливости, блага, добра занимают его, но как их разрешить? У него остались друзья в Петербурге, в Москве, а здешние помещики хороши только как собутыльники и любители сильных ощущений в карточной игре. Они живут замкнуто, довольствуясь жизнью сегодняшнего дня, отстают от жизни… Он не ценит их общества, привыкнув с детства жить в столице. А он так трудно сходится с людьми… Он знает, что его считают гордым, даже надменным, и очень скрытным и, не понимая его, называют «странным человеком».
Мария Михайловна возразила:
– Я тебе всегда говорила, что надо себя сдерживать, больше считаться с окружающими. Ты слишком много думаешь о себе… Впрочем, мне и это мило…
– Это верно! – воскликнул Юрий Петрович. – Я эгоист! Ты видишь меня насквозь. Ни один человек – ни мужчина, ни женщина – не сумел меня так разгадать и принять в свое сердце со всеми моими недостатками…
Арсеньевой надоело слушать эти разговоры, и она, не постучавшись, вошла в комнату молодых. Юрий Петрович стоял на коленях перед женой, и вид у него был смущенный и жалобный. Оба были взволнованы и рассердились, когда вошла Арсеньева.
– Что вам, маменька? – спросила Мария Михайловна, не вставая с дивана; щека у нее была завязана шарфом.
Юрий Петрович тотчас же вскочил и, как был с расстегнутым воротником, стал ходить по комнате, волнуясь и говоря:
– Я знаю, зачем вы пришли! Опять хотите бранить меня. А я больше не могу слушать ваши упреки. Она больна, но ко мне снисходительна, хоть и днем и ночью плачет и корит меня в моих грехах. Но поймите, мы муж и жена, а вы зачем становитесь между нами? Я знаю, я негодяй, что ударил ее, ангела, но мало ли что бывает между мужем и женой! Зачем вы во все вмешиваетесь? Имением стал управлять – вы меня конфузите перед всеми. В карты проигрался – значит, подлец, ваши деньги мотаю; поухаживаю – трижды подлец. Я не могу так жить, не могу, чтобы теща верховодила в доме!
Он стоял посреди комнаты, в отчаянии сжимая пальцами лоб, безжалостно растрепав свою живописную прическу. Скрестив руки на груди, он подошел к Арсеньевой и сказал ей настойчиво, как мог:
– Завтра же я увезу жену и сына в Кропотово. Я имею на это право по закону. Живите без нас. Она согласна ехать со мной.
Арсеньева посмотрела на расходившегося зятя: румяный, с синими глазами, с растрепанными кудрями, он был хорош, как расшалившийся мальчик. Она терпеливо выслушала монолог Юрия Петровича, но, когда услышала угрозу увезти от нее единственную дочь и внука, обомлела. Угроза эта ее ошеломила: ведь в самом деле он имел на это законное право, и бороться с ним надо было хитростью. Арсеньева молчала. Юрий Петрович в нетерпении, оттого что она не отвечает, крикнул запальчиво:
– Увезу! Завтра же увезу!
Арсеньева вздохнула и грубо ему приказала:
– Ты стул бы хоть мне подал! Небось в дворянском заведении обучение получал, а ведешь себя, как мужик.
Юрий Петрович сконфузился и молча подвинул теще кресло. Арсеньева медленно уселась и заговорила:
– Я разве когда-либо вам мешала?
И она стала поучать молодых.
Юрий Петрович молод, пылок и не желает сдерживаться, оттого он и страдает. Мария Михайловна болеет. Но неужто она будет всю жизнь болеть? Пока она нездорова, не лучше ли им временно разлучиться? Не лучше ль будет, ежели Юрий Петрович поедет на зиму в столицу, а Машенька тем временем вылечится? На поездку можно выдать денег, но при условии, что Маша с ребенком останется при матери, потому что никто за ней лучше ходить не сумеет. В Кропотове же она будет нуждаться в деньгах и скучать вдвойне – и без мужа и без родимого дома.
– Ведь мать твоя – счастливица, – убежденно говорила зятю Арсеньева. – У нее шестеро детей: и сын, и пять дочерей, и внук. И заметь: четыре дочери неотлучно живут при ней. А я, несчастная вдова, кто у меня есть? Только одна дочь и один внук!
Эта речь имела двойную цель: во-первых, намекнуть на всем известный факт, что Анна Васильевна страдает оттого, что дочери ее не выходят замуж, а во-вторых, разжалобить молодых.
И с брезгливой ненавистью, которую Арсеньева чувствовала к зятю и старалась сдерживать великим напряжением воли при дочери, она широким жестом отчаявшегося человека, для которого деньги теряют вес и значение, предложила:
– Даю двадцать пять тысяч…
Но нервы ее не выдержали. Не дождавшись ответа, она быстро встала и вышла, но начала плакать уже в коридоре и еле поднялась к себе в спальную, на верхний этаж. Там девушки ей сказали, что Олимпиада Васильевна сломала, видно, себе ногу в бедре, ее взяли в ткацкую отлежаться и пошли за фельдшером.
Арсеньева подосадовала, что Липка так некстати заболела, и села в кресло перед бюро раскладывать пасьянс, что было у нее признаком великого волнения.
Наутро она не вышла пить кофе в столовую, но Мария Михайловна поднялась к ней наверх. Щека ее была завязана, как при зубной боли. Она полюбовалась на Мишеньку, который, завидев мать, радостно ей улыбнулся и протянул ручки. Мария Михайловна расцеловала его, взяла на колени и обратилась к Арсеньевой:
– Боюсь, что вы нездоровы, маменька. Вы как-то пожелтели.
– Ревматизма одолела, всю ночь не спала…
– Да вы не сомневайтесь, спите спокойно. Никуда я, больная, отсюда не поеду! А он согласен съездить в Москву, и я думаю, что насчет денег надо ему выдать казенную бумагу. Только он очень огорчен, что ему приходится от вас деньги брать, потому что маменьке его нужны деньги и сестрам.
Арсеньева сдержанно предложила:
– Да мне все равно, дружок, можно и написать. По пословице, «что в лоб, что по лбу». Можно даже написать, что я у него заняла.
Машенька вспыхнула.
Но Арсеньева рассудительно успокаивала милую свою дочь:
– Нельзя же, дочка, каждое лыко в строку. Я же двадцать пять тысяч отдаю, жалко ведь!
И в самом деле, не отказавшись от своих слов, она закрепила свое обязательство официальной бумагой:
«Лето 1815 года августа 21 дня вдова гвардии поручика Елизавета Алексеева дочь Арсеньева заняла у корпуса капитана Юрия Петрова сына Лермантова денег государственными ассигнациями 25 тысяч рублей за указанные проценты сроком впредь до года, то есть будущего 1816 года августа по 21 число, на которое должна всю ту сумму сполна заплатить и буде чего не заплачу, то волен он, Лермантов, просить о взыскании и поступлении по законам. К сему заемному крепостному письму вдова гвардии поручика Елизавета Алексеева дочь Арсеньева, что подлинно у Юрия Петрова сына Лермантова денег 25 000 заняла, в том и руку приложила».
Следовали подписи свидетелей. Далее шли скрепы писца и надсмотрщика и подпись руки самой Арсеньевой.
Глава IV
Отъезд Юрия Петровича в Москву и его возвращение. Стихи супругов Лермантовых
После этого происшествия пребывание Юрия Петровича в Тарханах стало невыносимым. Ему приходилось ежедневно за столом встречаться с Арсеньевой на людях, видеть ее ненавидящие глаза. Уж лучше бы она дружески выговаривала ему, чем знать, что идут постоянные сплетни за его спиной. Особенно тяжело было ему встречаться со всеми Арсеньевыми (а они приезжали часто в гости). Елизавета Алексеевна бранила их за то, что они сосватали Машеньке Юрия Петровича. Пребывание за общим столом всем было тягостно, и при первом же крике ребенка вставали сразу и мать и дочь и торопились в спальную, оживленно обсуждая причину его беспокойства.
Миша еще не начал ходить. Когда у него прорезывались зубы, его жестоко одолевали детские болезни. Юрий Петрович тоже часто поднимался к ребенку, брал на руки и носил по комнате, отчего Миша всегда успокаивался и улыбался.
Юрий Петрович желал тотчас же выехать в Москву, однако Арсеньева утверждала, что у нее нет сейчас денег. Наконец он все-таки решил уехать, после того как получил заверения, что несколько тысяч рублей Арсеньева перешлет ему в Москву.
Думая, что Юрий Петрович скоро уедет, Мария Михайловна становилась бледнее смерти. Когда она спала, то казалась неживой, так истончились черты ее лица, так выделялись черные ресницы на веках, обведенных зловещей синевой.
Но вот наступил день отъезда.
Как описать слезы разлуки, пожелания, благословения, мольбы о письмах?
Наконец зазвенел колокольчик – лошади были готовы. Довольно медлить! Колокольчик звенит все громче и громче. Вот близко топот, крик кучера, шум колес… Кибитка подъехала к крыльцу. Вся дворня столпилась провожать молодого барина.
Мария Михайловна порывисто всхлипывала. Мать испугалась, что дочь задохнется. Когда наконец она оторвалась от мужа и взволнованный Юрий Петрович растерянно и печально сел в экипаж, улыбаясь сквозь слезы и помахивая белым платком, Арсеньева заметила, что у дочери на тоненьких пальчиках ногти посинели – это было предвестником обморока. Арсеньева испугалась и готова была крикнуть отъезжавшему Юрию Петровичу, что она согласна помириться с ним, что она умоляет его возвратиться в Тарханы и вообще сделает все, что он захочет.
Но иной голос вернул к жизни Марию Михайловну – голос маленького Миши. Ему еще не было и года; его, в теплой шапочке и в пелерине, вынесли провожать отца. Он испугался, что мать его плачет, и настойчиво, в слезах, стал ласкаться к ней… Мария Михайловна очнулась, целуя сына. С нежной лаской она пожелала взять его, но не смогла – ее руки были слишком слабы, а мальчик еще не мог ходить. Няня понесла его за матерью в дом.
Мария Михайловна не знала, чем успокоиться самой и чем успокоить сына, и села за фортепьяно, а Мишеньку взяла к себе на руки. Так они просидели долго. Мария Михайловна играла, а ребенок ее слушал, иногда осторожно хватая тонкие, изнеженные пальцы матери. Руки Марии Михайловны отличались красотой, и она их берегла.
Мать заливалась слезами, и Миша, прижимаясь к ней, тоже плакал. Мария Михайловна целовала нежный затылочек с теплым пухом волос и вглядывалась в личико ребенка; она искала в нем сходство с человеком, который дал ему жизнь. Но сходства не было. Мальчик походил на нее и лицом, и руками, и сложением, но это был его ребенок… Боже мой! Ведь это дитя нарушило ее семейное счастье! После его рождения она тяжело заболела, а если б она была здорова, то Юрий жил бы с ними до сих пор… Но чем виноват дорогой ее сынок? Он так мил, так любит мать. И она полюбила его со дня рождения и всю жизнь будет с ним мягкой и нежной, не станет мучить его так, как мучит ее мать. Когда он будет взрослым и женится, то она будет нежно любить его жену…
Две няни устало стояли у дверей зала, ожидая приказаний, но Мария Михайловна их не замечала, беседуя и играя с ребенком.
Голос Арсеньевой спугнул их:
– Фанюшка приехал!
Мария Михайловна передала ребенка няням и пошла навстречу гостю.
Афанасий Алексеевич Столыпин, герой Фридлянда и Бородина, крупный, широкоплечий мужчина, в модном сюртуке, с черным взбитым коком, осторожно подошел к Марии Михайловне, крепко обнял ее и поцеловал.
– Играла? – спросил он с сожалением. – Меня не подождала. Эх ты, племяша!
Он очень любил игру Марии Михайловны и готов был слушать ее часами.
– Ну, пойдем вкушать пищу! Только без тебя не стану.
Видя, что Мария Михайловна с отвращением думает о еде, он ее опять обнял и повел, приговаривая:
– Ну, пойдем, пойдем, пощади своего старого дядю, я же голодный, я из Нееловки.
У Афанасия Алексеевича была в Саратовской губернии деревня Нееловка, и он любил острить и подсмеиваться над этим названием.
Мария Михайловна покорно шла, увлекаемая его могучей рукой. Вдруг она закашлялась и почувствовала, что неприятная соленая слюна заливает ей горло и рот. Она поднесла мокрый от слез платок к губам, и он окрасился кровью. Испугавшись, Мария Михайловна пошатнулась.
Арсеньева крикнула, заметив кровь:
– Доктора, скорее доктора!
Афанасий Алексеевич поднял племянницу своими могучими руками и отнес ее на диван в кабинет.
Доктор жил внизу, в комнате для гостей; он быстро подошел к больной, велел принести льду и дал ей глотать какие-то капли. Мария Михайловна вскоре заснула.
Арсеньева с братом вышла в столовую, а доктор остался дежурить возле Марии Михайловны, а когда она проснулась, велел уложить больную в постель.
Мария Михайловна терпеливо позволила себя выслушать и приняла лекарство, но как только доктор ушел, снова начала плакать, и снова из горла пошла кровь так сильно, что намокло все полотенце.
Афанасий Алексеевич подошел к ее постели и сердито стал ее укорять:
– Ты что ж это, племяш, к утру помереть желаешь? Пойми, что, ежели ты не перестанешь плакать, ты изойдешь кровью, угаснешь в слезах…
Марию Михайловну поразила эта мысль.
– Посиди со мной, дядя Фаня. Мне с тобой легче. – Она говорила сипло, с трудом.
Афанасий Алексеевич решительно отогнал сестрицу свою Елизавету Алексеевну и сам долго рассказывал племяннице разные истории, забавляя ее, а когда убедился, что она наконец заснула, прилег напротив на диване.
Назавтра он опять пришел ее убеждать:
– Я не пойму, чего ты хочешь. Жить с мужем? Ну и живи. Долго ли его выписать? А пока изволь выполнять предписания доктора.
Мария Михайловна не поправлялась, потому что успокоиться не могла. Не помогали ей ни гофманские капли, которыми ее упорно лечила Арсеньева, ни чтение романов в постели.
Елизавета Алексеевна, тоже потерявшая сон, уговорила дочь ночевать в ее спальной. Всю ночь слышала вздохи дочери, нередко и слезы, а когда заговаривала, то ответа не получала: больная притворялась, что спит. Арсеньева пыталась чем-либо занять ее, уговаривала разобраться в делах имения, но Маша решительно отказалась – это ей было неинтересно.
Сипота в горле усилилась, могло опять начаться кровохарканье. Мария Михайловна все более и более раздражалась своей болезнью и сочувствовала всем болящим.
Домашний доктор Теодор Массиу, горбоносый, лысый старик в очках, приехал с Мещериновыми в Тарханы из Москвы, Он был полковым врачом во французской армии. В дни московского пожара горящее бревно переломило ему ногу, и он отстал от французов. Оставшись в Москве, он начал практиковать, но зарабатывал мало. Его приютили Мещериновы, и он успешно лечил весь дом.
Когда заболела Мария Михайловна, Арсеньева, разуверившись в силах «светил», обратилась как-то к нему. Доктор понравился ей внимательностью, выдержкой, дельными советами. Она пригласила его жить в Тарханах и решила, что, ежели он будет лечить плохо, она его выгонит, а пока пусть живет; в случае чего не поймет, можно будет пригласить ему на помощь лучших докторов. Но доктор лечил старательно, а главное, был очень терпелив. Он присутствовал за общим столом и восхищался вкусными русскими блюдами.
Арсеньева над ним подсмеивалась:
– Еще бы! Русская еда самая вкусная, самая плотная. Русскую икру знает весь мир, русский хлеб славится. А ваш брат французик что потребляет? Лягушек под бешемелью, слизняков с лимончиком, раков да черепах, а самой полезной кашей, гречневой, французы свиней кормят!
Доктор, смущенный шутками помещицы, возражать ей не смел.
Арсеньева отправляла его лечить крестьян, и он на старости лет начал волей-неволей изучение русского языка, но – увы! – бесполезно. Русские пациенты его не понимали.
Однажды за обедом доктор рассказал, что нашел у одной молодой женщины язву на ноге, что ее можно излечить, давая специальное лекарство, но у крестьянки денег на это нет. Выслушав доктора, Мария Михайловна вызвалась помогать ему. Арсеньева испугалась: зачем ей ходить к больным? Может сама заразиться или принести заразу ребенку. Но Мария Михайловна настаивала, и Елизавета Алексеевна согласилась – все-таки несколько часов в день Машенька будет занята.
Послали кучера Никанорку в Пензу и велели ему закупить медикаменты по списку. Арсеньева ахнула, увидев, какую корзину с пузырьками и мазями привез Никанор. Она заинтересовалась, вытянула склянку наудачу и вздрогнула – на пузырьке была зловещая этикетка с напечатанным рисунком: череп и перекрещенные кости. Это был яд.
Доктор объяснил, что с этим медикаментом надо обращаться осторожно, что в небольших дозах он приносит только пользу.
Составив аптечку, Мария Михайловна стала ходить по деревне, раздавая лекарства больным. Но не только лекарства относила она им, не только перевязки делала – иногда вместе с пилюлями и порошками она давала им свои старые платья, мешочек с сахаром, чаем или кофе.
Мать все это видела, но дочери не перечила.
Мария Михайловна выходила из дому тихая, бледная, сопровождаемая мальчиком-слугой, который носил за ней аптечные снадобья, и переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью; и казалось, ей самой становится легче оттого, что она помогает болящим. Но дома она изнемогала от тоски. К соседям не ездила и не любила сидеть с гостями, а больше бродила по комнатам с заложенными за спину руками.
Бо́льшую часть дня Мария Михайловна возилась с болезненным сыном своим. И любовь и горе выплакала она над его головой. Он начинал говорить первые слова, и это ее восхищало. Она брала ребенка к себе на колени и играла на фортепьяно, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно. Звуки музыки волновали Мишу: он внимательно слушал, и слезы катились по его личику – мать передала ему необычайную чуткость свою.
Ребенок часто болел – то сильный жар, то сыпь и нарывы, то непрестанный крик указывали на то, что ребенок страдает. Наконец наступали недолгие счастливые дни, когда Миша бывал здоров.
Зима тянулась бесконечно. Сугробы снега в саду, вой собак по ночам, волки, которые во тьме подходили к двору, чтобы задрать овец, петушиное пение поутру, ворчливый голос Арсеньевой, которая неутомимо отдавала хозяйственные распоряжения, – вот из чего складывался день. Приезжали гости, но с двумя только любила беседовать Мария Михайловна – с Григорием Васильевичем Арсеньевым, братом отца, и с дядей Афанасием.
Григорий Васильевич походил на брата своего, Михаила Васильевича. Он приезжал с букетами, сорванными в цветнике и в оранжерее, галантно раскланивался и подавал цветы племяннице. С дядей Мария Михайловна говорила об отце, вспоминала разные случаи из жизни Михаила Васильевича. Когда Арсеньева уходила, дядя хвалил Юрия Петровича и удивлялся, почему его так не любит Елизавета Алексеевна. Намекая на тяжелый характер Арсеньевой, он нашептывал Машеньке:
– Уж на что покорен и терпелив был Михаил Васильевич, а и то довольно часто на нее жаловался!
Дядя Афанасий по возрасту казался скорее братом, чем дядей. Он приезжал с корзинами фруктов или ягод, которые выращены были у него в парниках, а тепличных цветов он не любил.
– Да ну их, эти веники! – говаривал он пренебрежительно даже о самых лучших букетах.
Афанасий Алексеевич входил в комнату огромный, загорелый, свежий, потому что бывал он много времени на воздухе и как страстный охотник не курил. Он почтительно целовал руку сестры и вызывал Марию Михайловну.
– Ну как, племяш? – говорил он, заключая ее в широкие объятия. – Сознавайся, сколько романов за ночь прочитала?
И они, пренебрегая расписанием дня, в неурочное время ели яблоки у окошка, и Мария Михайловна с интересом слушала его рассказы.
Юрий Петрович был ниже своей жены, а с дядей Афанасием Мария Михайловна была под пару: оба высокие, черноволосые, смуглые. Они были схожи чертами, как брат и сестра, но выражение лиц их резко отличалось – мечтательность, наивность и страдание не оставляли Марию Михайловну, а лицо Афанасия Алексеевича постоянно меняло выражение: то выжидательная хитрость в глазах, то нежность, то неожиданная жесткость. Но глаза его были хороши – умные, проницательные.
Арсеньева, любуясь, как хорошо они проводят время вдвоем, думала: вот ежели бы Машеньке такого мужа, как Афанасий, то все бы пошло по-другому!
Дядю Афанасия часто водили в детскую. Миша рос медленно, ходить еще не начал, а ползал по полу, не вставая на ноги. Головка у него была большая, ноги плохо поддерживали тяжесть тела. Миша любил чертить мелом на полу, и, несмотря на то что няня старалась отучить его от этой «пачкотни», бабушка и мать велели ему не мешать.
Елизавета Алексеевна, помня пророчество повитухи, говорила дочери:








