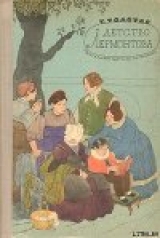
Текст книги "Детство Лермонтова"
Автор книги: Татьяна Толстая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Но Маша, задумавшись, благодарила:
– После взгляну, после…
Она ушла в свою комнату и села за бюро, где в десятках маленьких ящичков хранились ее вещи. Среди обычных ящичков существовали еще два потайных, где спрятано было несколько тетрадей: дневник и альбомы.
В столице, от подруг, она узнала о модной привычке заносить в дневник все впечатления, либо волнующие, либо примечательные, и ей понравился этот обычай. У нее не было братьев и сестер, даже близких ей сверстников, с которыми она могла бы делиться своими задушевными мыслями: отец и мать не отпускали ее ни на день от себя. Она росла, скрывая свой внутренний мир от окружающих, переживая все в одиночестве, привыкнув не доверять. Поэтому возможность записывать в дневник свои мысли и наблюдения ее прельстила. Она увлекалась, раскрывая свое сердце, зная, что никто не заглянет в тайные листы, и охотно писала о том, что ее волновало.
В дневнике она записывала свои впечатления по-французски; потом можно было вспоминать, что она переживала.
Вместе с дневником прятался альбом, купленный тоже в столице, сафьяновый, с серебряной застежкой.
В альбоме было записано много нежных стихотворений на французском и русском языках. Стихи эти писали подруги, родственники и знакомые Маши и в Москве, и в Петербурге, и в деревне. Любовь и благожелательность рифмовались во всех строках, и на первой странице она сама написала: «Любить – вся моя наука». Она просила друзей заполнять шелковистые листы и даже пристала к матери, чтобы и она написала. Елизавета Алексеевна долго отнекивалась – она не любила стихов и говаривала, что их тяжелее читать, нежели передвигать комоды, и записала прозой свою любовь и заботу:
«Милой Машеньке. Что пожелать тебе, мой друг? Здоровья – вот единственная вещь, которой недостает для счастья друзей твоих. Прощай и уверена будь в искренней любви. Елизавета Арсеньева».
В Москве дядя Дмитрий Алексеевич, понаблюдав племянницу, пожелал ей иного:
«Добродетельное сердце, просвещенный разум, благородные навыки, не убогое состояние составляют счастие сей жизни. Чего желать мне тебе, Машенька? Ты имеешь все. Умей владеть собой!»
Маша, перелистав страницы, нашла стихи, написанные ей накануне Юрием Петровичем. Она прежде всего расцеловала этот листок несколько раз. Заметив пожелание дяди, она беззаботно улыбнулась и вновь перечитала любезные ее сердцу строки. Ей захотелось ответить Юрию Петровичу, и она, вспоминая листок свой, лежавший на фортепьяно, стала рифмовать. Прикрыв глаза, прислушивалась она к голосам, поющим в ее душе, и записывала. Беспомощная нежность сквозила в строках. Она обращалась к любимому человеку, и ее сердце растворялось в блаженстве.
Когда приезжал Юрий Петрович, Марии Михайловне казалось, что он освещал вселенную своими лучистыми глазами. Склоняясь, он медленно целовал ее руку с браслетами, и от него веяло морозом, табаком, духами и вином. Они садились в гостиной за круглым столом с крупными витыми ножками, и Арсеньева тотчас же появлялась с предложением покушать.
В маленькой столовой Юрий Петрович занял место, на котором обычно сидел Михаил Васильевич. Арсеньева недружелюбно глядела на молодого человека. Не ее муж, а жених дочери сидел тут, и молодые, занятые своим разговором, редко обращались к Елизавете Алексеевне; она должна была довольствоваться ролью свидетеля их беседы, присутствуя за столом как лицо второстепенное.
Ах, ежели бы Михаил Васильевич был жив! Рано он ее оставил вдовой – в тридцать семь лет! Арсеньева с горечью думала, что теперь, когда молодые вступают в жизнь и завоевывают себе место в жизни, она, вдова, мать, теща, скоро старуха, станет со временем, может быть, даже и лишней между ними…
Ей было грустно и обидно, не хотелось уступать своей позиции: она желала по-прежнему первенствовать в семье. Она давала понять жениху и невесте, что они должны с ней считаться и как с женщиной, умудренной житейским опытом, и как с матерью невесты, и как с хозяйкой. Поэтому, решила Арсеньева, не она будет зависеть от молодых, а они от нее. Пусть лучше они ей будут кланяться, а не она им.
Пока она размышляла, остатки вкусной еды уносили со стола, и они опять втроем шли в зал, где Арсеньева усаживалась за рабочий столик и вышивала бисером диванную подушку: в рамке из роз стоящую на задних лапках собачку с чубуком.
Ее постоянное присутствие раздражало молодых, она вмешивалась в разговор и надоедала им. Юрий Петрович ласково беседовал с невестой, а вмешательство Арсеньевой принимал как неизбежное зло, чуя сдержанную недоброжелательность со стороны будущей тещи. Она же понимала свою неправоту, но все-таки не могла не вмешиваться, а Юрию Петровичу приходилось считаться со старинным обычаем, который запрещал оставлять жениха и невесту до свадьбы вдвоем, и Арсеньева бесцеремонно пользовалась своим правом.
Юрий Петрович настойчиво требовал назначения дня свадьбы, но Арсеньева не торопилась. Ей хотелось расстроить этот брак, и она подыскивала себе союзников, которые могли бы ей помочь. Где же их было искать? Конечно, прежде всего среди родственников. Но родственники покойного мужа были за жениха – в их доме Машенька познакомилась с Юрием Петровичем, и они одобряли этот союз. Арсеньевы находили, что состояние и связи Елизаветы Алексеевны обеспечат будущность молодым. Столыпины же полагали, что Машенька, принятая в большом свете в столицах, могла бы сделать лучшую партию: на балах она имела успех и могла составить счастье человека более родовитого и богатого, нежели Юрий Петрович.
Елизавета Алексеевна советовалась с братьями, которые проживали в соседних деревнях. Мать уже умерла, отца она видела редко. В своем имении жил ее брат Александр Алексеевич Столыпин. Она пожаловалась на дочь Александру Алексеевичу; он нашел брак племянницы с Юрием Петровичем не особенно желательным, но отказался вмешиваться в это дело, полагая, что запретить это супружество – дело матери, а не дяди. Жаловаться больше было некому. Другие братья жили далеко.
Почти безвыездно в своем имении проживал младший брат Арсеньевой, Афанасий. Ему было немногим более двадцати лет. Не желая связывать себя службой, он хозяйствовал успешно; Афанасий Алексеевич присматривал и за имениями братьев, когда они отсутствовали, и им это было удобно.
Очень решительный, грубый и жестокий, как и все члены семьи Столыпиных, Афанасий был наделен природой драгоценным качеством – он умел быть сдержанным и вкрадчивым, и эти свойства его характера сделали его любимцем семьи и многочисленных друзей. Зато недруги его называли «вечно готовым секундантом» и «иезуитом», потому что Афанасий Алексеевич уже в молодости умел из всего извлекать выгоду и, как он часто любил повторять, не позволял никому себе наступать на ногу. Он был еще не женат. Когда он осведомился о подробностях сватовства и узнал ближе Юрия Петровича, то тоже склонился к мысли, что иметь красивого мужа без состояния – приобретение неценное для Машеньки, одной из первых невест в губернии. Но он заметил, что племянница его увлечена и что уговаривать ее опасно – можно поссориться, поэтому на просьбы Арсеньевой принять участие в этом деле Афанасий Алексеевич ответил уклончиво. Чтобы не обижать сестру, он на всякий случай поговорил с племянницей, но, услыхав категорический ответ молодой девушки, пожал плечами и, усмехнувшись, сказал:
– Ну, как хочешь, дорогая! Как это сказано в писании? Родители, не раздражайте детей ваших. Раз в это дело замешался Амур, то я умолкаю и постараюсь еще крепче защитить свою грудь от его стрел.
Тем временем Юрий Петрович, его родные и вся семья Арсеньевых часто посещали Тарханы и настаивали назначить день свадьбы. Юрий Петрович предложил после венчания переехать с молодой женой в Кропотово, но Елизавета Алексеевна категорически запротестовала.
– Ну нет, голубчик! Прошу уважить меня, старуху. Я свою Машеньку на сторону не отдам – неужто вам не житье в Тарханах? Дом-то пустой! – доказывала она, разволновавшись. – Места не только вам, но и вашим деткам хватит. Еще прошу принять во внимание, что у Анны Васильевны шестеро детей, есть ей на кого радоваться, а у меня одна только дочь, и отпустить ее от себя я не в силах. После смерти мужа я так одинока, что Маша – единый свет моих очей.
Юрий Петрович согласился, что жизнь в Тарханах, в богатом доме Арсеньевой, будет приятнее Марии Михайловне, которая привыкла к довольству. В Кропотове денег не было. Семья Лермантовых жила стесненно, выгадывая гроши.
Елизавете Алексеевне пришлось сдаться и объявить венчание после пасхи, на красной горке, в Тарханах.
В девичьей не спали по ночам, заканчивая приданое. Дворовым роздали ситец, чтобы они принарядились на свадьбу барышни. В Москву отправили гонцов для разных закупок. Из города выписали оркестр. Многочисленных гостей приглашали заранее.
Свадьба была отпразднована с большой торжественностью, съехались все соседи. Из родственников присутствовали Арсеньевы и все пензенские Столыпины, которые приехали из своих поместий. Среди гостей находились сестры Юрия Петровича и мать его, Анна Васильевна.
Вся дворня была одета в новые платья. Из подвалов выкатили бочки вина, и все подходили выпить за здоровье молодых. Детям выносили на подносах пряники, орехи и леденцы.
Глава V
Юрий Петрович желает управлять имением. Ссоры тещи с зятем. Объявление войны 1812 года
Ах, эти молодые! Им все забава и баловство!
Всеведущая Липка, ключница, горничная и наперсница Арсеньевой, докладывала, что, по наблюдениям прислуги, Машенька и Юрий Петрович живут хорошо.
Комнаты их были в нижнем этаже, под спальной Елизаветы Алексеевны. Иногда снизу глухо доносились молодые, веселые голоса, смех и пение. Арсеньева крестилась, радуясь за дочь, но весь день тосковала в одиночестве, а приезды соседей не отвлекали ее от грустных дум. Она встречалась с молодоженами за трапезой и занимала их самыми интересными разговорами, но все беседы оканчивались тем, что они уходили в зал и садились за фортепьяно. Машенька играла, а Юрий Петрович ей подпевал.
Вскоре они сообщили, что уезжают гостить в Кропотово, и, набрав из Тархан всякого добра для подарков, уехали.
Арсеньева попросилась поехать с ними:
– Ты же можешь простудиться в дороге, мой ангел! Я должна присматривать за тобой, укрывать тебя.
Юрий Петрович, переглянувшись с Машенькой, успокаивал тещу:
– Вы не беспокойтесь, любезная матушка, я присмотрю и, ежели нужно, укутаю. Впрочем, зачем кутаться? Тепло! Май…
И Машенька не протестовала. С удовольствием села она рядом с мужем в открытый экипаж и очень недолго оборачивалась, хотя видела, что Арсеньева, стоя на крыльце, махала ей платком, вздыхая и отирая слезы.
Отнял у нее дочку зятюшка! Ах, отнял!.. И вспоминала она: совсем другое дело было, когда она сама выходила замуж, покидала родное гнездо, – там с родителями оставалось еще десятеро детей. Ее отъезд не создал в доме пустоты. А тут иначе. Она одна, совершенно одна… Мужа нет, а любимая дочка – единственная. Ах, ежели бы у нее было много детей, как жизнь была бы наполнена! Ну ладно, может, у Машеньки родятся дети – радовать ее на старости! Но когда это еще будет…
Самое ужасное, что умер Михаил Васильевич. Ежели бы он был сейчас с ней – такой ласковый и мягкий, – они бы старели вместе, он баловал бы ее по-прежнему…
Арсеньева чувствовала, что ранняя кончина мужа будет ей причинять страдания до конца дней. Может быть, еще раз выйти замуж? Ведь ей нет еще сорока…
Арсеньева, вздыхая, отправлялась бродить по дому, казня себя: как это она не усмотрела мужа! Долгие часы она сидела на той самой скамейке, где лежал мертвый Михаил Васильевич, рыдала, что молодость прошла, а между тем надо продолжать неудачно начатую жизнь, а не начинать ее заново в сорок лет.
Единственно, что ее отвлекало от мрачных мыслей, – это хозяйство. Она со страстью распоряжалась, входя во все мелочи.
Конечно, Абрам Филиппович Соколов человек надежный и грамотный, но надо за всем следить самой. Она ежедневно выходила из дому, осматривала амбары, сараи, скот и птицу, принимая запасы, наблюдая поля и распоряжаясь по устройству огородов и сада. Чтобы удержать свою власть, Арсеньева неутомимо вычисляла, подсчитывала и проверяла все расчеты, но тоска ее одолевала: она лишилась сна. По вечерам, когда вносили свечи в столовую, она старалась как можно дольше задерживаться с гостями, которых не отпускала от себя.
Но все в доме засыпали, и надо было ложиться спать. Арсеньева шла в спальную. Неизменная наперсница Олимпиада терпеливо и подобострастно провожала барыню до постели. Горничные девушки раздевали Елизавету Алексеевну, подавали ей умыться и останавливались, ожидая приказаний помещицы. Арсеньева ложилась в постель и просила:
– Расскажи-ка, Липка, сказку, авось засну…
Олимпиада, перекрестившись, начинала с удовольствием:
– В некотором царстве, в тридевятом государстве…
Слушая ее монотонный голос, Арсеньева начинала понемногу зевать и дремать.
Горничные девушки только и ожидали, когда она заснет, и тотчас же ложились, отдыхая от многотрудного дня. Но среди ночи Арсеньева просыпалась. «Почему молодые не едут? Вот уже неделя прошла, а их все нет». Нисколько не беспокоясь о зяте, который против ее воли вошел в дом, она скучала без дочери.
Наконец они приехали. И что же? Ласково поцеловав маменьку, дочь заспешила к мужу, и опять началось пение дуэтов и чтение разных книжек вслух.
Вскоре после возвращения из Кропотова Мария Михайловна сказала матери, что желает с ней побеседовать. Арсеньева насторожилась, поняв, что Машенька будет о чем-то просить. Когда Машенька вошла в кабинет Михаила Васильевича, куда давно не заходила, ее поразил портрет матери, висевший над бюро.
На темном фоне явственно выступало лицо Елизаветы Алексеевны в прозрачном кружевном чепце, собранном в оборки над завитками русых волос, спущенных по моде на лоб. Ясная, умная улыбка освещала гордое, спокойное лицо. Большие глаза с красноватыми веками доброжелательно смотрели прямо. Она застыла навек на портрете в этой задумчивой позе; кружевная оборка у шеи, поднявшаяся с легкого белого платья, не шевелилась, а красная шаль падала и не спадала с плеч.
Машенька, вглядываясь, сказала одобрительно:
– Недаром папенька так любил этот портрет! Очень хорош, а главное, схож.
Елизавета Алексеевна пошутила:
– Что значит практика в стихосложении! Стала даже говорить в рифму… Ну, сознайся, дружок, в каких пиитических затеях должна помогать тебе твоя практическая мать?
Машенька смущенно улыбнулась:
– На этот раз, маменька, дела как раз практические. Юрий меня огорчает: ему скучно в деревне. Он рвется в столицу и не знает, чем себя здесь занять.
Что делать? Юрий Петрович не мог любить так нежно, как Маша; прелесть взаимного чувства не поглотила его целиком, хотя он и говорил, что волшебная цепь скует его до гроба с женой.
Арсеньева вздохнула:
– Что за напасть? Только что женился и уже заскучал. А что будет через год? Я же говорила… Впрочем, чего он хочет, душа моя? Он у нас, как говорится, и сыт, и пьян, и нос в табаке.
– Он жаждет деятельности, маменька.
– Чего? Чего?
– Деятельности. Он говорит, что вам пора уже отдыхать, а он станет заниматься хозяйством.
– Хозяйством? – переспросила Арсеньева, оскорбленная тем, что ее в сорок лет желают отстранить от дел. – А что он смыслит в хозяйстве?
– А то, что мужчины лучше ведут дела…
«Боже мой, как она стала разговаривать с матерью! – взволнованно думала Арсеньева. – Этому он ее учит».
Сдерживаясь, она заметила:
– Неверно. Ежели, к примеру, взять лермантовское Кропотово, то у них голь и нищета, а у нас в Тарханах, слава богу, благодать, полные амбары, а хозяйничала-то до сих пор я! Конечно, к сорока годам стареть начинаю, но из ума еще не выжила.
Маша расстроилась. Почему мать не хочет уступить? Ей же станет легче. Юрий возьмет на себя все дела, а она сможет заниматься чтением, вышиванием, ездить в гости к соседям, принимать их…
Арсеньева мрачно молчала, потом надумала:
– Пусть он управляет твоим наследством от Михаила Васильевича. Выселим шестнадцать человек на новое место, пусть он и распоряжается!
Но Маша просила: пусть Юрий Петрович станет полноправным хозяином в доме, а не то что зятем при теще, мужем при жене.
Спор разгорелся. Арсеньева заметила, что слезы блеснули в глазах дочери, а щеки побледнели. Ей стало страшно, что Маша упадет в обморок.
Уступая, Арсеньева сказала:
– Не волнуйся, Машенька, и меня не волнуй. Я соглашаюсь на все, только не плачь и будь счастлива.
Маша тотчас же оживилась, расцеловала мать и заспешила к мужу.
Арсеньева опять не спала всю ночь.


Какая напасть! Вот уж напасть так напасть! Собственными руками она должна передать этому херувиму все свои дела. Да с какой стати! Сегодня он заберет ее дела, а завтра выгонит ее на улицу, как только станет полноправным хозяином. Михаил Васильевич ни во что не вмешивался, предоставлял все делать ей самой, а тут нате, все свои дела надо передать зятю!.. А она-то что, приживалкой в доме останется? Боже мой, какая беда!
Елизавета Алексеевна вскакивала с постели и металась. Неужели и шкатулку с деньгами отнимут, чтобы потом из его рук получать по рублику в черный день? Нет, нет, не отдаст она ему денег и не скажет, сколько у нее спрятано, чтобы не выманил! Впрочем, сдать, что ли, часть денег на хранение в городе?..
На следующий день Арсеньева встала, как говорится, с левой ноги: бранила сенных девушек и побила свою любимую комнатную собачку.
Утром она вызвала в кабинет зятя и позвала Абрама Филипповича Соколова. Она передала управляющему пачку с рапортами и велела ему ходить за всеми распоряжениями по имению к молодому барину. Соколов, растерянно посмотрев на помещицу, ничего не сказал, только поклонился направо и налево.
Арсеньева взглянула на зятя. Кудрявый, красивый, нарядный, пахнущий духами, он походил не на помещика, а на модного балетмейстера.
Когда он, забрав дела под мышку, вышел легкой, спокойной походкой в сопровождении Соколова, то Арсеньевой показалось, что у нее вынули сердце. Запершись в своей комнате, она долго безутешно рыдала, а когда пришла в себя, то велела заложить лошадей и уехала в Пензу.
Глава VI
Отъезд Юрия Петровича в ополчение
В начале июля стояла жара. Арсеньева выехала в Пензу и ворчала, что поехала в открытом экипаже: солнце палило.
Ехать приходилось полями – в Пензенской губернии мало лесов, но у ручьев, речек и в оврагах густая, сочная зелень, кустарники. На засеянных полях зеленели усики ржи, звенел на ветру овес, розовела греча; поднимались просо, конопля. Огороды полосатыми квадратами стелились вокруг деревень. В воздухе пахло свежестью летней зелени, чисто промытой дождями, и Арсеньева сначала порадовалась, что урожай в этом году будет хорош, потом вспомнила, что хозяйствовать ей более не придется, и затосковала.
Ей не хотелось заезжать по дороге к соседям, жаловаться. Оберегая свое горе, она останавливалась на постоялых дворах.
В Пензу Арсеньева приехала прямо к своей закадычной подруге Раевской.
При встрече стареющие приятельницы задушевно обнялись, и Арсеньева сразу же объявила Варюше, что приехала устроить здесь свои денежные дела, но, к изумлению своему, узнала новость, перед которой разом побледнели все личные заботы: открылись военные действия с французами. Неприятельские войска приближались к Неману.
25 июня 1812 года, без предварительного объявления войны, наполеоновская армия вступила в пределы России и стала продвигаться вперед.
Арсеньева в волнении повторяла:
– Боже мой! Война… Такое бедствие…
И, забыв свои личные невзгоды, она на следующее же утро выехала обратно в Тарханы. По дороге встречались партии рекрутов. Плачущие женщины с грудными ребятами на руках, с малышами, которые цеплялись за их подол, а кто и с подростками провожали отцов, братьев, сыновей…
Арсеньева застала дочь в слезах: Юрий Петрович желал идти воевать, доказывая Машеньке, что ежели все мужья останутся сидеть дома, лелея своих жен, то можно проиграть войну.
Машенька рыдала:
– А если тебя убьют?
Арсеньева молча слушала их разговор и слегка оживилась. В самом деле, может, его убьют, может, Машенька его забудет за время долгой разлуки? Вот будет хорошо! Елизавета Алексеевна сделает все, чтобы дочь забыла Юрия Петровича. Но пока что приходилось успокаивать Машеньку, которая смотрела на Юрия Петровича тоскующим, любящим взглядом.
Арсеньева вызвала на свою половину управителя Соколова и расспросила его, как хозяйничал барин. Тот рассказал, что Юрий Петрович требовал денег, а когда узнал, что денег нет, то продал все просо.
Арсеньева разругала Соколова за попустительство.
За ужином она спросила Юрия Петровича:
– Что же это ты, батюшка, все просо продал? Чем же мы будем кормить дворовых? Гречихой или мясом? Может, и рожь еще продавать вздумаешь, а их лакомить пшеничными пирогами?
Замечание это уязвило Юрия Петровича. Он понял, какой промах им сделан, и смутился.
– Деньги оставил?
– Нет.
– Так, так… А что же мы сами теперь будем есть? Зачем тебе деньги понадобились? – допрашивала Арсеньева. – Чего тебе не хватает?
– Маменьке послал, – благочестиво, но смущенно ответил Юрий Петрович.
Он сердился на тещу за допрос. Но как же иначе? Ему надоело получать из ее рук по мелочам на табак. Ему не нравится жить, как мальчику в кадетском корпусе, на всем готовом, а только по большим праздникам – подарки, новая одежда или мелочи.
До сих пор он ничем не мог помогать своей матушке, а теперь, когда отдал ей деньги, это сразу же стало всем известно и подвергалось всестороннему обсуждению.
Мария Михайловна с негодованием посмотрела на мать. В дни, когда отечество в опасности, когда муж ее может в скором времени уйти из дому, она вздумала начать разговоры о каком-то просе!
После этого разговора Юрий Петрович предложил жене:
– Знаешь, Маша, поедем-ка лучше в Кропотово. Скажи маменьке, что после войны мы устроимся как взрослые, без гувернанток, и будем жить отдельно от нее.
Мария Михайловна соглашалась на все, только бы муж оставался дома. При мысли о разлуке с ним ее бросало то в жар, то в холод.
Волнение это не обошлось ей даром: она вскоре слегла, и медик заподозрил горячку. В бреду ее посещали страшные видения. Несколько дней она боролась со смертью.
Юрий Петрович не смел уехать от больной жены – Елизавета Алексеевна заклинала его пощадить ее дочь, и он поддался уговорам.
Но вот Афанасий Алексеевич приехал проститься: он шел на войну.
Машеньке долго боялись сообщить эту новость, но ежедневно она слышала о том, что все мужчины, кроме слабых и стариков, берутся за оружие.
Афанасий Алексеевич, огромный, мужественный, возбужденный, крепко обнял Машеньку на прощание, а она его благословила образком, проливая слезы.
– Не реви, Машка! Шапками французов закидаем. Голыми руками им горло давить буду! – И Афанасий Алексеевич выставил ширококостные, мощные руки; ими можно было задушить не только человека, но и медведя.
Наблюдая их прощание, Юрий Петрович ревниво сказал:
– А я и не знал, что ты так любишь своего дядюшку!
Мария Михайловна пылко защищалась:
– Но это же наш лучший друг!
После отъезда Афанасия Алексеевича молодые продолжали жить в деревне.
Тем временем военные действия разворачивались. Падение Смоленска прошло страшной вестью по стране. Но осенью пришла весть еще более ошеломляющая: французы в Москве!
Тогда Юрий Петрович объявил о своем непреклонном решении бить неприятеля и вскоре записался в ополчение.
Его поехали провожать в Кропотово. Простившись с мужем, Мария Михайловна вновь слегла. Слезы струились из ее глаз неиссякаемыми ручьями. Ночью она не спала и рыдала! Несколько дней Арсеньева не могла уговорить дочь уехать домой, в Тарханы, – Машенька бродила по маленькому кропотовскому дому, в каждой комнате вспоминая любимого мужа.
Ее утешали беседы с Анной Васильевной Лермантовой и с сестрами Юрия Петровича. Маша сочувствовала их повседневным заботам, умилялась рассказам о детстве Юрия. Анна Васильевна подарила невестке крошечную рубашечку, годную, пожалуй, на куклу, – оказывается, ее надевали на Юрия Петровича в первые дни его жизни. Мария Михайловна желала знать мельчайшие подробности о нем, привычки его и вкусы. Все Лермантовы, чувствуя интерес и любовь Машеньки к Юрию Петровичу, охотно и благожелательно беседовали с ней часами. Но Арсеньева скучала и раздражалась, слушая разговоры, в которых непрестанно восхвалялся Юрий Петрович. Чтобы не огорчить Машеньку, она задержалась в Кропотове, но не могла долго выносить жалоб на то, что имение приносит мало дохода, и решила поскорей уехать.
Щедро одарив новую родню, Арсеньева заявила дочери, что, ежели они тотчас же не уедут, пропадет вексель на несколько тысяч, который хранился в Тарханах.
После уверений и обещаний всей семьи Лермантовых, что они будут часто навещать Марию Михайловну, мать и дочь уехали.
Шли дни, а Маша не знала, чем себя занять в Тарханах. Приезды соседей и родственников ей докучали. После утреннего завтрака, вспоминая, что предстоит долгий, бездельный, томительный день, она шла в зал и, подойдя к окну, слушала, как под окнами воет метель. Снег залег глубиной в сажень, лошади проваливались в сугробы. Зима ударила в ноябре.
В доме-то хорошо: над окнами прозрачные складки свежевымытых занавесей, в простенках – портреты дедовских времен в померкших рамах. Какая тишина, какое одиночество в просторном, сияющем светом зале! Иногда слышался шорох – скреблись мыши, которые в изобилии водились в тархановском доме, или попугай, устав грызть подсолнухи, хлопал жесткими крыльями и ворчал:
– Кто пришел? Кто пришел?
Услышав этот голос, Машенька вздрагивала. Она вспоминала этот зал, сияющий огнями, и как отец лежал с кровавой пеной на губах, изменившийся, страшный. Если бы он был жив теперь, то он мог бы утешить свою дочку, ободрить ее простыми, ласковыми словами, – он так любил свою девочку! Она привыкла с детства шептаться с ним, они с полуслова понимали друг друга, стараясь, чтобы их не услыхала мать.
Если после воспоминаний об отце опять ей слышался шорох, Маша, не выдерживая напряжения, убегала вниз. Казалось, что шевелятся портьеры и там прячется тень, его тень. Но стоило ей подойти к фортепьяно, воспоминания переставали ее мучить: она увлекалась музыкой и целые часы играла и пела. Ей все больше и больше нравилось импровизировать. В альбоме она записала песню собственного сочинения:
О, злодей, злодей – чужая сторона,
Разлучила с другом милым ты меня,
Разлучила с сердцем радость и покой,
Помрачила ясный взор моих очей,
Как туманы в осень солнышко мрачат…
Потом она шла в свою комнату, писала и читала, пока Елизавета Алексеевна, отделавшись от хозяйственных дел, не являлась к ней.
Арсеньева, бодрая и оживленная, однажды сообщила ей новость:
– Ну, Маша, пляши! Уходят французишки из Москвы. У нас в деревне уже поют:
Наш Кутузов
Выгнал французов!
Маша стала понемногу оживать. Арсеньева подбадривала ее рассказами о том, что в деревне остались только бабы с ребятишками да старики.
Из Москвы приехали родственники Мещериновы; они рассказывали о пережитом. Французы без крова, без пристанища, не обеспеченные провиантом, голодали и мерзли, обогреваясь около уличных костров, и проклинали Наполеона. Они мечтали о заключении мира с русскими и о возвращении на родину.








