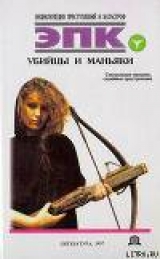
Текст книги "Убийцы и маньяки"
Автор книги: Татьяна Ревяко
Соавторы: Николай Трус
Жанр:
Энциклопедии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
– Пропала пенсионерка Козлова, – сообщил в милицию по телефону аноним. – Считаю, что к ее исчезновению причастен сын – Николай Шило.
Вскоре после звонка оперативная группа прибыла по указанному адресу, на улицу Либкнехта. Здесь, в центре Кричева, невдалеке от серой громады дома Советов, ютится жалкая развалюха с проломанным фасадом и мутными от грязи окнами. Поскольку ее обитатель заперся изнутри, пришлось взломать дверь. Увиденное в полутемной комнате шокировало. На обильно залитом кровью диване лежал труп. О том, что это женщина, можно было Догадаться лишь по одежде. От головы потерпевшей осталась только нижняя челюсть, вокруг которой, свисали лоскутья кожи и мышц.
Забившийся в угол на нетопленной печи убийца настолько закоченел от холода, что не мог даже шевелить губами. От него долго ничего не могли добиться. Николай нацарапал на листке бумаги «Объяснение», которое следователей, отнюдь не слабонервных, повергло в шок
"Я, Шило Николай Афанасьевич, 1973 года рождения, безработный, в конце декабря, число не помню, убил свою мать. Я был голоден. Сначала напал на нее с лопатой, затем стал бить чугунком. Разрубил ей голову, достал оттуда мозги. Мозги и глаза съел сырыми. Рубашка на мне была вся в крови. Я спалил ее в печи. Туда же бросил и кости, затем забрался на печь и сидел, пока не приехали работники милиции".
Увы, действия Николая Шило в течение полутора недель, на протяжении которых останки растерзанной матери находились в его доме – именно такой срок с момента ее смерти констатировал судмедэксперт, – сидением на печи не ограничились. Из последующих однообразно-отрывочных показаний каннибала ("Было холодно… Хотелось кушать… Я сидел на печи…") сейчас практически невозможно установить, чем он конкретно занимался, оставшись наедине с трупом, в первые дни после кошмарного убийства. Однако доподлинно известно, что на пятые сутки жуткий затворник вышел из страшной хибары и направился к живущему через дорогу соседу – одинокому пенсионеру И.В.Гавриленко. Движимый животным, инстинктом Шило, похоже, даже не заметил присутствия у Иосифа Васильевича еще одного соседа – помоложе и покрепче. В свой хищный прыжок, а затем в удар Николай вложил всю холодную ярость. Хруст зубного протеза под кулаком не возвратил ему разум. Безумец набросился на Гавриленко, как дикий зверь. Страшно подумать, что могло произойти, если бы сильные руки не оторвали Шило от потенциальной жертвы.
– Гавриленко стал звонить в милицию, а я выволок Николая на улицу и пытался расспросить, что с ним случилось, – расскажет потом следствию Виктор Секушенко.
– Николай лишь злобно, нечленораздельно мычал и вырывался. Подошедшая почтальонша попросила отпустить «беднягу». Тут же этот невменяемый ударил ее в лицо. Пришлось снова скрутить. Милиция все не ехала, а у меня не было времени ждать. Решил отвести Шило домой. Он сразу заперся, а я ушел.
Тишина оказалась недолгой. На следующее утро лейтенанту В.Г.Морозову вновь пришлось появиться на улице Либкнехта: «консилиум» потерпевших настаивал срочно отправить Шило на принудительное лечение. Участковый исправно запротоколировал показания и… "направил их психиатру районной больницы для принятия мер медицинского характера к Шило, а при необходимости, изоляции последнего". На этом, невзирая на мольбы запуганных либкнехтовцев, инспектор счел свою миссию выполненной. Спустя несколько часов в ГРОВД опять полетели сигналы: "Шило гоняется за людьми!", "Помогите, Шило что-то затеял!.."
Последней позвонила насмерть перепуганная женщина – Тамара Карецкая. В наброшенной на голое тело куртке, из-под капюшона которой сверкали налитые кровью глаза, "ловец человеков" битый час мерз за сараем Тамары Васильевны, как теперь уже стало ясно, с вполне определенной целью. Выловить новую жертву ему помешали оперативники.
Сначала Шило завезли в больницу. Нет, не для обследования или хотя бы явно необходимой консультации у психиатра, а для… банальной проверки на предмет обморожения. Оттуда доставили в райотдел. Нет, не для допроса, а чтобы… обогреть.
– Шило посидел у батареи в дежурной части, – давал впоследствии показания оперативный дежурный МДКравцов, – вел себя спокойно. Потом я отпустил его домой, так как против него ничего не было.
Судебная психология, которая в полицейских академиях зарубежных стран приравнена по значимости к криминалистике, у нас в полном загоне. Иначе, чем объяснить, что кричевские сотрудники, по роду своей службы обязанные разбираться в людях, не рассмотрели у задержанного ярко выраженную «невменяемость», чреватую непредсказуемыми последствиями?..
…Свидетельские показания о последних сутках людоеда на воле изобилуют атрибутикой фильмов ужасов вроде оголтелого метания по улице, черного дыма из трубы и невероятных по дикости угроз. Чудо или случайность, что в этот день ему не попался на пути беззащитный ребенок или старик? Скорее всего следует благодарить Бога, а также «воспитанную» годами осторожность жителей улицы Либкнехта. Они «привыкли» опасаться "террориста Шило" еще до того, как он преступил грань, за которой кончается человек и начинается… Здесь напрашивается слово «нелюдь». Но, изучение материалов, позволяющих заглянуть в прошлое каннибала, делает затруднительным применение этого определения. Можно ли назвать так человека, который, согласно заключению психиатрической экспертизы "страдает хроническим психическим заболеванием в форме бредовой шизофрении" и "в период инкриминируемых ему деяний не мог отдавать отчет в своих действиях"?
Возможно, звучит страшно, но Шило-людоеда формировала среда, в которой ему пришлось жить. Ретроспективно это выглядит так безотцовщина, пьяница-мать, превратившаяся на старости лет в бродягу. Побои, грязь, вонь, въевшаяся даже в корни волос и отторгавшая всех, с кем ему приходилось общаться. В школе, ПТУ, на улице Шило был для окружающих презренным «вонючкой». Не удивительно, что даже при нормальной наследственности, он уже в детстве состоял на психиатрическом диспансерном учете с диагнозом "патохарактерологические реакции". Это была бы еще не болезнь, а так называемое "пограничное состояние", не помешавшее закончить школу, училище, где Николай освоил две строительные специальности, учился на водителя.
В недалеком прошлом такой "запас профессий" обеспечивал бы человеку, его имевшему, доходную работу, а с ней возможность почувствовать себя полноценным членом общества. В «новые» времена для закомплексованного, не имеющего стажа юнца все двери оказались закрытыми.
– Куда бы ни обращался, на работу меня не брали, – горько сетует Николай. – Жил лишь сбором бутылок, да и на часть мизерной материнской пенсии. Мать тоже нигде не могла устроиться, ходила по свалкам, собирала объедки. Соседи насмехались над ней, оскорбляли. Чтобы защитить мать, я постоянно писал на них жалобы в милицию, горисполком, а то и просто "ставил на место" кулаком. Постепенно из-за отсутствия средств на ремонт, дом превратился в сарай. Потом стало еще хуже: одежда износилась, не было еды. Мы голодали… Я не мог видеть, как мать деградирует у меня на глазах, выгнал ее. Она поселилась у родственницы, но вела прежний образ жизни. Под влиянием этого позора у меня начали появляться мысли убить мать, чтобы не мучилась.
Вывихнутая логика "убийства из жалости" напомнила мне услышанный в деревне Бель того же Кричевского района рассказ Марфы Павловны Козенковой. В годы войны ей с четырьмя детьми выпала горькая доля беженцев. На всем пути чужие, незнакомые люди делились с толпами несчастных последней коркой хлеба. Когда зимой не было и этого, странникам приходилось кормиться древесной корой. Дети не выдерживали – многие умирали. У одной спутницы Марфы Павловны из шести малолеток осталось лишь двое. Причем и эти были уже на грани смерти. Тогда обезумевшая от горя мать убила старшего сына и его кровью, затем мясом подкармливала еще ничего не понимавшего младшенького. Естественно, скрыть это от спутниц не удалось. Однако никто не выразил своего возмущения. В такой отчаянной ситуации оно привело бы еще к худшему – женщина могла наложить руки на себя и последнего малыша. Все делали вид, будто ничего не произошло, и чем только могли помогали сыноубийце. Это спасло ее от окончательного помешательства и позволило окрепнуть ребенку, выживание которого далось такой страшной ценой.
Трудно однозначно оценить поступок этой матери, но помогавшие ей женщины достойны уважения уже за то, что поняли: больную душу можно вылечить только душой.
Рядом с Николаем Шило такой «души» не оказалось. Он был изгоем. Жил одиноко, как волк, отличался исключительной замкнутостью. Никто не помнит, чтобы к нему заходил кто-либо. И сам «чудик», по словам соседей, "почти не покидал дом, в котором день и ночь горел свет".
Как же проводил время странный отшельник? Устроившись под единственной подслеповатой лампочкой, Николай штудировал… труды классиков марксизма-ленинизма. Выбор темы диктовал постоянный сосуще-опустошающий голод. Он и сформировал жизненную философию Шило, которая сводилась к формуле: "Кто-то должен кого-то сожрать, чтобы не сдохнуть самому". Не в этом ли "сожрать, чтобы не сдохнуть" корни трагедии? Когда они внедрились в душу, потенциального каннибала? На излете благословенного времени, позволявшего ежедневно иметь на столе хлеб с ливеркой, или после того, как из-за отсутствия еды приходилось до боли в деснах жевать сваренный ремень?
Сам Шило ответ на этот вопрос дать не может, поскольку утратил ориентацию во времени. Соседей, похоже, он мало волнует. Для них вообще было откровением узнать о философских упражнениях Николая: Зато все, включая участкового Виктора Морозова, давно знали об издевательствах Шило над матерью. Некоторые показания свидетелей очень напоминают отчет судебного медика с обстоятельным изложением способа нанесения побоев и расположения ран на теле «заглянувшей» к сыну старушки. Поразительна и общая осведомленность о причинах многодневных «задержек» Антонины Архиповны в сыновьем доме. Впрочем, женщина и сама не делала из этого секрета. Читая показания о ней, словно слышишь ее слабый надтреснутый голос:
– Зябко, конечно, в морозы сутками на голой земле в подполе жить, но я не в обиде – Колька из жалости меня туда бросает. И бьет из жалости – не хочет, чтобы позорилась и его позорила копанием на свалке. Только ведь из магазина еду никто не принесет, а пенсии – кот наплакал. Вот и лазишь по мусоркам… А что делать?! Есть-то хочется…
Что делать?.. Ни пенсии по инвалидности, ни иной другой гарантированной помощи психически больной Николай Шило никогда не получал. Более того, районный психиатр вовсе снял его с учета в связи с… улучшением состояния. Как у человека, которому аж 13 лет диагностировали патохарактерологическое развитие личности, при все более обостряющихся социально-бытовых и моральных проблемах вдруг наступило «улучшение», загадка. Впрочем, соображение на сей счет есть.
Накануне развала Союза страну захлестнул девятый вал «разоблачений» под девизом "Советская психиатрия – инструмент политического произвола в отношении инакомыслящих". Как это бывает в периоды "духовного прозрения и очищения", понадобился эффективный гуманный жест. И он был сделан. Назвали его "Широкомасштабный эксперимент по изменению порядка учета и диспансерного наблюдения психически больных". Но, красивое название не стало гарантией «красивых» действий. Психиатры на местах стали основательно «подчищать» контингент своих подопечных. Вершиной «гуманности» в данном случае стало то, что все снятые с учета больные получают психиатрическую помощь только при добровольном обращении к врачам. Трудно представить спешащим к психиатру человека, который живет в совершенно ином, чем другие люди, измерении, по своим, продиктованным больным разумом законам? Хорошо еще, если больной, как Шило, сутками сидит взаперти, и для знающих его людей это служит сигналом приближающейся опасности. А если он, как шизофреник Володя П-ко из Полоцкого района, накануне обострения заболевания вояжирует по республике в… поисках невесты? Скажи увидевшим его впервые родителям Люси М-к из Жабинковского района, что "очаровательный молодой человек" вскоре совершит такое, от чего даже у паталогоанатомов волосы встанут дыбом, – сочли бы за оскорбление.
Уж больно по сердцу пришлась старикам и самой наречённой серьезность намерений прибывшего по объявлению жениха. Сговорились о сватовстве, прикинули день свадьбы… Все было прекрасно, пока Володя не "обнаружил страшную угрозу своему счастью". Опасность предстала в образе хозяйки полевого хутора. Носить красную юбку в сочетании с черной фуфайкой и таким же платком, по разумению психически больного Володи, могла только ведьма. Дилемма – подписать приговор старухе или своим надеждам – была решена мгновенно. Банальный удар топором или утопление в колодце не подходили – "чересчур мощная черная аура жрицы сатаны продолжала бы свое гнусное воздействие на добрых людей". Нужно было разрушить ее. Творчески проштудированные труды по демонологии, практической магии и восточным религиям подсказали, как это сделать.
Распотрошив дряхлое тело от горла до низа живота, "гонитель сатаны" крестом разложил по белым тарелкам на столе "основные хранилища черной силы" – сердце, почки, печень, половые органы. Все это проткнул изогнутыми в форме лотоса вилками. Закончил чудовищную «сервировку» водружением иконы.
Есть основания полагать, что этим "торжество победителя" не ограничилось. В высказываниях Владимира помянута традиция средневековых самураев съедать для укрепления мужества печень поверженного врага. В отличие от остальных, оставленных цельными органов, на тарелке была лишь часть печени…
Сытые крысы не нападают на людей, но беда, когда у них нет привычной еды – инстинкт бросает их на все живое. Можно возразить:,это ж только крыс… Но разве остается что-то человеческое у тех, кого голод загнал на помойку? И вовсе не обязательно наличие прогрессирующей болезни, как это было у Шило и Владимира П-ко, чтобы начать жрать ближнего. Метастазы каннибализма легко переходят и на психически здоровых – здесь смело можно сказать – нелюдей.
(«Детективная газета», – 1995, N8)
ПЛОВ ИЗ МУЖА
На тридцатилетний юбилей Теймураз пригласил всю многочисленную семью, не зная, что на закуску будет подан он сам.
Москва. Казанский вокзал. Отсюда минчанам, предстояло удивительное путешествие на Восток – страну неописуемых красот и легенд. Соседями по купе оказались молоденькая русская девчушка и женщина-узбечка с небольшим багажом.
В дороге знакомятся быстро. Пили зеленый чай – угощала и расхваливала питье узбечка, работающая контролером в женской исправительно-трудовой колонии под Ташкентом, рассказывала разные житейские истории.
– Гульнару осудили на 15 лет, и она мужественно и молчаливо переносила все тяготы тюремной жизни. Кроткая, добрая, чуткая – представить было даже трудно, что эта маленькая женщина совершила преступление, от которого содрогнулась вся приташкентская округа. Кстати, вы, говорите, из Минска? Так она – ваша землячка! Точно помню: дразнили ее «бульбашкой». Попала в наши края совсем молоденькой девчонкой, привез ее узбекский парень, служивший срочную в Белоруссии.
Женой-красавицей Теймураз гордился. Родственники тоже приняли чужестранку. Пособили сообща дом отстроить. Вскоре ребеночек появился. И вся улица пришла поглазеть: белый или смуглый?
Мальчишка уже крепко на ногах держался. Мать души в нем не чаяла. Теймураз же относился к сыну прохладно.
– Не похож он на меня. Не мой! Нагуляла, сучка!
Первая вспышка хоть и была словесной, но ранила сердце Гульнары, как окрестили на здешний манер славянку Галю.
– Да о чем ты, Теймураз? Присмотрись к сыну – глаза твои, чуть-чуть раскосые.
– Я и тебе раскосые сделаю.
Обещание молодой муж тут же исполнил. Избил Гульнару хладнокровно и жестоко. Из дома выходить строго-настрого запретил:
– Увидят соседи или пожалуешься кому – убью! И тебя, и твоего выродка.
Гульнара стерпела. Лишь как-то пожаловалась на тяжкую долю свекрови:
– Шибко бьет он меня. А я ведь второго ребеночка ношу под сердцем.
– Побьет да перестанет. Это – Восток, ты лаской да любовью должна смягчить сердце мужа. По твоей вине оно стало жестоким! Я вырастила сына добрым и нежным.
– Жаловаться бегала! – Теймураз влетел в комнату бешеным зверем. – Плохо тебе живется? Сейчас станет лучше!
Гульнара не чувствовала ударов. Не кричала, не стонала. Только слезы текли по ее разбитому в кровь лицу.
Больше недели Гульнара не могла твердо стать на ноги. Оклемалась. Не так сильно болела уже и выбитая челюсть. Только живот беспокоил – тянуло что-то, резало, кололо. "Это мучается от боли мой ребеночек". Гульнара переживала – и не напрасно – за благополучие человечка, который должен был появиться на свет. Должен был и не появился. Разбитый плод начал загнивать в утробе матери, и врачи чудом спасли саму Гульнару.
Теймураз приутих. Через какое-то время Гульнара почувствовала, что внутри ее вновь подает признаки жизни новое существо.
– Я беременна, Теймураз. И ты, пожалуйста, не бей меня, чтобы не повторилось прошлое.
– Ладно, не буду. Ты мне еще девять сыновей родишь.
– И доченьку, – прижалась к мужу Гульнара.
Девяти богатырям не суждено было появиться на свет. Появилась доченька. Не на воле, не в родительском доме – в тюрьме. К тому времени Гульнара была уже осуждена за убийство.
…Гульнара только-только пришла с базара, закупила фруктов и овощей. Она намеревалась отметить первую «круглую» дату сынишке – пятилетие.
– Что? День рождения? – Теймураз аж побелел от злобы. – В честь белобрысого звереныша устраивать пиршество? Да никогда! Только через мой труп!
Теймураз неистовствовал. Гуля поняла: будет бить. От греха подальше заперлась в комнате. Она не видела, что в этот момент открыл дверь сынишка. Не видела как в ярости Теймураз толкнул его с чудовищной силой. Мальчик отлетел и ударился о стенку, не успев издать не единого звука. По комнате только прокатился глухой удар. От него встрепенулась Гульнара, но не появилась из своего укрытия. Вышла лишь тогда, когда Теймураз замаячил по двору, завел «Жигули» и уехал.
Сынишка неуклюже застыл на полу. Гульнара подумала, что набегался за день, устал и уснул. Наклонилась, чтобы взять на руки и отнести на кровать, и окаменела: из приоткрытого рта мальчика текла кровь. Тело было бездыханное.
– Никому ни слова! – за спиной послышался ненавистный голос. – Врачам скажешь, что упал с лестницы, ушибся головой. Поняла? Нет, ты лучше молчи, с врачами говорить буду я.
Мальчика похоронили. Гульнара стала собирать вещи.
– Ты куда это?
– Домой. Так жить я больше не могу.
– Никуда не уедешь! Опозорить меня хочешь?
Несколько дней Теймураз не выпускал Гульнару из дома, держал взаперти.
– Успокоилась? Вот и хорошо. А теперь сходи на базар, закупи продуктов. Мне тридцать лет исполняется. Или забыла?
Теймураз уехал созывать родню и друзей. Гульнара ушла на базар. Она уже знала, как отпраздновать юбилей отца и убийцы двух ее детей.
Вечером сели пить чай. Вдвоем.
– Человек пятьдесят будет. Мать поможет приготовить плов.
– Не надо. Я все сделаю сама. У меня все приготовлено. Теймураза после чая разморило, он начал зевать.
– Иди приляг, – Гульнара обняла мужа, провожая в спальню. Теймураз увлек ее за собой.
– Подожди. Позже. Я еще на кухне похозяйничаю.
Теймураз еще раз сладко зевнул, веки его слипались. Гульнара обрадовалась: значит, снотворное подействовало.
В спальню она заглянула через час – полтора. Муж похрапывал. Потрогала – спит крепко. Дрожащими руками размотала веревку, одним концом продела под шею. Завязала. Скрутила руки и ноги.
Муж спал почти до утра. Гульнара же не сомкнула глаз. У ног ее лежали охотничий нож-кинжал и топор. Ждала, когда кончится действие снотворного. Хотела, чтобы муж знал, за что умирает. Хотела излить все, что скопилось на душе. Временами только одолевал страх: вдруг, когда начнет убивать, не выдержат веревки и он вырвется? За себя Гульнара не боялась. Опасалась, что не сбудется месть.
Пробудившись от сна, Теймураз не понял, что с ним. Руки, ноги затекли. В голове шумело. Он снова закрыл глаза, надеясь, что это – сон.
– Открывай глаза и уши, муженек, – отрешенно проговорила Гульнара. – Сейчас ты умрешь. Лютой смертью. И пусть меня простит Бог или Аллах.
Гульнара занесла кинжал над Теймуразом. Тот в страхе закрыл глаза.
– Нет, смотри, смотри, как из тебя будет вытекать поганая кровь. Ведь тебе же не было страшно, когда кровь текла из меня, из убитого тобой сыночка.
Острие кинжала вонзилось в живот. Теймураз вскрикнул.
– Больно?! И нам было больно. Ты учил терпеть, никому не жаловаться. Вот и терпи, а пожаловаться тебе некому.
Она била ножом в живот, грудь, руки. Комнату заполнили нечеловеческие крики. Гульнара била и била. Знала, что соседи, если даже и услышат, все равно не придут – здесь такие законы.
Теймураз уже не кричал. Обрезав набрякшие кровью веревки, Гульнара начала расчленять тело. Те части, что не поддавались кинжалу, рубила топором…
Кто-то вдруг постучал в дверь. На крыльце стояла свекровь.
– Сын просил помочь приготовить плов, – вместо приветствия прошипела мать чудовища, с которым судьба свела белорусскую девчонку.
– Не надо. Сама справлюсь. Приходите вечером. Все будет готово.
Свекровь открыла рот, чтобы возразить. Перед самым носом хлопнула дверь, щелкнул засов.
К назначенному времени стали собираться гости. Включили музыку. Свекровь придирчиво оценивала то, что приготовила невестка. По привычке шипела под нос, высказывала замечания, добавляла специи, но в целом осталась довольнаневестка освоила восточную кухню.
– А где Теймураз? – спросил его старший брат. – Гости уже все собрались. Нехорошо заставлять ждать.
– А он и просил, чтобы не ждали, без него за стол садились, – как можно спокойнее ответила невестка.
– Ты что сумасшедшая? Или он умом поехал?
– Умом он не поехал, предупредил просто, что таков сюрприз: он будет в разгар пиршества.
Брат Теймураза недовольно сверкнул глазами. Отец, явно сдерживая разрывающие его эмоции, дал команду:
Гости дорогие! Всех просим к столу. Чем богаты, тем и рады. У именинника важные дела, он немножко задерживается.
Произнесли первый тост, второй, третий…
Хмельные гости нахваливали плов, а затем затребовали: давай именинника!
– Гульнара! Где ты прячешь благоверного?
– Он, наверное, в спальне закрылся.
Шутку острослова встретили одобрительным смехом. И в этот момент на пороге зала появилась Гульнара. Родственники и гости смолкли, будто языки проглотили, изумленно тараща глаза на поднос, который держала перед собой Гульнара.
– Вот ваш любимый сын и друг. Встречайте.
Кто-то вскрикнул, кого-то стошнило. Зазвенела падающая посуда. Женщины завизжали. Мать Теймураза рухнула на пол. Замертво. Разрыв сердца.
На подносе лежала… голова Теймураза. Волосы гладко и аккуратно зачесаны.
– Съели вы своего именинника. Это все, что осталось, – Гульнара поставила поднос с головой мужа на праздничный стол, у места, оставленного специально для опаздывающего виновника торжества.
– Убью! – мертвую тишину расколол крик отца Теймураза, бросившегося на невестку. Кто-то перехватил его руку с вилкой, занесенную над головой Гульнары-Гали.
– Опомнись! Остынь!
Гульнара рухнула, потеряв сознание, на. пол…
– Возможно, – заключила свой жуткий рассказ попутчица из поезда Москва – Ташкент, – это и спасло ей жизнь. На суде она ничего не скрывала, чистосердечно созналась в содеянном. Вместе с мучителем-мужем, вернее, его останками, хоронили и мать. Отец тронулся умом.
(«Частный детектив», 1995, N 21)






