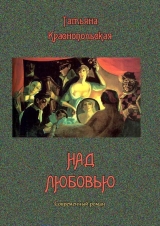
Текст книги "Над любовью (Современный роман)"
Автор книги: Татьяна Краснопольская (Шенфельд)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Двести лир
– Но когда же, когда пойдем пить чай ко мне? Почему в последние дни вы избегаете встреч и уклоняетесь от дружеской беседы?
Я вижу недоверие. Мое терпение разве не залог моей преданности? Я довольствуюсь нашими кратковременными прогулками и отрывками разговоров, – словом, тем, что вы даете мне урывками. Как я скучаю без вас, если бы вы знали! Неужели вы не доверяете мне?
Господин Гириадис, без определенного отражения своей национальности во внешности, отлично одетый, средних лет, говорил чересчур горячо и убедительно для улицы, близко наклонившись и усаживая даму в автомобиль.
Молодая женщина в простом, почти скромном костюме, со стройной талией, грустно улыбнулась под вуалью и шутливо ответила:
– Вы думаете, что я не верю вам, а может быть, я себя боюсь?
И, позже, уже объезжая стены Старого Сераля, оживленно заговорила, пристально всматриваясь прозрачными глазами в господина Гириадиса:
– Вы часто повторяете мне: «Если бы не искренний порыв к вам, какой же смысл, какая цель была бы искать вашего общества» и тому подобные вещи. Я отвечу правдой. Иногда я не доверяю вам, иногда себе. Порой мне кажется, что надоевшее однообразие существования и усталость заставляют меня принимать ваше тепло. Я в нерешительности тогда. Я думаю часто также, сможете ли вы заменить большое чувство того человека, которого я оставлю, которого я не люблю больше, но который поддерживает меня силой своего духа. Я слишком разбита, чтобы перенести разочарование. Мне надо много, чтобы забыться. Постарайтесь понять меня, как следует. Помните также, что мы и вы – иностранцы – из разной глины.
Господин Гириадис смотрел будто мимо пылающих губ и блестящих глаз и вместо ответа, продолжая свою упорную мысль, заметил:
– Вы очаровательны. Как бы мы могли быть счастливы. Через две недели я уеду на Ривьеру; решайте завтра все.
Синеватая прозрачность опустившейся ночи напоминала день. Металлические полумесяцы загадочно изогнулись над минаретами, заглядывая на звезды, зажженные в неугасающем небе. На другом берегу Босфора темно-зеленые верхушки кипарисов простирали к небу мольбы усопших правоверных. Мрачные, вечные хранители тюрбе застыли над завещанными им каменными плитами. Ниже, иссиня-белый дворец купал свой мрамор, опускаясь в дремлющие воды. Изощренные орнаменты на крыше принимали живые формы, точно воплощали сладострастие, разлитое в воздухе этой ночи; казалось, что живет каждый изгиб, каждый фонтан, но что по невидимому зову все это погрузится в воду и развеется, как мираж.
Автомобиль очутился на другом повороте, как бы столкнувшись с изумительным по своей утонченной простоте фонтаном. Надписи и изречения Корана на зеленых и блекло-бирюзовых плитах, почти кабалистические, волновали, как чудесная музыка поэмы. Величавая мечеть говорила на непонятном языке о небывалом, и пели шесть ее минаретов, обвитые одним и тем же символом, сплетенные в один венок воображением. Что-то торжественное и далекое повседневной жизни носилось в небе. Внутренняя гармония удерживала тех, кто хотя заподозрил ее присутствие, подчиняла. Еще отдаленнее казались возможности действительного мира и беспомощнее и порабощеннее становилось «я», покоренное этим зрелищем, предназначением которого было удерживать человечество от трагедий и комедий, погружая его в созерцательность, заставляя упиваться созерцанием.
Какими жалкими показались после этого улочки с облепившими их лавчонками и марионеточного вида европейскими полисменами в белых перчатках.
Слишком просто, едва ли не обидно, звучали слова Гириадиса у подъезда в змеившемся переулке на Пера:
– Завтра весь вечер со мной? Заеду за вами, а затем постараюсь позабавить; надеюсь, вы будете и веселее и добрее?
– До свиданья!
Оба не спали в эту ночь, возбужденные ли собственными ощущениями или удивленные видением.
– Что означают ее слова: можете ли вы дать много, заменить? – вот над чем задумывался он. – Не может быть, чтобы и она была проникнута расчетом и жаждой легкой утехи, как те, другие. Он наблюдал ее уже несколько месяцев, плененный этим пресловутым славянским очарованием, столь манящим европейцев. Его искренне привлекают ее задумчивые и таинственные серые глаза и трепещущая душа, сказывающиеся даже в незначительных словах. Нравилось ему и то, что эта русская – была настоящей дамой, что не только видел он сам, но об этом ему уже успели и рассказать.
Бедняжка также долго не могла уснуть. Почти с первого же дня пребывания в этом городе, с того момента, как волна выбросила ее на берег вместе с остальными эвакуированными, началась тяжелая работа в ресторане, неустанная беготня с полудня до полуночи или праздное ожидание, иногда длящееся весь день, пока займут ее столик. Английские офицеры, нагло улыбаясь, заявляли ей, что она им нравится, бросая с оплаченным счетом и свой адрес. Муж, с которым соединяло только пережитое прошлое, работал на пристани по разгрузке судов; она делила с ним заработок, – свои, часто ничтожные, чаевые. Неделя за неделей уходили молодость и бодрость. Как улыбка появился Гириадис, настойчиво ухаживая, но всегда неизменно почтительный. Хотелось отдохнуть, уступить, но пугал обман; она страшилась пошленькой историйки, любовной вспышки на одну ночь. Сторонилась того, в чем забывались ее соотечественницы, захлестнутые нуждой и угаром этой многоликой столицы. Достаточно оказалось намека на чувство, чтобы разбудить сладостную дрему. Но еще не отошли сомнение и недоверие. Однако, – холеное лицо Гириадиса, мягкое обращение, предупредительное и ласковое внимание или, наконец, просто возможность вздохнуть и вырваться из опротивевшего ресторана, – не давали покоя, хотя еще и не убеждали. Искушало и безотчетное любопытство.
Весело, подъем в движениях людей, наэлектризованных вечером, театрами, неосторожными обещаниями или горячим пожатием руки…
Они вышли из под арки ресторана, где она служила.
Не заметила, как уже снимала пальто в квартире Гириадиса. Господин Гириадис занимал две комнаты в нижнем этаже почерневшего и угрюмого снаружи и сырого внутри дома в неприятном центре европейского квартала. Холодно, по трафарету обставленные комнаты, несмотря на яркую лампу и топившийся камин, были унылы и пусты. Сюда приходили редко и ненадолго: переодеться, переночевать.
Чай, пирожные и виски с содой стояли как бы для вида, как украшение смешного золоченого столика.
Она, смущенная, хотела и пыталась быть оживленной, сглаживая неловкость смехом и болтовней. Не удавалось; выходило неестественно, приподнято. И он замечал натянутость, толкуя ее по-своему, и неуклюже проливал виски или размешивал давно остывший чай. Но близость нравящейся женщины притягивала, вытесняя остальное.
– Если вы останетесь со мной, если вы захотите – здесь все оживет. Я найму этот этаж, – сказал зачем-то он, уловив дурное впечатление, произведенное его обстановкой.
Когда, погодя, она склонилась на его плечо, отвечая на ласки, больше от того, что хотелось заглушить беспокойство, он бурно принимал эти знаки чувствительности и доказательства слабости женского сердца.
Через час, поднимаясь с постели, она растерянно протянула руки к нему, уже одетому, точно хотела поймать улетевшую нежность. Он порывисто схватил ее локоть, поцеловал и вышел из комнаты. Собираясь идти ужинать, она, расправляя скомканную вуаль, возилась перед зеркалом. Он незаметно открыл замшевую сумочку, брошенную на диване, и положил на дно ее две цветные бумажки, аккуратно сложенные вчетверо, цифрами в середину.
Много пили в зале, расцвеченной серпантинами, национальными флагами иностранных держав и освещенной фонариками, разубранной по случаю карнавала. Бросали и конфетти на сцену, глядя на глумившихся, и отдалялись друг от друга, отдаваясь такту танца и ритму музыки, сменявшейся капризами разгулявшихся музыкантов. Нелепые маски носились в неистовом фокстроте, сбивая лакеев.
Начиналось утро, когда возвращались домой. Накрапывал дождь, барабаня в кожаный кузов коляски.
Навстречу шли рабочие, разносчики зелени и едва продвигались ослики, с трудом переставляя хилые ноги. Яркими казались экзотического типа люди, тащившие уголь и кричавшие что-то заунывное и неясное, похожее и на песню, и на призыв. Военные автомобили с чужестранными офицерами, державшими в объятиях сонных женщин, готовы были смять их экипаж, едва не задевая колеса в своем неистовом ходу.
Она резко откинулась в угол, когда он обнял ее, ища поцелуя.
– Не надо, ведь день, улица…
– А вы так упадете, не нужно отодвигаться, – возразил он, притягивая ее снова.
Прощались поспешно: давно пора было вернуться домой, да и холодно было, туманно. Она первая спросила:
– Когда увидимся? Приходите вечером. Я свободна: сегодня мой выходной день.
– Превосходно. Наконец-то вы меня к себе пригласили.
Она проснулась поздно, после полудня. Прибрала комнату, напилась скверного кофе и долго объясняла молоденькой армянке, что ей купить к завтраку. Протянула руку на стол, чтобы достать сумочку за деньгами для покупок – сумки не нашла. Подумала, что лежит вместе с пальто на кресле, – тоже нет. Обыскала всю комнату и переднюю, больше для самоуспокоения, шарила в ящиках и коробках, где никогда ничего не было, – ясно стало, что сумочка пропала, потеряна.
– Должно быть, уронила, когда ехали, когда он хотел меня поцеловать. Мне стало стыдно, что француз-моряк смеется, – вспоминала она вслух.
Было жаль денег, последних четырех лир, что заработала за два дня, и досадно, что пропала новая сумочка и единственная сохранившаяся из прежних вещица, белая эмалевая пудреница. Расплакалась, плакала по-детски, будто отбила нос у новой куклы.
Но как же быть: надо мужу купить какао, да и самой съесть что-нибудь. Разом поднялись вся горечь и тоска, накопившиеся и давившие, как рыданья. Но улыбнулась, ободрилась при мысли, что теперь она не одна, что это, должно быть, последнее огорчение, что ее любят. Торопливо сбегала (на трамвай не было необходимых пиастров) пообедать в долг в свой ресторан, а после ждала Гириадиса, лежа на кушетке, следя за мерцаньем углей в потухающем мангале.
Сумерки ушли, прошел и вечер, приближалась ночь. Господина Гириадиса все не было. Не было и записки, разъяснения причины.
Случилось, но что же?
Ведь раньше не бывало дня, чтобы он не повидался с ней, не назначая определенного времени, хотя был чужим. А теперь? Что, если она была лишь прихотью, минутным увлечением? Страсть удовлетворена, – быстрое охлаждение – и она не нужна? Чудовищно! Грубые слова определяли грубую выходку, непонятный поступок. Не засыпая и не раздеваясь в эту ночь, терялась в догадках. На другой день пришла на службу первой, чтобы не оставаться дома одной и рассчитывая на то, что Гириадис или уведомит ее, или придет, по обыкновению, к обеду. Лицо ее, должно быть, исказилось мучительно, потому что один английский офицер, толкнув приятеля, громко сказал:
– И эта недотрога начала кутить: посмотри, как изменилась. Даже глаза выцвели.
Рассуждения бриттов о ее внезапно потускневшей красоте отразились в сокращенном размере чаевых, пренебрежительно оставленных на тарелке.
Однако Гириадис не приходил, хотя уже настало время ужина. Тогда, спрятав самолюбие, скрыв гордость, сухим голосом вызвала к телефону швейцара дома, где он жил, сказав, что спрашивают из магазина, когда прислать заказанное господином Гириадисом, и нельзя ли сейчас? Портье отвечал, что сегодня не стоит, так как мосье только что вышел и навряд ли рано вернется.
Значит, здоров, не уехал? Что же?
Не помня себя, принимала заказы, перепутав, кому следовало подать торт miliefeuilles[25]25
…millefeuille – старинный итальянско-французский торт «Тысяча слоев», прозванный в российской версии «Наполеоном» (фр.).
[Закрыть], кому selle de mouton[26]26
…selle de mouton – седло барашка (фр.).
[Закрыть]. Уязвленная, воображала себя влюбленной; наряду с глубоким мелькал всякий вздор, какие-то глупые подробности вчерашнего, а сердце заливалось избытком сентиментальности. Огорчение и мысль о пропаже не отставала. Кто посочувствует? Кому пожаловаться? Гириадису? Немыслимо. Разве можно заикнуться о деньгах? Стыд; еще подумает, что она просить у него. Нечего страдать, что не пришел? Может быть, он негодяй, проходимец; о чем же сожалеть тогда?
Постукиванье ножей о бокалы оборвало поток отчаяния.
Господин Гириадис нехотя грыз сыр, не дотронувшись до кушаний. В малопосещаемом кабачке было достаточно уединенно, чтобы предаваться размышлениям. Размышления его касались той, что металась в ресторане, не подозревая, ни что о ней неустанно думают, ни сущности этих мыслей.
– Конечно. Теперь ясно: приняла, как ни в чем не бывало; взяла двести лир, как берет деньги каждая продающая свою любовь. Поступила, как большинство прислуживающих за столиками в ночных ресторанах; все говорят, что это так, а он спорил. Неуместное упрямство с его стороны. К чему он медлил со своим испытанием? Узнал бы правду раньше, было бы легче, потому что он успел немного привязаться к этой грустной изящной женщине. Но и искусная же актриса. Как быстро соблазнилась значительной суммой. Несмотря на опыт, он промахнулся. Обидно, что колебался, не решаясь положить эти лиры в сумочку. Увы, не ошибся. Сейчас бесило, что неудача причиняла ему горе. Наказан за безрассудные мечты о любви. Разве не достаточно было неудачного брака? Да и после: женщины, необходимая роскошь, все оказывались похожими, как копии талантливого оригинала.
Гириадис допил красное вино и вышел. Через улицу из открытой двери «Олимпии» доносились цимбалы. Отлично, он послушает.
Перед эстрадой стояла аляповато нагримированная цветочница в костюме пастушки. Господин Гириадис подозвал ее, властно взял корзиночку с фиалками:
– Я покупаю их, – сказал он, бросая цветы на пустой стул, и пригласил цветочницу за столик, заказав шампанское.
– Сердце должно кочевать, не правда ли, мадемуазель?
Ее не удивил вопрос.
Константинополь, декабрь 1920 г.

Человек оттуда
Около ста вымпелов уныло торчали между морем и туманом, посылая мольбы и бессмысленные угрозы недостижимому небу. Уже двадцатый день мокли у входа в пролив более пятидесяти кораблей. Подъезжавшим к этим судам и привозившим хлеб или воду корабли эти казались передвижными тюрьмами, жестоко томившими заключенных. Люди, находившиеся в этих чудовищных темницах, были невиданными еще узниками и, должно быть, отвечали за небывалое преступление.
Верхняя и нижняя палубы были сплошь забиты серо-зелеными фигурами с землистыми лицами. Между ними почти невозможно было протолкаться; чтобы пройти в рубку или сойти в трюм, этим странным пассажирам приходилось употреблять часа два-три. Впрочем, последнее обстоятельство не слишком огорчало их, – скорее развлекало, внося хотя некоторое разнообразие, и будто бы выводило из неподвижности. Необычайные узники проводили двадцатый день и двадцатую ночь под открытым небом, лишенные пищи, тепла, сна и движения, обреченные дышать воздухом до воспаления в легких. Они видели берег, различали город, не имея возможности двинуться и не помышляя ступить на землю. Почти все время шел дождь. Ежились, дрожали и проклинали ночь, еще более изнурявшую. Озлобленные, они пронизывали взглядом ненависти и зависти счастливца, которому, несмотря ни на что, удавалось примоститься где-нибудь на ступеньках. Но не спал он, погруженный в кошмарную дремоту.
В редкие дни избранника, отмеченного судьбой, увозили в каике отыскавшиеся родные или друзья.
Едва брезжил свет, как начинали поджидать заветную шхуну, развозившую хлеб, высматривать катер, обычно привозивший разрешение съехать на берег. Но шхуны и катера сновали мимо, направляясь к другим судам, где так же напряженно ожидали тысячи пар глаз. Увертливые сандалы шныряли вокруг корабля. Сверху удивительные пленники, напоминавшие табун, испуганный грозой, швыряли вниз торгашам: часы, ложки, сапоги, подошвы, шинели и рубашки. Взамен золотых часов к ним поднимали по канату белый хлеб, целый хлеб! Блаженство! Ведь здесь в полдень выдают по четверти фунта на весь день и еще не всегда каждому достается!
Сегодня осенний день, дождь не останавливается.
Развозившие хлеб были настроены зло и раздражительны, как осы, быть может, еще и оттого, что сознавали свое бессилие и ничтожество перед теми, – перед праведниками, искупавшими не свою вину. Может быть, пытались благотворительностью скрыть свои настоящие чувства, грубостью – удержать волнение.
Люди на палубе и в трюмах стонали от страданий. Недоставало больше терпения смотреть, как выгружали и укладывали в мешки румяный хлеб. Как невыносимо медленно, как медлительно! И как не скоро еще достанется предназначенная порция: маленький кусочек попадет в рот, пройдя все формальности – то есть, только через несколько часов.
Внизу, в лодке, дама и студент наблюдали за сдачей хлеба, помогали укладывать его в мешки, убирали пустые. Сверху – униженно протягивали на веревках или полотенцах фуражки, походные котелки и брезентовые сумки, умоляя жалкими жестами и робкими взглядами, иногда чуть слышными словами, о маленьком кусочке хлеба для ребенка, для жены.
Одна фуражка принесла вниз записку:
«Уважаемая незнакомка, пожалейте меня: я третий день под арестом и не получаю хлеба за то, что съел от голода чужой. Поднимите глаза на вахтенный мостик, посмотрите на наказанного и пришлите хоть один кусок.
Вольноопределяющийся Василенко».
Дама в шхуне виновато, едва ли не крадучись от остальных шести тысяч глаз, положила хлеб в грязное дно фуражки и отправила со своим помощником.
Из люка пристально выглядывали жадные женские глаза, высовывались беспомощные серые руки. У некоторых мужчин, согнанных в стадо на палубе, подергивались мускулы и расширялись зрачки; у других – все растворилось в смирении, в подчинении безысходности.
Наконец, по трапу втащили последний мешок. Шхуна неуклюже повернулась. Уходя, с нее крикнули:
– Не нужно ли чего-нибудь? Завтра постараемся доставить!
Отвечали:
– Воды, воды! Третий день нечего пить и с «Грозного» нам сигнализируют о том же.
Между тем, туман расползся, открывая азиатский берег и намечая узоры Стамбула, безразличные и ненужные нездешним. Серые и зеленые фигуры занялись хлебом. Люди делали вид, что едят: на самом же деле одни из них долго жевали доставшийся им кусок, бесконечно долго, до усталости, а другие глотали его, как голодные собаки в страхе, что отнимут.
Опершись о борт, женщина в сестринской повязке и в форменном платье разламывала свой кусок пополам. Снизу, из скользящей лодки, что-то крикнули. Она наклонилась, чтобы расслышать.
– Не разберу, кого? – спросила возбужденная и – уронила. ломоть в воду.
Каик уже отошел далеко: разыскивали какого-то артиллерийского полковника и торопились засветло объехать остальные суда.
В первую минуту женщина точно застыла, не произнесла ни звука. Затем развела руками, воскликнув:
– Сегодня снова не есть! Это же нестерпимо! За что? Когда же избавление? Хотя бы Борис скорее нашелся! Неужели там остался?
Одна за другой падали слезы на почерневшие концы косынки. Женщина наклонила голову, не отрывая взгляда от мутной морской воды.
Два, рядом стоявшие, казака соболезновали:
– Сестрица, муж-то разыщется. Не беспокойся, о т т у – д а удрал. Не одна ты здесь о своих убиваешься. А много ли в городе? Многие разве встретились? Успеешь еще. Вот, что не евши…
Надежда Павловна вздохнула и собралась продвигаться вперед. Казак помоложе окликнул ее:
– Ступай, сестра, к доктору или к капитану, скажи, что хлеб уронила. У них найдется. Да не забудь: сказывали, что сегодня утром по записке пассажиров спрашивали. Разузнай, кого ищут.
Конечно, она пойдет и к доктору за хлебом (хотя очень не хочется просить!) и к капитану – справиться о муже. Не заболел ли? Наверное, так же голодает на какой-нибудь палубе. Отчего же не пускают к ней? Ведь ему, наверное, легче добиться, устроить.
Стараясь не замечать и не слышать тысячи своих спутников, женщина шла дальше. Наконец, добралась до противоположной части корабля, попала в узкий коридор. Низкая дверь открылась сама собой, едва она успела постучать.
Электрическая лампочка над столиком у койки; приготовленная на ночь свежая постель. Тепло. Накрытый стол с закусками и вином, большой белый хлеб.
Тепло, свет и хлеб.
Капитан мыл руки над металлическим блестящим тазом.
– Виноват, сию минуту к вашим услугам. Садитесь, прошу вас.
Запах еды и уют подчиняли; как автомат, Надежда Павловна опустилась на мягкий табурет.
– Чем могу служить? – спрашивал между тем смуглый моряк, вытирая руки мохнатым полотенцем и искоса разглядывая сестру.
Надежда Павловна покраснела, вспомнив о своих давно не видавших воды и мыла руках и, сравнив себя с попрошайкой у подъезда, она почувствовала, что тот угадывает, что ей нужна не только справка, но что она изнывает от голода. Ее охватил стыд, но не было воли уйти, не находилось слов сказать, объяснить. Капитан, доставая список, поймал в зеркале отражение глаз Надежды Павловны, не отрывавшихся от тарелок.
– Нет, вас не спрашивали. Давайте потолкуем и придумаем, как вам помочь.
Он сел к столу, заботливо угощая женщину в сестринском платье. Она пила вино и рассказывала ему о том, как уронила хлеб, как хотела идти просить к доктору и как голодают на палубе; говорила о том, как грузились в России, как теряли не только свои вещи, но как попадали на различные корабли, неожиданно оставаясь без детей, без мужа, как она… Невольно жаловалась, что двадцатую ночь не спит, потому что даже негде лечь.
И, не переставая, ела и пила. Пила, не замечая, что и сколько, – капитан не скупился.
– Приходите ко мне обедать и ужинать, когда хотите. Я всегда один. А сейчас ложитесь, отдохните; мне скоро пора на вахту.
Не ожидая ответа, он осторожно подвинул ее табурет к низкой койке, но Надежда Павловна точно не заметила этого, усталая и опьяненная ужином. Тогда он приподнял ее и положил на постель. Опустилась, пробормотав что-то в полузабытье, в полусне… Когда же он наклонился над ней, сжимая талию и сдавив плечи почти безжизненного тела, она только спросила слабым голосом:
– Ведь вам идти надо?
Он отдернул косынку, отбросив ее, как тряпку, открывая белокурые волосы. Не ощущая прикосновения, не испытывая близости, не отдаваясь, она принадлежала ему…
– Список в капитанской каюте.
– Да где же капитан?
– Вот сюда и направо.
Голоса доносились будто издалека, странные, точно из подземелья. Однако пробудили ее, вернули сознание.
– Спрячьте меня скорее! – просила она, пытаясь подняться.
Он не понимал, не отрываясь от нее.
– Спрячьте же! Умоляю!
Оставшаяся неплотно закрытой дверь отворилась.
Она застонала, забиваясь под подушку, закрываясь ладонями. Капитан оглянулся и увидал на пороге бледного, оцепеневшего человека. Серая фигура качнулась и быстро исчезла.
Довольно явственно послышалось: «Зачем нашел? К чему были все мытарства?»
Человек в сером и зеленом лихорадочно, не помня себя, карабкался по ступенькам, не слушая окрика матроса.
Отбросил фуражку, проведя рукой по слипшимся волосам… Снял шинель и, повторяя словно про себя – «Зачем же оттуда было бежать?» – как сомнамбула бросился в море.
Едва был слышен всплеск. И в темноте не было видно кругов. Но кто-то из дремавших очнулся, пробормотав:
– Что, опять самоубийство? Эго уже третье у нас.
– Говорят, сегодня на «Стреле» застрелилась женщина, – отвечал, зевая, сосед. – Следует все же капитану доложить.
– К чему? Завтра утром при раздаче хлеба выяснится, кто отправился на тот свет, то бишь – на дно морское, – возразил первый.
Ноябрь, 1920 г.
Константинополь.
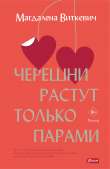



![Книга Молитва телу [Избранные сочинения] автора Владимир Королевич](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-molitva-telu-izbrannye-sochineniya-272008.jpg)



