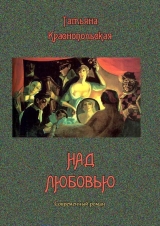
Текст книги "Над любовью (Современный роман)"
Автор книги: Татьяна Краснопольская (Шенфельд)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Татьяна Краснопольская (Шенфельд)
НАД ЛЮБОВЬЮ
Современный роман

НАД ЛЮБОВЬЮ
Современный роман
ЧАСТЬ I
Глава IДень медленно уходил, солнце становилось все красней и красней и, как будто не решаясь покинуть Павловский парк, бросало последний отблеск на ровные дороги с тоненькими березками на откосах, отражавшимися в светлых прудах…
Умолкли на мгновение и приостановились двое людей, бродивших вот уже часа два по парку и не уходивших из него или по той ли причине, что и солнце, или потому, что они никак не могли окончить своей оживленной беседы.
– Кэт, вы меня просто поразили сейчас. Это так на вас не похоже… мне кажется, что это говорите не вы, а кто-то чужой, в книге…
– Почему, милый Борис? Что странного в том, что я выхожу замуж? Я нахожу гораздо более странным то, что мы сейчас с вами в Павловске, и что я говорю вам о любви ко мне другого…
– Нет, не то; вы иногда забавляете меня такими разговорами. Но я положительно отказываюсь понимать, как вы можете, не любя, выйти за него замуж, за Баратова? Согласитесь с тем, что я все-таки немного знаю и вас, и этого человека, и вашу жизнь, наконец! Ведь это ни к чему.
– Почему ни к чему? Да и кто вам сказал, что я не люблю? Наконец, любят меня. Не знаю, помните ли вы, но я вам говорила недавно, что я слишком много считалась всегда с чувствами окружающих меня, так боялась что-то растоптать в чужих душах, и ничего не берегла в своей… И никогда никого не обманывала намеренно, скорее себя. Но я увидела столько ненужной неправды, столько лжи, я увидела не только изнанку слов, но и изнанку чувств. Теперь я поняла, что надо отдохнуть. Впрочем, я не для того позвала вас в Павловск, чтобы разбираться в том, надо ли мне выходить замуж. Хотела только сказать вам, что через три дня моя свадьба, что, кроме вас, пока об этом никто не должен знать, хочу удивить друзей. А теперь пройдемся еще раз к Храму Дружбы[1]1
…Храму Дружбы – Храм Дружбы – павильон-ротонда в Павловском парке, построенный по проекту Ч. Камерона в первой пол. 1780-х гг.
[Закрыть], хорошо? – закончила Кэт свой несколько взволнованный монолог и ласково коснулась рукой рукава своего спутника.
И оба, спустившись одной дорожкой ниже, стали подниматься.
Пожалуй, настало время сказать несколько слов о моих героях.
Екатерина Сергеевна – Кэт, – как ее только что называл друг ее детства, была не как все. Не то, чтобы она была необычайной красавицей, нет, но несомненно ее красивое оригинальное лицо с печальными глазами и улыбающимся ртом надолго запоминались, становились близкими, хотя и чувствовался в ней какой-то холодок.
Кэт была ростом гораздо выше своего друга, Бориса Николаевича Шауба. Стройная, тонкая, она походила в своем узком суконном костюме на амазонку, что, шутя, и заметил ей Шауб.
Борис Николаевич казался гораздо старше Кэт, хотя на самом деле в их летах было всего 4 года разницы, и было ему 28 лет. С темными, кроткими глазами, в широком английском пальто, он шел деланно уверенным шагом, изредка поглядывая на Кэт.
– Да, вы правы, здесь особенно хорошо сегодня; жалко, что придется скоро возвращаться в город.
И оба остановились. Перед ними внизу на лужайках стояли одинокие деревья и благодаря необычайному освещению были декоративны по-театральному. Казалось, что они далеко-далеко отстоят друг от друга и что все дорожки куда-то убегают в неведомую даль.
Солнце перестало быть красным и совсем скрылось, а вместо него с неба спустился почти до земли какой-то сказочный вуаль, сотканный из воздуха и тумана. Сквозь него виднелись белые с черным стволы берез.
Над лужами воды и травой поднимался белесоватый пар, похожий на дымок.
Пахло вечером: сыростью, мокрыми листьями и розами.
– А нам придется идти прямо к поезду, – с расстановкой и нехотя заметила Кэт.
И, торопливо свернув на другую дорожку, они оба пошли к вокзалу.
День был будний и час такой, что и не в город уезжать из гостей и не на дачу приезжать: было начало девятого, и была половина мая, когда в Павловске еще не начинается сезон. Вероятно, поэтому у кассы было пусто и кассир с любопытством взглянул на даму Бориса Николаевича или, быть может, ее шляпу.
На перроне было какое-то необычное для вокзала затишье; виднелись бездеятельные фигуры кондукторов, что-то лениво, но громко говоривших.
Екатерина Сергеевна и Шауб одновременно отошли от забытья, охватившего их в парке, и сразу вспомнили, что через час будут в городе с трамваями, телефонами, извозчиками и прочей шумихой.
В вагоне почти не разговаривали, от времени до времени поглядывали друг на друга, а когда ловили себя на этом, ласково улыбались; она несколько растерянно, а он пытливо, будто спрашивал о чем-то, чего та не досказала.
– А что же это вы сегодня ни словом не обмолвились о вашем приятеле, Кэт?
– Это вы об Извольском? Я не виделась с ним несколько дней; думаю, что он, как всегда, мечется между двумя неправдами.
– Какая злая! А еще друг ваш…
– Не знаю, друзья ли мы на самом деле? Не думаю, чтобы он был настоящим другом, а браню я его, потому что искренне и хорошо к нему отношусь. По-моему, это лучше, чем те похвальные или бесцветные отзывы, которыми награждают его другие! В действительности же, этот человек занял определенное место в моей жизни, хотя я точно и не знаю, какое…
Между тем, приближались к Петербургу. Начали мелькать вереницы тусклых фонарей; здесь туманный вечер был иным: он давил город, и казалось страшным, что вот сейчас надо будет выйти из вагона и остаться среди дыма и черных громад, какими представлялись дома.
Выйдя из здания вокзала, Шауб усадил Екатерину Сергеевну в таксомотор; прощаясь, извинился, что не провожает до дома.
– Впрочем, я предупреждал, что у меня один человек будет дома в половине одиннадцатого… Я доволен прогулкой, а вы? Спокойной ночи!
– Bonsoir[2]2
Bonsoir – здесь: «Доброго вам вечера» (фр.).
[Закрыть], – почему-то по-французски, отъезжая, ответила Кэт.
Мотор катился по Загородному проспекту, было неприятно шумно на улице, где всегда так, словно происходит беспрерывная торговля и суетливо толкутся люди, похожие на провинциалов. И не видно было здесь, что струится уже отовсюду аромат белых ночей.
«Какая невыразимая тоска, – думала Кэт. – Почему, когда я сливаюсь с буднями жизни в полутемных улицах, я чувствую, будто во мне отразилось горе всех людей? Сейчас, когда приеду домой, надо будет укладывать и разбирать вещи…»
Автомобиль выезжал теперь с Литейного на набережную. Здесь сновали взад и вперед извозчики и моторы; Нева и всё за ней было синим, голубым; на мостах горели заманчиво зеленоватые огни. Набережная с дворцами казалась белой, холодной и торжественной, а мостовая особенно чисто выметенной.
По другой стороне набережной, у самого гранита, вдоль реки, темнели силуэты людей.
Чувствовалась весна: все звуки стали громче, почернели крыши, вечернее небо было бледное, чуть розовое, и в нем высоко блистала одинокая лучистая звезда.
Был белый вечер.
Кэт выглянула в окно, жадно всматривалась в проезжавший и проходившие мимо чужие лица, не то веселящиеся, не то наслаждающиеся приближающейся ночью.
«Жить, жить, только жить и любить жизнь; я так остро чувствую сейчас красоту города, слившегося с природой, будто замерли они в объятии. И как хорошо, что виделись сегодня с Борисом, я знаю он любит меня, мы будем еще счастливы…»
Порадовал смешавшийся с ветром сладкий и сильный запах духов от кружев платья.
А таксомотор остановился теперь у подъезда серого дома; Екатерина Сергеевна торопливо расплатилась с шофером и, отворив дверь американским ключом, почему-то рассердилась на темноту в передней и на то, что не было дома горничной Поли.
– Как это несносно, нельзя укладывать вещей.
И прошла в свою комнату; на письменном столе пестрели не совсем увядшие, осыпавшиеся лепестки тюльпанов, тут же стоявших в бокале…
Взглянув на них, Екатерина Сергеевна потянулась за шкатулкой с письмами и взяв ее в руки, удобно села в углу большого дивана.
«Все равно нельзя укладывать вещи, оставлю на завтрашний день, а пока поговорю с друзьями».
Тряхнув коробкой, выбросила несколько пачек писем и отдельно посыпавшихся фотографий на ковер и вытащила довольно объемистый пакет белых конвертов с видневшимися между ними телеграммами и открытыми письмами.
«Вот история моей любви, – думала Кэт. – Странно, через три дня моя свадьба, но я знаю, наша любовь осталась невысказанной в этих письмах Бориса. Полтора года прошло, как она таится на дне шкатулки, таится в его глазах и моих самолюбивых мыслях».
И почти наугад взяла листок, исписанный мелким, но четким почерком.
И встали перед ней страницы пережитой, отлетевшей любви. В каждой строчке она читала целые эпизоды из их увлечения.
Читая о том, что Борис любит ее, «своего золотого друга», «ждет писем», или «мечтает о возможности общего счастья», она вспоминала почему-то о том, как они сидели в оперетке и в какой она была шляпе, или как ездили в мае на Стрелку, как слушали вместе какую-то лекцию… И непонятными казались ей фразы, даже какими-то тусклыми, будто выцветшими, о сомнениях Бориса, его отвлеченность, его неудовольствия по поводу ее капризов или других пустяков, его жалобы на скверное состояние дел и тяжелое настроение и те строки, где проглядывало его малодушие и безволие – они казались случайными и неправдивыми. Так ясно ощутила сейчас она все счастье их былой близости, и едва не забыла, что это прошлое, а не настоящее.
Вдруг письмо выпало из рук, до боли стало мучительно и тоскливо; невольные слезы брызнули из глаз.
– Господи, почему, почему же я счастлива только переживаниями ушедшего? Неужели никогда не придут те дни снова? – чуть ли не громко проговорила Кэт.
Зазвенел в соседней комнате телефон, встала и подошла к трубке. Кто-то позвонил по ошибке.
Через минуту пришла горничная. Было уже после двенадцати, первый час.
Решили складывать вещи завтра с утра.
– Я и забыла, Екатерина Сергеевна, сказать вам, что звонили Владимир Николаевич, – уже выходя из комнаты, начала Поля. – Просили сказать, что с дачи приедут к 2 часам завтра, прямо к вам, и что билеты уже куплены.
– Хорошо, Поля. Спокойной ночи.
Закрыв за ней дверь, Екатерина Сергеевна подошла к окну и перед тем, как опустить штору, заглянула в него, словно хотела проститься с сегодняшней, нетемнеющей ночью.
– Билеты куплены! Через три дня поедем с Баратовым к родным, после в Париж… А что же потом в Петербурге?..
И, опустив шторы, стала быстро раздеваться ко сну.
Глава IIБыл конец сентября; хмурое и тусклое утро упорно не хотело перейти в день, но все же он начался в квартире Баратовых.
Екатерина Сергеевна стояла на пороге гостиной и что-то говорила кому-то в переднюю, как вдруг ее громко окликнул, почти на всю квартиру, из третьей комнаты Владимир Николаевич Баратов, ее муж.
– Кэт! Ты все-таки едешь? Ведь я же просил тебя остаться. Посиди со мной дома.
Кэт не спеша вошла в комнату, куда в ту же минуту вошел и Баратов; сначала застегнула до конца перчатку и потом уже начала говорить.
– Во-первых, я несколько раз, еще за границей, просила не говорить мне «ты», во-вторых, к чему этот исступленный крик? И, наконец, в-третьих, ведь вас волнует совсем не то, что я еду на вернисаж, а то с кем я еду. Когда же, наконец, кончится эта бессмысленная ревность? Неужели вы не понимаете, что ревность – это предсмертное хрипение любви? Или вы меня не любите, или я вас совсем разлюблю. Я еду, увижусь там с Извольским и прошу больше к этому не возвращаться.
Владимир Николаевич как-то странно опустил голову, вернее, глаза, горевшие еще ревностью, подозрением и влюбленностью и, поцеловав руку Кэт, спросил:
– А что же я буду делать?
– Право, не знаю, ведь вы же почему-то не хотите ехать со мной?
– Не поеду, не могу видеть вас, окруженную взглядами, не могу видеть, когда вам целуют руку и вы улыбаетесь…
– Если, действительно, это так, то лучше сидите дома. Ненужное безумие… Ну, до свидания, к обеду вернусь.
Невесело думалось Кэт по дороге на выставку. Прошло четыре месяца, как она замужем за Баратовым; сначала, когда путешествовали по Европе, было безрадостно, но сносно, но эти две недели в Петербурге были невыносимы. Вечные недоразумения без всякого основания. И мечта о дружеском союзе куда-то исчезла; ее сменяли то рабская преданность и заискивание, и унижение, и страх, словно перед царицей, то терзание подозрениями и гадкой ревностью.
«Но знал же он, что у меня не было ни страсти, ни влюбленности? Знал же он мой характер», – думала Кэт почти у самого подъезда здания, где была выставка и где над подъездом развевались флаги.
Зал уже был переполнен обычной, из года в год собиравшейся, даже почти в одно и тоже число, публикой, стоявшей, по большей частью, спинами к картинам, что, впрочем, на вернисажах вообще заведено…
Да и было ли что рассматривать? Было ли чего волноваться?
Люди все были между собою знакомые, знакомые и друзья выставлявших здесь художников и сами они; а художники эти вот уже четвертый сезон выставляли однообразнейшие вещи, до такой степени похожие на прошлогодние и позапрошлогодние, что можно было, пожалуй, приходить сюда со старыми каталогами.
Некоторое оживление, впрочем, и разговоры были заметны в углу направо, возле холстов, смелых зелеными и красными красками, с чуть кубистическими лицами. Туда – то и прошла Кэт, поминутно останавливаясь, чтобы поздороваться со знакомыми.
– Екатерина Сергеевна, я заждался уже вас, – и улыбающееся лицо Извольского приветливо кивало, а он сам протягивал ей свою короткую руку.
– Не радуйтесь так, а то и я начну думать, что вы влюблены в меня.
– А кто еще думает? И не ошибается: и влюблен, и друг ваш.
– Это, кажется, всем известно и даже мне, – подхватил их разговор высокий блондин в монокле, несколько небрежно, но изысканно целуя руку Кэт.
– Вот, если вы знаете, граф, то? может быть, я и начну думать, что это так. Bonjour, il у a si longtemps, que je ne vous ai pas vu…[3]3
Bonjour… vu – Здравствуйте, я так давно вас не видела (фр.).
[Закрыть] И знаете, где вспоминала вас? во Фьезоле[4]4
Фьезоле – Живописный итальянский город в Тоскане близ Флоренции, воспетый А. Блоком, М. Кузминым и Н. Гумилевым.
[Закрыть], вернее, в Центиньяно[5]5
Центиньяно – точнее, Сеттиньяно, селение в предместье Флоренции, в свое время крайне популярное среди гостей Италии.
[Закрыть], там есть Мадонна, не знаю чья, с синими глазами; и когда после, возвращаясь, едешь по желтому Фьезоле, невольно думаешь о ее глазах… Я вспомнила о вас; думаю, что и у вас явилась бы та же ассоциация…
И только успел он прищурить глаз и что-то хотел ответить, как подошли новые знакомые и одна из дам увлекла Кэт смотреть шестидесятый эскиз костюма к постановке какой-то исторической пьесы.
На стене, завешанной белыми квадратами с цветными и темными фигурами мужчин и женщин, ничего нельзя было рассмотреть вообще – так все сливалось в одно целое – и треуголки, и камзолы, шпаги героев, а тем более, нельзя было увидеть ничего замечательного, в симметрично разложенных черных, синих, красных и иногда желтых красках.
И Кэт невольно отвела глаза и, ни на кого не глядя, посмотрела на толпу. В уме мелькнули имена, фамилии, сплетни… Встречалась глазами со смотревшими на нее и вдруг почувствовала, как краснеет. К ней приближался Шауб и, не кланяясь, здоровался глазами.
– Вот рад. Не ожидал вас видеть. То есть, не знал, что вернулись. Давно? когда?
– Почти две недели, и я рада, что вас вижу Борис Николаевич. Я думала, вы знаете от Любови Михайловны, что я вернулась.
– Успели уже побывать у нее! А я как раз давно не виделся с ней…
– Я всегда, когда грустно и хочется по-настоящему поговорить, еду к ней. Розен удивительный человек, она так умеет слушать и понимать… Пройдемся пока по всей выставке, мне еще надо Извольского разыскать.
– Идемте. Знаете, давайте-ка поедем на днях вместе к Розен? – предложил Шауб.
– Хорошо, – отвечала Кэт почти машинально, думая о чем-то другом.
– Меня забавляет, когда я еще дома, даже накануне, могу определить, кого я увижу на вернисаже. Почему они не меняются? – говорил, почти болтал, Шауб.
– Ну и вам первому, как и всем, что сюда сегодня пришли, стало бы скучно, если бы было иначе. Разве не приятно видеть Гартена со своим сыном в матросском костюме у картин Блуменфельда, или Константина Петровича подле церквей Жеромского, а самого искоса поглядывающего на своих чудищ? Почти читаешь, что они думают… И надоело, и забавляет.
Шауб слушал ее нервный голос, смотрел на ее вспыхнувшие, потемневшие глаза, на платье цвета бледной фиалки и думал, зачем она Баратова? Зачем уезжала? И вот, почему вот сейчас протянет ему узкую руку, простится и поедет домой, а на улице будет моросить дождь и он останется один?
Подошел Извольский и Кэт, протянув Шаубу руку с длинными пальцами, пошла к выходу.
– Куда прикажете везти? – садясь в автомобиль, спрашивал Извольский.
– Домой. Нет, сначала пусть проедет по Набережной. Ах, как скучно, Михаил Сергеевич!
– И вам, милый друг? Что это? Вы отнимаете у меня последнюю надежду на радость жизни; если вы нахмурились, значит, плохо… А я то еще хотел со своими горестями к вам прийти, – вздохнул полусерьезно, полушутя Извольский.
– И очень хорошо будет, если скажете. Слушать и думать о чужом легче, нежели о своем. Почему я вас не люблю? Почему вот мой муж не имеет даже настоящего основания меня упрекать? Я его не люблю, но я не люблю никого другого. А эта ревность, эти опущенные глаза… Как тяжело, как мешает жить. Он не понимает даже, что можно быть с вами или пойти гулять, бродить одной без всякой тени романа…
– Я удивлен: не любите ли вы в самом деле кого-нибудь, Екатерина Сергеевна? – И Извольский вопросительно заглянул в ее глаза.
– В тот день, когда я об этом узнаю, я уеду от Баратова, – почти резко отвечала Кэт.
– Какая мораль в этих словах для меня! – заметил Извольский.
– Да? А что ваши бесчисленные и нескончаемые романы? Нет, не будем лучше говорить об этом, а то я вспомню, что вы умеете лгать и всякие дурные вещи, а сейчас не надо.
– Как вы похорошели, как я люблю слушать вас, такую трепетную. Знаете, я иногда ловлю себя на мысли: а что, если я влюблен?
– И становится страшно? – перебила Кэт. – Меня не должен любить тот, кого я не полюблю. Иначе я буду тираном, а он рабом и оба будем мучениками…
А, приехали, кажется? Вот я и дома, позвоните же и приходите к нам. Послушаете замечательные стихи моего мужа, кстати, и я покажу вам кое-что, что писала в Италии.
– С радостью, друг мой, и позвоню, и приеду, только позовите.
Вышли из автомобиля, захлопнулась дверь подъезда и Кэт быстро поднялась по лестнице.
Баратов ждал ее к обеду и ходил по столовой, рассматривая в сотый раз английские гравюры и поблекший гобелен над диваном; пока Кэт переодевалась в своей комнате, ему пришлось проделать и то и другое еще несколько раз. Наконец, сели за стол.
За обедом говорили мало; Владимир Николаевич, видимо, старался пересилить себя, расспрашивая о вернисаже, а Кэт не то не уступала, не то просто не хотелось говорить.
– Кэт, вам звонил два раза Извольский, – уже за кофе сказал он.
– Как Извольский?
– Брат его, Николай.
– А! Что вы будете вечером делать?
– Хотел к своим поехать: мама звала. Может быть, поедешь, поедете со мной?
– Нет, это отлично, поезжайте, а я останусь одна: у меня такое настроение, что и к лучшему; побуду одна, подумаю и пройдет все, – ласково улыбаясь, закончила Кэт.
Баратов уехал… Кэт легла на тахту. Сначала тихо и беспечально, не думая, лежала, после вспомнила что-то пошла к телефону. Станция соединила ее с телефоном Николая Извольского. Говорили вначале спокойно о поездке Кэт, о квартире, о погоде, но когда перешли к сегодняшнему дню, к Михаилу Сергеевичу Извольскому, Кэт услышала даже через телефонные провода, как вздрогнул несколько манерный голос и опять послышались знакомые слова. Стало скучно, – так ненужно было все это. И предложила, сама не зная зачем, проводить ее завтра до Выборга; и поездку-то сама вдруг выдумала.
– Значит, к четырем приезжайте на Финляндский вокзал!..
И отошла от телефона… Зачем ехать? Ведь не для того же, в самом деле, чтобы влюбить в себя мальчишку? И стала думать. Думала беспорядочно: и о том, что поездка эта ей необходима, и что там, в Выборге, она поймет, в чем дело, почему так не ладит с Баратовым. И что там поймет, что лучше и нужнее в браке: влюбленность одного и спокойствие другого или спокойное чувство без страсти и любви у обоих? Первое опасно не только для одного, но даже для обоих, а во втором, пожалуй, и есть счастье, если оно действительно бывает в браке… Счастье без любви и страсти? Это счастье брака… А счастье любви? Должно быть и оно, иначе нет и правды жизни…
Глава IIIВ Выборге, не только в воздухе и в глазах людей, но и во всей природе, было разлито успокоение; была та прозрачность в воздухе и небе, которая делает даже деревья спокойными. Листья их перестают трепетать и резче вырисовываются на беловато-голубом небе; вода становится глубокомысленнее обыкновенного, дома кажутся обреченными на вечное существование именно на этой улице и этом углу. Создается какая-то уверенность в незыблемости жизни и почти волнующее чувство созерцания, наслаждения созерцанием осени.
Екатерина Сергеевна и Николай Извольский были со вчерашнего вечера в Выборге. Кэт уехала против своего ожидания просто; муж в этот же день должен был уехать на два дня по делам отца и скорее обрадовался, чем огорчился, что жена будет в Выборге. «По крайней мере, без обычной суеты театров и поклонников», – думал Баратов.
Кэт сначала чуть не сказала ему, что до самого Выборга ее проводит Николай, но он так жалостно взглянул на нее, прощаясь и говоря:
– На этот раз я ряд, что вы будете одна!
А глаза снова по-старому опустились и снова у Кэт шевельнулось что-то недоброе: сожаление и раздражение.
Приехав на Выборгский вокзал и узнав, что обратный поезд для Николая в Петербург будет только в два часа ночи, Кэт не сомневалась в том, что Николай уедет и только. Когда же после ужина он зашел к ней проститься и тут же сообщил, что он остается и что поезд уже ушел, Кэт возмутилась, крикнула, что это глупо и ненужно, а потом грубо приказала уйти вон и осталась одна, а после слышала, как где-то далеко в городе часы били три.
Наутро все забылось, улеглось и она даже не удивилась, сойдя в ресторан, а встретившись с Николаем Сергеевичем, предложила вместе пойти гулять.
– Мне осталось всего два часа быть здесь, Екатерина Сергеевна: я уеду с первым поездом. Так не хотелось бы оставить вас одну дышать вот этим холодком, едва пригретым солнцем, – говорил он уже на улице.
Шли теперь вдоль набережной, слабые лучи солнца были какими-то ласковыми, не ослепляли и потому не нарушали общего спокойного тона воздуха и неба, чуть серого, но все же прозрачного и живительного. На яхтах и баржах слышались ленивые голоса финнов, изредка доносились отрывочные английские слова. На большой яхте, несколько поодаль стоявшей от прочих, складывали паруса, чистили и прибирали что-то, будто напоминали, что скоро, скоро все здесь погрузится в осеннюю дремоту перед зимним сном…
– Так вы уедете первым поездом? Я останусь немного и к вечеру вернусь домой. Успею еще проехаться по лесу и зайти в любимую мою церковку. Знаете, она такая суровая снаружи, как здешние люди, а внутри темно, темно и тесно! И как хорошо после выйти на улицу и услышать топот лошадей и окрик кучера, – все тяжелые мысли остаются там, а душа наполняется чудесной пустотой, хотя бы и на мгновение только.
– Кэт, я не могу оставить вас, я так хочу чувствовать с вами… я люблю вас сейчас еще больше. Не могу представить себе, что приеду к нам, на Фонтанку, и не посмею крикнуть, что я слышал вас; буду смотреть на брата и завистливо знать, что вечером вы ему расскажете, как в церкви было темно и тесно!
– Неужели вы не понимаете, что вот весь этот надрыв здесь нелеп? И если я буду не одна, ничего не будет: ни мысли не уйдут и не будет веселить пустота? Прощайте теперь и скорее на поезд, а то, чего доброго, останетесь поневоле, как вчера; я готова даже свезти вас на вокзал, – уже смеялась Кэт.
В девятом часу вечера, поднимаясь домой по лестнице, почти у самой своей квартиры Кэт встретилась с выходившей из дверей Любовью Михайловной Розен. Любовь Михайловна внешностью совсем была непохожа на Кэт. Не значит это, что она должна была на нее походить, но так бросалось в глаза это внешнее различие двух женщин, что невольно являлся вопрос, что могло быть между ними общего?
Любовь Михайловна, несколько полная, небольшого роста блондинка с темными, ласковыми и добродушными глазами, строго, просто одетая, являлась контрастом рядом с постоянно волнуемой самой собою Кэт и не представлялось возможным, чтобы они могли мыслить одинаково.
– Куда уезжали? Я поняла сначала, что уехали с мужем, а потом пораздумала и начала тревожиться; час просидела в гостиной и смотрела ваши итальянские работы.
– И что же? Хвалить не будете? – спрашивала Кэт в передней.
– Нет, но скажу, что лучше работайте акварелью; она вам больше удается, хотя совершенства еще нет; как всегда, загорелись: краски яркие, верные, а форма смешалась, как будто в чувстве, в любви, что ли: и есть она, и не видно еще ясных очертаний ее.
– Не видно еще очертаний любви, говорите вы?.. Боюсь, что вижу их, и поэтому так томлюсь и поэтому так мечусь, что мчусь в Выборг с влюбленным мальчишкой, ищущим моих поцелуев…
– Кэт, что вы? пойдемте к вам, – спокойно посидим и сознайтесь мне в ваших грехах.
– Не шутите. Недаром я называю вас приютом моей совести… Словом, вот что, торжествуйте или сожалейте, но вы были правы. Наш брак какой-то кошмар и не только потому, что я не люблю или что Баратов оказался несколько иным, а потому, что если я еще не люблю другого, то жду этой любви. Потому, что знаю, что она не умерла во мне, что она неизбежна и стоит за мной… Не знаю, надо ли бояться любви, но неизбежности с долей неизвестности я всегда боюсь.
– Дорогая, да не о Шаубе ли вы говорите?
Кэт опустила глаза.
– Выслушайте же меня. Я не хочу брать на себя смелости что-либо советовать вам, как водится обыкновенно в таких случаях. Скажу то, что думаю: я верю, что вы несчастливы с Баратовым, такова ведь формула для определения неудачных браков? Но я боюсь, боюсь не того, чего так страшитесь вы, а боюсь, что вы сами создаете несуществующее чувство. Ведь прежде, тогда, вы увидели, что любовь распаялась? Не вы ли сами всегда говорите, что надо верить только первоначальному инстинкту?
– Да, вот поэтому-то я говорю, что та любовь и была любовью и она опять придет. Скажите, ну, а Шауб, ведь он любит меня?
– Я думаю, что любил или любит настолько, насколько такой человек, как он, может любить. Впрочем, он всегда скрытничает, даже в чувствах, и тем самым их обесценивает. Это-то и было в свое время причиной вашей недомолвленной размолвки, – отвечала Розен.
– Да, милая Любовь Михайловна, именно недомолвленной, но сейчас говорят наши глаза, а они не могут скрыть. Отчего вы так угадываете мои мысли и так умеете ответить?
– Слушайте, Кэт, а что, если все это только недовольство Баратовым? Злитесь, что он хочет отшельником жить или просто его не любите?
– Нет, нет, не говорите так, не разбивайте веры в вас.
– Теперь, кажется, вы начали нервничать. Прощайте, поеду домой. А вы соберитесь ко мне поскорей, повидать вас надо, а из дома не охотница я выходить… – неожиданно оборвала Розен, уже уходя.
Усталая, обессиленная поездкой и разговором, несмотря на поздний час или, вернее, ранний – был третий час утра, – Кэт так и осталась на тахте, как была, в своем синем платье и уснула на белой медвежьей шкуре. Уткнувшись волнистой прической в ворох узорчатых подушек, успела только закрыть ноги оранжевой в розах шалью.
И спала до седьмого часа, пока не вошел приехавший с вокзала Баратов… Солнце уже будило комнату через кружево занавесей и освещало черные блестящие волосы и темные веки Кэт.
Сначала Баратов испугался, но тотчас же чувство это сменилось другим и, растроганный, сел на край белой шкуры и стал целовать руки жены.
Она вздрогнула и проснулась не сразу, но, увидев его, тотчас вскочила и не удивилась: как будто и не спала.
– Как глупо здесь спать! Спокойной ночи, устала я! – и вышла, прошла в спальню.
– Кэт, милая, погоди, я хочу тебе рассказать… погоди.
Но в ответ слышно было только, как затворилась дверь в ее комнате.
– Господи! Что это? – И Баратов присел в низенькое креслице у окна.
В висках еще стучал грохот поезда, голова болела от вагонной пыли, а мысли о жене сменяли одна другую с тягостной быстротой… Так всегда: только холод в ответ на любовь… О, как бы наслаждался он, если бы еще существовали терема… Вздор, он любит ее жизненность и водоворот, в котором она кружится. И ее ум гибкий, властный.
И даже, когда она гуляет одна в сумерки… И ее зеленое платье… Нет, не может он выносить сознания, что она с чужими, что и их радует и веселит, что они целуют ей руки, а что, если и губы?
– А если и она целует? А ему не отвечает?
– Пусть сидит всегда дома, пусть выходит только с ним. Он сошел с ума… Ведь Домострой был давно, прежде. Надо поговорить с Кэт. Пусть скажет: разлюбила или любит другого.
– Нет, ни за что; лучше томиться неведением, чем услышать от нее: не люблю!..
– Ведь она его жена? А почему Извольский… нет, не то. Разные они люди с ней, но почему же она так владеет им? Без нее жизнь не может быть прекрасной…
– С приездом, барин! Я и не слыхала, как вы вернулись, – говорила горничная, вошедшая прибирать комнату.
Баратов встал.
– Что? да я только что приехал и сейчас опять уеду, съезжу к старому барину. Когда Екатерина Сергеевна встанет, скажите, что я вернулся и поехал к отцу; скоро буду дома.
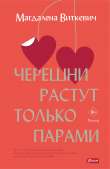



![Книга Молитва телу [Избранные сочинения] автора Владимир Королевич](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-molitva-telu-izbrannye-sochineniya-272008.jpg)



