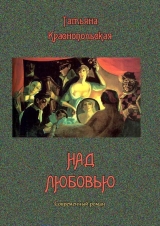
Текст книги "Над любовью (Современный роман)"
Автор книги: Татьяна Краснопольская (Шенфельд)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Развод был давно закончен и давно уже Кэт перестала быть Баратовой, но сравнительно недавно поселились они с Шаубом в Петербурге.
Было воскресенье. За окнами чувствовался морозный день: через стекла и занавеси видно было, как сквозь дымчатое небо проглядывало малиново-розовое солнце и обещало сильные холода. Глядя на него, угадывался мохнатый иней на домах, на извозчичьих лошадях и шубах людей.
В большой синей комнате разговаривали Кэт и Борис Николаевич. Она в вольтеровском кресле, откинув голову на высокую из палевого штофа спинку и положив руки вдоль его длинных полированных поручней, обхватила их пальцами, упираясь ногами в скамеечку, на которой сидел Шауб.
– Неужели прошло полгода, Кэт?
– Да, когда все так тихо и спокойно, как у нас, даже становится страшно, что отходим от жизни. Мы слишком полны собой… Нет, понимаешь, мы заполняем себе жизнь друг другом, – отвечала она.
– Не все ли равно, Кэт? У нас – своя жизнь, в нашем счастье… Объясни мне, почему я понял, что надо приехать тогда?
– В любви всегда есть что-то сверхъестественное, безумие, что ли… А безумным дано бывает провидение… Ну, вот и все, если ты непременно ищешь объяснения.
– Не ищу, не хочу, просто мне хорошо… Все вспоминается, почему-то хочется говорить… Помнишь, как мы оба раньше молчали, прислушивались только и боязливо стремились друг к другу, – быстро говорил Борис Николаевич.
– Я даже помню иное: как мы боялись, что можем лишиться какой-то силы бороться или потерять самообладание… Долго это все равно не могло продолжаться, как не может продолжаться и…
– Перестань, я боюсь, что ты опять заговоришь о неизбежности и о безумии, – просил Шауб.
– А зачем подразумевать под неизбежностью одно злое? И в безумии, как и во всем переходящем, есть прекрасное, – задумчиво сказала Кэт.
В соседней комнате часы пробили пять.
– Я поеду, обещала навестить Любовь Михайловну. Ведь она больна и не будет у нас вечером, – поднялась Кэт.
– У нас сегодня гости, первый вечер, когда здесь будут люди! Скучно это, – вздохнул Шауб.
– Почему, Борис? Напротив, я рада. Когда смотришь на других людей, многое становится яснее.
– Тебе что-нибудь неясно?
– А тебе разве все?
Кроме Извольского, Несветской и Андрея Андреевича, у Екатерины Сергеевны собралось в этот вечер много друзей и знакомых, неизвестных нам, потому что за время ее замужества за Баратовым у нее никто не бывал, и она как-то разошлась со всеми.
Кэт стояла возле тонкой, почти худой дамы, одетой в платье, претендующее на какой-то стиль и сдавленным голосом говорившей о греховности.
– …Грешность и греховность – это различное. Манон Леско жила греховной жизнью, но не была грешна, – роняла беззвучные слова и усталыми пальцами перебирала аметистовую цепь бледная женщина.
– Нина Николаевна, я нахожу, что это сложно и неверно. Несмотря на то, что ваш пример мог бы, пожалуй, несколько защитить положение. Меня, как художника, интересует греховность только в человеческих лицах. Даже тогда, когда она не ярка в жизни, она выявляется в лице. И я хочу прочесть душу лица, преобладающее в ней начало, и перенести его на холст. Во мне ведь есть мистицизм, – почему-то, точно оправдываясь, добавил Мосолов.
– Что же вы прочли в моем лице?.. Я боюсь вам позировать, – смеялась Екатерина Сергеевна.
– Я надеюсь, что это вы сами прочтете, когда портрет будет закончен. Но должен сказать, что рядом с тем прежним в вас появилось что-то новое, тоже большое.
– А когда вы это заметили? – почти взволнованно спросила Кэт.
– Я вас не видел около года, так ведь? Когда я вас встретил в день отъезда, вы были успокоенная, не похожая ни на прежнюю, ни на сегодняшнюю.
– Значит, теперь?
– Да. Приедете завтра позировать? – спросил Мосолов.
Получив утвердительный ответ, Мосолов пошел к группе мужчин, среди которых один громко говорил и восторгался работами молодого, начинающего художника, уподобляя его Гогену.
Кто-то пытался возразить, порицая подражательность.
– Пусть подражательность, но талантливая лучше, чем свое бездарное, – защищал Извольский.
– Такова судьба наших дней: все в подражании. Самобытное хочет отдохнуть, – заметил кто-то.
– Может быть, действительно от того, что обленились, не хотим никаких усилий. Даже не хотим ничего видеть таким, каким следует, а ухватившись за что-то, уверяем, что так мы теперь видим, – оживленно говорил Андрей Андреевич…
Извольскому надоел разговор еще в самом начале и он уже стоял у кресла, в котором сидела усталая Кэт.
– Наблюдаете?
– Нет, и я хочу отдохнуть. Я так давно всех не видела; хочется смотреть на лица.
– Долго не виделись. И, в сущности, у нас ничего не переменилось… У меня все то же… Я рад, что не меняется, по крайней мере, живешь, уверенный в спокойствии. Не хочется забегать вперед.
– Потому что ничего не ждешь? – спросила Кэт. – А я всегда жду, хочу ждать, зная, что все еще должно быть другим.
– Я не знаю, что вы разумеете сейчас, но нахожу, что смотреть на беспрестанную перемену жизни большое наслаждение. Происходит какая-то игра, захватывающая зрителей.
– Неужели же захватывает и все-таки они не играют, Михаил Сергеевич?
– Не играют, или играют не все! Скажите, не находите ли вы, что весь сегодняшний вечер проникнут каким-то одним направлением, будто действительно все мы стали одинаковыми?
– Потому что хотим ими стать или сделать такими же других, если в самих еще что либо осталось сильное, – задумчиво отвечала Кэт.
– Знаете, Екатерина Сергеевна, ведь и любви сейчас нет!
– Вы уверены в этом? А может быть, и есть, только мы сами не хотим ее? Нет простоты в любви. С одной стороны, она усложнена, а с другой – какой-то примитив: точно все взято в ракурсе, – взволнованно говорила Кэт.
– Вы испугались чего то… Не за себя ли? – удивился Извольский.
– И за себя.
Глава IVИзвольский полулежал на широком диване в своем кабинете, усталый; лицо было не то жалкое, не то приниженное, а в общем – неестественное, как неестественны и несвойственны ему были те слова, что бросал он отрывисто и нехотя стоявшей против большого шкафа жене:
– Не уезжаю… Люблю вас… Привязан… У меня ничего не останется…
– Неправда! Наконец, у меня давно ничего нет… Несправедливость!.. Раньше вы говорили, что я вас не пускаю, а теперь… вы… меня только позорите… Закройте квартиру… весь город о ней говорит! Живите или здесь или там, – говорила, не останавливаясь, его жена и ее и так маловыразительное, мокрое от слез, лицо потеряло совсем осмысленность.
Извольский слышал давно знакомые слова, хотел что-то возразить, но не мог, потому что сам хорошо не знал, что в действительности думает и что лучше. Ждал, даже надеялся, что кто-нибудь придет в комнату и избавит его от ненужного разговора, и день войдет в обычный порядок. А разрешение важного, но наскучившего вопроса отложится или позабудется надобность в нем…
«Мы не хотим любви», – промелькнуло вдруг в голове. «Да, где это я слышал? Екатерина Сергеевна… А она хочет разве любви? Есть ли она у нее?… Могла бы быть…»
Обрадовался, когда вспомнил, что его звал Мосолов приехать днем, когда будет позировать она.
– Простите, Оля, но сейчас я должен уехать. Я обещал по важному делу, к Мосолову…
– Иван, автомобиль скорее, – кричал, идя по коридору. И заторопился, увидя, что опаздывает.
В полумастерской, в полурабочей комнате (мастерской ее нельзя было назвать, – не было традиционного большого и высокого, в стеклянных квадратах окна, какие обыкновенно бывают у художников и фотографов; это была просто большая комната в маленькой квартире), так вот, в этой комнате, светлой, с беспорядочно расставленной мебелью и разбросанными пестрыми платками на диване и кресле, с кипами гравюр на столах, спиной к свету, за мольбертом перед большим холстом стоял Мосолов.
Он так ушел в работу, что не заметил, как сначала дрогнула, а потом и подогнулась рука Екатерины Сергеевны и как она вся подалась и вытянулась на возвышении, сделанном на подобие скамьи и покрытом тканями черного и сольферинного цветов.
– Совсем утомилась, больше ни за что не могу, – крикнула Кэт.
– Простите, я забыл вовремя сказать, что можно переменить позу и только глаза оставить в том же положении, с тем же взглядом.
Мосолов отошел от мольберта и приблизился к Кэт.
– Давно я не был так увлечен портретом, Екатерина Сергеевна. Милая, подымите глаза еще раз.
Екатерина Сергеевна подняла глаза, потемневшие от усталости и, насмешливо взглянув на Мосолова, сказала:
– Да вы, кажется, в самом деле хотите прочесть историю моей души!
– Не знаю, но я только сегодня схватил основное: печаль, тоску, покорность и, не удивляйтесь, – надменность, противоречие ума, – говорил, фантазировал художник.
– Жаль, что я не романистка, а то непременно воспользовалась бы этими словами и написала бы рассказ: «Драма ее души». Но больше не надо говорить об этом, а то я начну бояться вас, буду себя искать, драму души, – улыбнулась Кэт.
Мосолов возился теперь около чайного столика и пододвинул его к Кэт.
– А ведь правда, Екатерина Сергеевна, мы с вами теперь подружились. Помните, и раньше у нас иногда бывали хорошие, глубокие и вместе с тем такие легкие разговоры. Я думал, даже говорил, что вы прелестная собеседница, что с вами не скучно, а теперь понял, что это иное…
– Я вспомнила сейчас, как часто я спрашивала вас: почему я убеждена, что вами я никогда не буду увлечена, хотя мне многое в вас нравится, – перебила его Кэт.
– Да… А потому не будете увлечены, что, во-первых, вы холодная, но любить вы можете сильно, не увлекаться. Во-вторых, потому, что вам нравится многое во мне, а должно нравиться что ни– будь одно, больше другого. Иначе нет любви.
– Это уже другое, вы отвлеклись от темы. Я скажу не так: в любви должно нравиться все и то, что плохо. Но оно должно быть понятно, известно, что ли. В увлечении, в влюбленности довольно чего-нибудь или даже ничего, а вот этого «так», как вы говорите. Но любви такой не бывает, – убежденно, точно на свои мысли, отвечала Кэт.
– Заметили ли вы, Екатерина Сергеевна, как много и часто люди говорят о любви? Среди наших друзей хотя бы. Или они сами о себе говорят, или о них говорят другие!..
– Оттого, что мы все над любовью. Это бывает, когда не любят или когда перестают испытывать любовь. Тогда и в других не чувствуют ее.
– Это верно, что над любовью. И я не люблю… А кто любит?
– Простите, но мы так разоткровенничались, что мой вопрос не будет неуместен: ну, а жену вашу вы любите?
– Нет, – спокойно сказал Мосолов.
– Вот когда я чувствую себя глупой, глупой – и начинаю как-то по детски сама себя спрашивать: почему жены не любят мужей и наоборот? Не смейтесь; есть такие запутанные и сложные вещи, которые, только упростив, можно рассматривать, а иначе не стоит, то есть можно только поступать…
– Я вообще, говорят, фразёр, но все же я счастлив, что в некоторых областях я могу без всякого пафоса сказать: да и нет; у меня есть внутренняя откровенность, – снова увлекся Мосолов.
– Ради Бога, не надо ни откровенностей, ни тайн, а главное никакой философии, – раздвинув кирпичного тона суконную портьеру, говорил вошедший Извольский.
– Да, конечно, лучше жить сообразно со своими воззрениями, чем рассуждать о них; но вы, Михаил Сергеевич, лучше чем кто-либо знаете, как это нелегко, – сказала Кэт.
– А может быть, у меня и воззрений нет? Мы ведь все теперь над всем, кроме этого портрета, который бесподобен и безусловно не «над» искусством.
Извольский оправлял пенсне и переводил восторженные глаза с полотна на Кэт, все еще сидевшую в белом с черным поясом, в подборах, платье, в том же, в котором писал ее Мосолов.
– Поздно, скорее переоденусь! – И, спохватившись, она ушла за ту же суконную портьеру.
– Друг мой, я хотел посмотреть ваш эскиз последней постановки. У меня давно нет ничего вашего нового, – болтал Михаил Сергеевич.
Художник курил или, вернее, держал в зубах ежеминутно потухавшую папиросу и, наклонившись над низкой скамьей, искал что-то. Выбрав, протянул голубой с желтым рисунок Извольскому.
– Вот радость, что именно этот не продан, – неподдельно оживился тот.
Вернулась уже одетая, в манто и в шляпе Екатерина Сергеевна.
– Так устала, что не хочется дольше в этой комнате оставаться!
– Я хотел просить вас и вашего талантливого тирана поехать на файв-о-клок в новый ресторан. Настоящий кусочек Европы! Я был там вчера, – пояснил Извольский.
«Настоящий кусочек Европы» оказался большим серым с красным залом, достаточно освещенным, чтобы можно было не заметить недостатка света. Было много лакеев в цветных фраках, что придавало неприятную крикливость залу, и было достаточно мало народа, чтобы чувствовалось, что это только кусочек Европы, сколок с нее.
Было скучно и несносны были интервалы между мелодиями, доносившимися из боковой эстрады. Сквозь помертвевшую зелень олеандров мелькали красноватые камзолы музыкантов…
– Я бы хотел знать, где все бывают? – спрашивал Извольский, наливая мадеру.
– Вы, собственно, кого хотели бы видеть, Михаил Сергеевич? – вопросом же ответил ему Мосолов.
– Никого, кроме Екатерины Сергеевны и вас сейчас, но я хочу, чтобы эти отсутствующие все видели и чтобы они потом имели право сказать: «Тоска, не стоит туда ездить» – как это можем теперь сделать мы!
– Это право мы имеем несомненно, – заметила Екатерина Сергеевна, – но мы неправы так думать. Чего мы ждем? Мы научились от всех ждать какого-то веселья или ума, а сами ничего не даем.
– И все у нас так. И в искусстве, особенно в этом году!
– Лучше о людях, но только не об искусстве! – просил Мосолов.
– О людях не стоит – эгоисты, которые, повторяю, ничего друг другу не дают и тем самым отнимают последнее от самих себя. Мужья от жен и любовниц, а жены тоже от тех и от других…
– А я бы просил в моем присутствии не говорить о женах и мужьях, – шутил Извольский. – Кстати, что ваш муж?
Со дня вашего вечера я и не видел его.
– Приходите к нам, увидите! Думаю, что ищет, чем бы наполнить самого себя. Впрочем, не знаю! Налейте мне еще чаю.
В зале стало больше людей. Сошли сверху какие-то иностранцы и недоуменно смотрели, как здесь сидят от 5-ти до 6-ти; вместо того, чтобы говорить о театре, о свидании, о танго что ли, или даже фредонировать[24]24
…фредонироватъ – напевать, мурлыкать, от фр. fredonner.
[Закрыть] его мотив, – разбираются в тяжелых исканиях. Они не понимали, зачем эти люди будят душу и не живут минутами, когда их всего только шестьдесят в этом часе?
– Почему ты не хочешь понять смысла моих слов, Кэт? – с отчаянием в голосе, по крайней мере в третий раз повторял тот же вопрос Шауб.
– Не вижу смысла, только понимаю, что ты сам удаляешься от него, как дикарь в первобытные леса и меня гонишь туда же!
– Кэт, как и что ты говоришь? Ты не думаешь, ты не можешь так думать!
– А разве ты знаешь, как я могу думать? Ты только повторяешь заученные афоризмы, обозначающие истины и живешь их формулой, – раздраженно отвечала Кэт, сидя так же, как и в начале разговора, у стола и не замечая того, что совершенно исчеркала карандашом какой-то рисунок.
Борис Николаевич стоял у окна, смотрел на осыпавшиеся на подоконнике мимозы и словно в них искал недостающее, хотел услышать подсказанное слово. Но, так как молчание обращалось уже в безмолвие, он прервал его, подошел к Кэт и, начиная новый разговор, спросил:
– Но ведь ты же любишь меня, да?
Екатерина Сергеевна решительно подняла голову, оторвалась от рисования и разом, не глядя на него, сказала:
– Зачем об этом говорить и спрашивать? Если много думать о существовании Бога или земли, мысли начинают путаться и даже начинает казаться до ясности, что ни того, ни другого нет… Верить можно и в несуществующее, но любовь надо чувствовать!
– Что же ты этим хочешь сказать? – Шауб схватил ее руку, выпал карандаш…
Кэт встала, отошла и уже у самой двери сказала:
– Тем самым, что мы думаем, мы все сказали оба, не одна я. А почему это так, в этом виновато прежнее.
– Какое прежнее? Я знаю, что прежде я был счастлив, целых полгода… А здесь…
– Здесь или там ни при чем; была страсть, которая затемняла саму любовь… Довольно, избавь меня от разговоров и пояснений!..
К обеду был Извольский, но, несмотря на присутствие третьего человека, не знавшего, что было днем и что между ними был тягостный разговор, оба были смущены и минутами им казалось, что обнажались самые души их.
В восьмом часу Шауб поднялся с кресла в гостиной и полувопросительно сказал:
– Итак, я еду один?..
– Да, извини, но я не в состоянии. Надоели театры! Не могу заставить себя войти в театральный зал. Что это означает? как вы думаете? – уже у Извольского спрашивала Кэт.
Михаил Сергеевич не ответил сразу, подождал, пока Шауб совсем ушел из дома и тогда вместо ответа спросил:
– Что случилось? Вы горите чем-то, Екатерина Сергеевна? Не в театре дело!
– Не горю, друг мой, а томлюсь, словно воздухом весеннего дня, и мое отчаяние разрастается в бесконечное. Несмотря на кажущиеся силы, я чувствую себя слабой. Почему-то так всегда бывает. Даже, например, в политике. Я нарочно так говорю, эта область вам ближе: министры думают, что управляют и ведут события, а между тем, сами бывают застигнуты ими…
И, поникшая, Кэт умолкла в своем вольтеровском кресле.
– Я понял вашу мысль. Понял, что умерла ваша любовь, но узнал и то, что тут есть и другое: настоящая причина вашего томления. Большинство людей не хочет, чтобы глаза видели помимо их воли. Они готовы завязать их и тем самым думают защититься от опасности. Они несчастны потому, что они в беспрестанном конфликте с окружающим. Но сейчас я вижу, что несчастны и подобные вам, которые всегда срывают с глаз повязку или стремятся сорвать ее, – с несвойственной ему глубиной и серьезностью говорил Извольский.
– Это верно, Михаил Сергеевич, но если повязку совсем сорвать, тогда можно увидеть другое и стать счастливой?..
– Можно, но ведь нарушен будет покой, который дает первый случай, – устало, разочарованным голосом протянул он.
– Нет и нет, еще потому, что есть одна причина, которая мне сейчас вспомнилась. Я рада, я счастлива, что поняла… Еще не поздно, – вспыхнула и оживилась Кэт. – Сейчас оставим все это и давайте говорить, смеяться, жить настоящим…
– Давайте веселиться, это легко, когда, действительно, стало хорошо. Едем куда-нибудь, – обрадовался Извольский.
В 10 часов вечера они входили в оставшуюся непроданной маленькую ложу вверху театра, что был на Набережной. Выло видно внизу много людей, было темно и нельзя было разобрать лиц, тем более, что и на сцене было далеко не ярко: изображалась какая-то восточная опочивальня и уснувшая в ней красавица. Подле, весь синий от света фонаря и прожектора, вздыхал не то принц, не то придворный офицер.
– Она действительно красива, – посмотрев в лорнет на артистку, сказала Екатерина Сергеевна.
– А вы еще красивее, – нагнулся и поцеловал ее руку Извольский.
Кэт чуть поморщилась, положила поцелованную руку на бархатный барьер ложи и неожиданно попросила:
– Знаете, Михаил Сергеевич, уедемте до конца спектакля, а в антракте я спрячусь за занавеску. Это забавно: прийти и уйти незамеченными.
– Отлично, кажется я первый раз в жизни буду в театре не для того, чтобы здороваться и показываться, – смеялся он.
Стукнулся занавес о рампу, осветился зал, поднялись со стульев люди. Одни здоровались, другие спешили найти его или ее, чтобы окончить начатый в предыдущем антракте разговор, чтобы условиться, где после ужинать. Были и такие, которые стояли и преувеличенно громко говорили о пьесе, а другие отмечали что-то в записных книжках или сосредоточенно запоминали виденное, чтобы завтра рассказать о нем в газетах…
Было, как всегда бывает в театре.
Извольский выглядывал из ложи и говорил Кэт, кто есть из знакомых. То смеялся, то возмущался и при случае сообщал последнюю сплетню…
В зале снова стало темно, на сцене посветлело и она расцветилась чудесными костюмами и яркими декорациями. И было странно слышать, как скандировали прозаичные слова, словно стихи, актеры. Хотелось фантастичности, прикрытой узором мистики, хотелось слышать сказку…
– Пора уходить, конец скоро, – шепнула Кэт.
– Жаль! Неужели же и теперь, Екатерина Сергеевна, я не услышу ответа на мою любовь? – вдруг спросил ее Извольский.
– Может быть, и никогда! А почему теперь? Или вы забыли, что я не люблю завязанных глаз? – отвечала Кэт.
Борис Николаевич Шауб, идя из балета домой, так задумался, что и не заметил, как несколько уклонился от прямой дороги.
А когда заметил, то нарочно пошел в сторону, захотелось гулять, а главное, неприятно было возвращаться домой и видеть Кэт, – такую противоречивую. Кэт этого последнего времени. Почему она всегда говорит теперь о какой-то свободе? Постоянно недовольна им, называет эгоистом?.. Говорит, что нельзя отдаваться в рабство чувству…
Сам он ничего не замечает, но знает только, что она стала иной, точно боится любви. Ее глаза стали для него загадочней декабрьского тумана.
«Она говорит, что если думают о любви, значит, не любят.
А сама думает и перед поцелуем и потом не целует… Говорит, что была страсть, а не любовь.
Страсть – это та же любовь… Она, положим, говорит иначе.
Но что, что ей перестало быть милым? Что ей так тяжело? Почему она говорит, что он ее не любит?
Неправда! Сейчас скорее домой, она услышит, узнает…»
Фонари на улице догорали. Над улицей медленно опускалась серая, влажная мгла, гнетущая, как неотвязчивая мысль.
Изредка проезжали извозчики с сонными людьми.
Шауб поспешно завернул за угол и у еще освещенного ресторана разыскал таксомотор и разбудил дремавшего шофера.
На громкий звонок дверь отворила горничная, удивившаяся про себя, что барин не открыл дверь клюнем.
– Барыня дома? Давно вернулась? – снимая пальто, спрашивал он.
– Давно спят.
Войдя к себе, он посмотрел на часы. Было два часа утра.
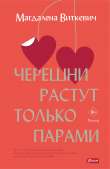



![Книга Молитва телу [Избранные сочинения] автора Владимир Королевич](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-molitva-telu-izbrannye-sochineniya-272008.jpg)



