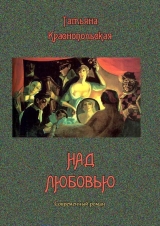
Текст книги "Над любовью (Современный роман)"
Автор книги: Татьяна Краснопольская (Шенфельд)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Вся светлая, почти белая комната, обычно приветливая, как и сама обитавшая в ней Любовь Михайловна Розен, не успокаивала сегодня двух собеседниц, а казалась померкшей, унылой. И оттого вдруг наступившее молчание становилось еще невыносимее и еще явственнее доносились звуки шарманки через окно.
– Я вас не пойму, – снова заговорила Любовь Михайловна. – Ведь раньше вы говорили иначе, а теперь что-то новое?
– Теперь именно верное: я счастлива, что вчера, случайно, говоря с Извольским, поняла все: все оттого, что последнее слово не было сказано. Вы прочли мое письмо к Шаубу? Я нарочно его вам привезла; и вы, обвиняя меня, не правы. С Баратовым я разошлась, потому что не было любви в основе и он был тяжелый человек. А мое страдание с Шаубом и конец любви только потому, что между нами не было сказано нужное слово.
– Послушайте, Кэт, но кто же мешал вам сказать его? Или отдать тогда ваше письмо, раз оно было написано?
– Случайность или минутная радость, захватившая нас. Не знаю что… Но то, что рассеялось раньше благодаря невысказанности, оставляет теперь, благодаря недосказанности, во всем какой-то осадок горя! И во всем, даже в мелочах – одно страдание, проходящее красной нитью через нашу уже несуществующую любовь. Я уверена, что Борис тоже страдает. Думает, что любит меня, но не знает, что все это из-за того, что не было сказано последнее слово.
– Как хотите, но я не могу объяснить этим вашим последним словом то, что вы мне рассказали. Как оно может быть причиной? – недоумевала Розен.
– Да очень просто: он не знает, какой я человек, а я не знаю, очевидно, его. Он не подозревает, что я переживаю от кажущегося на его взгляд пустяка. Создается оскорбленное самолюбие и, хотя мы и стараемся его заглушить, оно вырастает во что-то, похожее на ненависть. Ищем объяснений самим фактам, но это напрасный вздор: их нельзя объяснить. Надо было раньше найти к ним путь…
– Может быть, вы правы в одном. Когда вы начали сегодня говорить со мною, вы сказали: не следует рвать всего, чтобы начинать на уничтоженном новое, а по вашим словам я вижу, что здесь нужно все новое. Я не ошиблась? – спрашивала Любовь Михайловна взволнованную Кэт, теперь еще и раздраженную музыкой во дворе.
– Ах, эта шарманка сейчас не ко времени! Стонет о неудавшейся любви. Не выношу шарманки: кажется, будто она воспевает оставленных или отравившихся швеек!
И Любовь Михайловна была, видимо, недовольна и озабочена. Она либо устала от разговора с Кэт, либо не была согласна с нею, но заметна была озабоченность и несочувствующие складки собирались над ее бровями.
– Любовь Михайловна, да не будьте же вы такой!.. Ну, слушайте, вы отнесетесь ко всему иначе, если я вам скажу так: я мучаюсь, потому что Борис меня не любит. Он не отвечает на мою любовь, как я ее даю… Я не могу и не стану этого терпеть. А причина все та же… Получается какая-то несчастная любовь и ее жертва – я! Не могу мириться с тем, что он меня ласкает тогда, когда он этого хочет и говорит со мной о милых, незначащих вещах, когда я не хочу ни о чем говорить… Он не чувствует, что я думаю иногда: «Поцелуй меня вот сейчас» или: «Взгляни на этот камень на моей шее»… И только потому, что все тончайшие нити моей души остались незамеченными из-за того слова. А его – для меня, вероятно. Создаются внутренние упреки, уничтожающие и всякую внешнюю любовь. И так у всех, у тех, что сходятся чужими благодаря ненайденному необходимому слову, неведомому им. Больше я вам не скажу ни слова, но мое решение твердо.
Екатерина Сергеевна перешла в другой конец комнаты. Любовь Михайловна вдруг стала нежнее и заговорила смягченным тоном:
– Все вы какие-то ненатуральные. Вот сегодня утром получила я письмо от Виталия.
– Это ваш племянник, что затворником в деревне жил? – спросила Кэт.
– Он чудачил все; остался без родителей, один, не знаю, что и как… но случилось однажды, что сорвался из деревни, пробыл один или два дня в Петербурге, вернулся в усадьбу и спустя некоторое время снова уехал и целый год проездил из курорта в курорт. Писал и уверял, что ищет любви и какой-то утонченности чувства, что должен его найти. Теперь отчаянное письмо: болен, жил где-то в санатории, устал и хочет дожить дни в деревне. Что это за ненужное выражение: «дожить дни»? Умоляет меня приехать к нему в имение и побыть с ним. А вдруг действительно болен? – задумчиво, точно сама с собой, говорила Любовь Михайловна.
В комнате стемнело. Обе женщины замолчали: одна, полная нервным подъемом, мешавшим высказывать верные мысли и говорить нужные слова, внешне успокоенная, рассматривала расшитую желтым, синим и коричневым бисером старинную сонетку, повешенную возле белого камина; другая ходила по комнате, останавливаясь у стены, где на обоях в цветы и банты висела карточка какого-то молодого человека, вычурно одетого не то для верховой езды, не то в костюм для гулянья в стиле сороковых годов.
Они не замечали присутствия друг друга и не заметили бы, что вошел еще кто-то, пока не раздался голос Несветской:
– Испугали меня; горничная говорит, что в кабинете сидят и беседуют с Екатериной Сергеевной, а у вас темнота и тишина! Где же Кэт?
И Несветская, повернув кнопку, осветила комнату и бледную, осунувшуюся Кэт.
– Что это вы? Не больны ли?
– Вот я хочу увести ее с собой в деревню, – вместо Кэт ответила Любовь Михайловна.
– Куда? В какую деревню? Когда? – изумилась Несветская.
– Виталий зовет меня пожить у него; нездоров, кажется. Я и поеду на месяц, на два.
– Ну уж ваш Виталий! Не пеняйте, что так к нему отношусь. Да и вы сами раньше не очень-то к нему благоволили. Развратный мальчишка и больше ничего. Недавно еще слышала о его петербургской истории.
– О какой истории и что такое сделал Виталий Федорович? – встрепенулась Кэт.
– Да как же, поднял здесь всех министров на ноги, а потом…
– Не стоит, не надо вспоминать. Это мне неприятно слышать; тем более, что никто основательно ничего не знает. Если почему-то приятели его, за глаза, называют эротоманом и рассказывают всякие небылицы, то, конечно, в этом виноват и он сам: жил Бог знает сколько лет безвыездно в деревне, неведомо как, потом – крайность: за границей чересчур много кипел жизнью и сам болтал какой-то вздор про себя, – примиряюще и успокаивая больше саму себя, говорила Розен.
Несветская заговорила о докладе в литературном обществе, о легкомыслии какой-то своей приятельницы, в сорок лет бросившей мужа.
Вмешалась в разговор и Кэт, защищая и доказывая справедливость поступка незнакомой дамы.
Любовь Михайловна испугалась, чтобы снова не заговорили о личной любви или вообще о любви, ставшей для нее сплошным лабиринтом, пробираться по которому прискучило, да и невозможно было при неравномерных силах своих утомленных спутников и спутниц, какими выказали себя за этот год окружавшие ее близкие друзья. Она старалась заинтересовать своих приятельниц поездкой в деревню, уговаривая Кэт ехать вместе с ней.
– Я не отказываюсь. Мне по душе ваше приглашение и недели через две я к вам приеду. А вы пока увидите, каково настроение вашего племянника.
– Непременно поезжайте, извелись здесь совсем, – заговорила Несветская. – Запретить вам нужно выезжать из дому. Лучше всего в деревню, за границей тоже не отдохнете…
Беседа снова оборвалась; принесли телеграмму.
Любовь Михайловна совсем встревожилась, прочитав в ней просьбу Виталия выезжать немедленно.
В доме сразу началась суета, телефонные звонки, посылали куда-то кого-то, захлопали дверьми, будто ехать на поезд надо было сейчас, а не завтра, – ведь сегодняшний все равно ушел!
Несветская и Кэт наскоро распрощались, предоставив Любови Михайловне самой устраивать домашние дела и улаживать поднявшуюся возню.
– Еще несколько дней и я свободна, – думала Кэт, засыпая в своей холодной постели.
Глава VIIОпять была весна, начало ее. И солнце перебегало с серых в черные полосы обоев на красные, шелковые стулья, на разбросанные на ковре вещи, на раскрытые сундуки и, попав в хрустальную вазу в руках Кэт, убегало зайчиком на стену и потом, спрятавшись, снова откуда-то появлялось и начинало веселиться и скрашивать беспорядок.
– Вторую весну, почти в то же время, я начинаю что-то, меняю мою жизнь. На этот раз не буду ничего начинать. Хорошо, что так складывается отъезд: приглашает Любовь Михайловна и не надо бесполезных тягостных разговоров с Борисом. А потом он поймет и все само собой сделается. Не правда ли, Аглая Степановна? – обратилась Кэт к сидевшей на кушетке Несветской.
– Может быть, и так, но я, милая моя, надеюсь и на то, что когда уедете и поймете все, вы сами все наладите и вывернетесь, – отвечала та.
– Не стоит спорить об этом. Не буду вас разуверять. Лучше я позову горничную и давайте разберем платья: что брать, что оставлять, что бросать.
Доставали из шкафов, укладывали в сундуки и картонки платья, шляпы, шарфы, блузы, кружева, еще сохранившие аромат духов, едва уловимый, но все же напоминавший их и еще что-то: быть может, слышанное или виденное в тот день, когда она была именно в этом платье и была завязана вот эта смятая лента… А может быть, если бы было одето вот то черное платье, было бы совсем другое?
– Не стоит больше носить его, но жаль выбрасывать…
– Положите его с вещами, что я оставлю в городе, вместе со старой парчой, – сказала горничной Кэт. – Остальное уложите, как я сказала. Надоело возиться, пойдемте отдохнем и посмотрим книги, что я везу с собой, – позвала она Несветскую.
– Нет, мне пора, – заторопилась та. – Надо домой. Хочу непременно докончить то, что писала утром, когда вы меня вызвали. Проститься с вами приеду на вокзал.
Поезд вышел из города, миновал его предместья и, изогнув вереницу вагонов наподобие хвоста ящерицы, свернул куда-то вбок и очутился довольно высоко над мелькавшими внизу дачами и деревенскими избушками, темными от ветхости и от почерневшей на дожде соломы. На влажном и блестевшем от вечерней росы лугу, несмотря на опускавшиеся сумерки, можно было различить белые ромашки и лиловые цветы клевера. Из прилегавшего темного леса выходило стадо. Проехав полустанок, снова мчались по гористому пути. Поезд замедлил ход…
Кэт стояла у окна, почти приникла лицом к стеклу и пристально смотрела вперед и вниз.
По узенькой тропинке быстро шли, обнявшись, две фигуры; мужчина, наклонясь к девушке и указывая рукой вдаль, говорил что-то, должно быть, радостное, потому что ее беспечное лицо улыбалось счастьем.
«Вот они любят, а все мы?..» – промелькнуло и на мгновение раздумье охватило Кэт, что-то заныло от жалости к себе.
ЧАСТЬ III
Глава IВиталий Федорович Мятлев, собственно, не помнил и не знал своей жизни до кончины родителей, что может показаться несколько странным, когда узнают, что в то время, как мать и отец его утонули, катаясь на яхте где-то близ Бретани, ему было уже двадцать пять лет.
Он говорил, что не помнит ничего о себе и не интересуется прежним, потому что только это потрясение вывело его из безжизненного состояния, в котором он находился до этого дня.
Стал ли он, действительно, чувствовать жизнь после этого печального события – неизвестно.
Известно только, что нежданно для родных и знакомых переселился в старое имение, до того времени совсем забытое и ненавидимое бывшими владельцами и наследником, предпочитавшими западные курорты.
Виталий Федорович даже не поморщился и ничем не выразил неудовольствия, когда при нем долго не могли открыть большим ключом заржавленный замок подъезда в доме с белыми покривившимися колоннами, когда заскрипели погнувшиеся паркетные полы в залах и пахнуло сыростью из маленьких, выходивших в сад комнат…
Напротив того, приказал управляющему тотчас же приготовить себе спальню своего деда и объявил, что с этого же дня будет в ней ночевать.
К спальне прилегала библиотека со шкафами черного дуба, наполненными книгами в разнообразнейших переплетах, тисненых золотом по сафьяну, и множеством истрепанных книг без переплета. Кроме шкафов в комнате, в углах были составлены столики и тумбы с канделябрами и каким-то бронзовыми фигурами, а на полу лежали рамы без картин, куски черного и красного дерева – ножки от стульев и разрозненные полочки. От шагов по полу сотрясались на стенах кенкеты и хрустальные подвески их искрились радужными огоньками.
Первые несколько дней Виталий Федоровичи безвыходно проводил время в этих двух комнатах, предоставив нанятой прислуге убирать остальные и мыть окна и двери во всем доме. В сад он долго не выходил и никуда не выезжал, потому ли, что было осеннее ненастье или потому, что углубился в книги, в найденные письма предков. А когда прибрали дом, то, выбрав несколько французских гравюр, подолгу рассматривал их, сидя поочередно во всех спальнях и на всех с выцветшей обивкой диванах, представляя себе живших здесь некогда своих кузин, тетушек и прабабушек…
Смотрел на попадавшиеся в ящиках комодов дагерротипы с женскими лицами, так не похожими на нынешние, которые он встречал и любил в Париже и которые были ему часто, хотя и не надолго, близкими… Или пристально всматривался в гарусную подушку с большими блеклыми розанами и незабудками…
Вообразив немало отрывков и приключений из жизни давнишних обитательниц старого дома, Виталий Федорович захотел поглядеть, как живут нынче? И, посетив однажды священника своего села, зачастил в маленький домишко с бальзаминами и запыленными кактусами на окнах.
У батюшки гостила дальняя его родственница, составлявшая предмет отчаяния всей почтенной семьи старика: тонкая, бледная девушка с узкими зеленоватыми глазами, задумчивым лбом, всегда молчаливая, полная чем-то, одной ей известным.
Когда Виталий Федорович пришел к ним в дом в третий раз, Дарья Николаевна, сидевшая на окне в прихожей, погруженная в чтение какого-то письма, удержала его в комнате:
– Вы должны мне помочь, через неделю мне нужно ехать в Петербург, не стану объяснять вам, в чем дело. Перед отъездом зайду к вам.
Виталий Федорович нисколько не удивился повелевающей манере говорить, а только, любезно поклонившись, выразил готовность услужить ей.
И не перед отъездом, а немного раньше пришла Дарья Николаевна в дом с белыми колоннами, увитыми остатками проволоки и засохшим, почерневшем на холоде и непогоде хмелем.
А когда прощалась через неделю, он сказал ей:
– Конечно, приеду, как только позовете и не только, если беда случится, как вы говорите.
Расставание и необычайная встреча, как будто она была не случайной и мимолетной, и ненужные слова сделали то, что Виталий Федорович стал думать, читать и даже, кажется, писать только о женщинах, до странности много и изощренно. Своими письмами к каким-то приятелям он вызвал те толки, о которых упомянула Любовь Михайловна в разговоре с Несветской.
Спустя несколько месяцев вдруг собрался на день или два в столицу, а после, возвратившись и пробыв короткое время в усадьбе, снова уехал уже надолго за границу, откуда вернулся больной, истомленный и, совсем расслабленный деревенской весной, лежал теперь по целым дням на террасе, прилегавшей к библиотеке.
Любовь Михайловна не замечала повышенного мышления, которое овладело племянником, а видела только, что здоровье его совсем плохо:
– Послушай, Виталий, почему ты не позволяешь вызвать врача из Петербурга? Мало ли, что там тебе наговорили в Давосе…
И Розен, поддерживая племянника под руку, уводила его с начинавшего свежеть вечернего воздуха.
– Милая моя тетушка, вы так убиваетесь, что и я начинаю терзаться. Я болен не только физически, лечиться я все равно не стану, а я болен от людей. Я знаю, что я безнадежен и от этого мне не тяжело, но я хочу легко прожить оставшееся, – покашливая, говорил Виталий и ласково смотрел на тетку черными неподвижными глазами и улыбался еще красными губами.
Любовь Михайловна довела Виталия до дивана в библиотеке, велела слуге укрыть его пледом и, силясь говорить, заметила:
– Скоро, часа через два, Кэт должна приехать со станции.
– Я рад, что она будет с нами, хотя и не знаю ее совсем. Где ей приготовили комнату? – оживился Виталий.
– Спальню и маленькую библиотеку, где жила твоя мать в молодости; как полагаешь, хороши эти комнаты?
– Очень, кроме моих комнат, я эти люблю больше всего. Давайте сегодня вместе пить чай, я не лягу спать до приезда вашей Кэт, согласны, тетя?
Любовь Михайловна тревожно слушала нервно-веселый голос, смутно угадывая ухудшение в болезни, согласилась и ушла чем-то распорядиться.
Виталий задремал и не расслышал, как подъехал к парадному крыльцу экипаж, как забегала по комнатам прислуга, и только, когда лакей поставил на стол близ дивана лампу, открыл глаза и спросил:
– Что тебе? зачем свет?
– Любовь Михайловна не знали, что вы почиваете и приказали просить в столовую, у них гостья.
Виталий сам дошел до столовой, где за круглым столом, накрытым для чая, сидели тетка и Кэт. У него хватило сил не только подойти к ним, но и бодро, приветливо поздороваться с Кэт, посидеть с полчаса и послушать их беседу.
– Во всяком случае эта книга меня увлекла с первой до последней строчки, читая ее, я думала только о написанном и сегодня же дам ее вам, – доканчивала Кэт свое повествование о чем-то прочитанном.
Виталий, увидя ее лицо, вспомнил почему-то Дарью Николаевну и, не то интересуясь, не то насмешливо спросил:
– Неужели вам удалось разыскать книгу, которую стоит читать? Я ничего теперь не читаю, потому что слишком много занимался людьми и все уже сам прочел, зачем же читать романы?
Кэт назвала французского романиста, соединившего беллетристику с подчас философским размышлением и поразительной легкостью языка.
Уходя к себе в спальню, Виталий подумал о Кэт: «И эта не все скажет и не просто уйдет!..» А ночью, разбуженный чем-то приснившимися, встал со своей белой лакированной кровати и, запахнувшись в фиолетовый халат, долго сидел в кресле у окна.
Снова вспомнил Дарью Николаевну, встала, точно ожила их встреча – вторая и последняя, в Петербурге; когда он совсем того не ждал, она вызвала его телеграммой. Памятуя свое обещание, – поехал; Дарью Николаевну приговорили к тюрьме на 5 лет; и узнал тайну, что неясно предчувствовал тогда в деревне; и огорчился, что казавшееся ему мистицизмом оказалось просто причастностью к политике…
Благодаря связям в нужном министерстве и родне, выхлопотал ей замену тюремного заключения годом поселения.
Увидел впервые близко безумную радость спасенной свободе и оставшийся день до высылки захотел провести вместе. Как будто хотел, чтобы перед уходом она почувствовала и насладилась самим движением беспечальной жизни; ездили весь день из ресторана в ресторан, по островам, напоенным маем и солнцем, на котором еще ярче блестели экипажи, моторы, туалеты и камни женщин, точно вызывали пользоваться жизнью. После театра, отдельный кабинет ресторана. Смятые ландыши и розы… Вино, много вина.
«Зачем и почему она?
Другую можно было бы никогда потом не видеть, но зачем она? Она была для иного, для любви…»
И понял он, когда через неделю получил в деревне от нее письмо оттуда, понял весь ужас, всю ненужность той ночи, понял, что она прощалась с ним перед смертью…
Еще через неделю прочел официальное сообщение, что Дарья Николаевна К. повесилась в Архангельске.
Тогда бежал из усадьбы, кочевал из санатории в санаторию, из курорта в курорт, искал чего-то, любовных утех, любви или правды, сам не знал чего…
И теперь?..
– Ах, не спать опять сегодня! Когда же, наконец, я усну навсегда? – вслух воскликнул Виталий.
Глава II– Не знаю что, одно ли мучение души или какое-то раскаяние, или жажда несуществующих наслаждений, прогнали меня тогда из деревни, но Дарью Николаевну я не забывал и там, среди всех женщин, увлечений даже… Я так виноват перед нею, что простил ей и санаторию чахоточных и Маделену, которую я любил только потому, что знал дольше других! А на самом деле я любил только ту, что умерла в Архангельске. Хотя я дошел до ненависти к женщинам и искал коротких встреч, хотел наказать всех тех которые сами ждут греха, живут им, а не то, что она… все-таки я знаю, что если бы мне суждено было еще жить, я любил бы ушедшую Дарью Николаевну. С другими я не представляю себе любви, – волновался, полулежа в соломенном кресле на террасе, Виталий и смотрел на Кэт, точно ждал ее слов.
Прошло недели две со дня ее приезда в имение. Они с Виталием как-то подошли друг к другу и, беспрестанно находясь вместе, открывали сокровенные мысли, рассказывали все о своей жизни, ничего не утаивая, до мелочей.
Кэт не сразу ответила, а продолжала молча смотреть не то на сквозившее между листвой клена голубое небо, не то на распустившийся в конце желтеющей песком дорожки круглый куст жасмина. В раскаленном дневным солнцем воздухе не слышно было ни единого звука.
– Екатерина Сергеевна, что же вы молчите? или вы на меня рассердились? – и Виталий, погрустневший, протянул к ней руку.
– Нет, меня только удивляет, что вы, в сущности не зная женщин, так возненавидели их. А то, что вы почувствовали, что вы могли бы любить Дарью Николаевну, если бы больше знали ее, мне близко и понятно…
– Так и должно это быть! – словно обрадовался он. – Ведь это почти тоже, что вы говорили про себя и Шауба; между нами тоже не было сказано нужное и только разница в обстоятельствах… А может быть, это прообраз? может быть, она только аллегорическое изображение будущей встречи? – снова, но другим голосом, спрашивал Виталий.
– Аллегория, поясняющая отношения мужчины и женщины, то что нас с вами так занимает? То, чем мы наполняем наши разговоры? Возможно… Горе ваше мне понятно, ведь все равно: потерять умершего человека или расстаться с живым, – отвечала Кэт и пристально смотрела на него, будто хотела убедиться, что, действительно, так говорит еще один человек.
Не пойму я все-таки, как вы с вашей умной душой могли дойти до дикости увлечения, до любви, как вы называете, к такой явной эротоманке, как Маделена, – продолжала Кэт.
– Я сам был таким, а она была только умирающая от туберкулеза и все же прекрасная красотой женщина. Я жил фантазией, вздорной, смешанной с моим настоящим горем, я хотел сгореть, – пусть вам не кажется пафосом это слово. – И вот, – и Виталий снова закашлялся, покраснел, потом побледнел, осунулся и сдавленным голосом докончил, – догораю, дождался своего, умру, жду смерти!
– Перестаньте, Виталий!
– Нет, не перестану; а вы не нервничайте, как истеричка, а слушайте; ответьте мне, как вы думаете, почему мы с вами так поздно встретились? Мы оба, не узнавшие до конца любви?
– Не суждено было узнать ее, но ведь понять, почему, удалось? Радость этого сознания сильнее страдания быть всегда над любовью. Суждено мне, быть может, остаться без любви такой, какая захватила всех, – увлекаясь, думала вслух Кэт.
– Что вы тут говорите? оба разволновались, кто из вас болен, трудно сказать даже? – спрашивала, сердясь, вошедшая Любовь Михайловна.
– Кажется, действительно, чересчур много наговорили – отдохните-ка, Виталий, а мы пойдем в сад.
И Кэт спустилась в сад за Любовью Михайловной.
– Ну что, видите теперь, что ему не лучше, что умирает? Страдает, что живет; вчера так долго говорил о смерти, ждет ее? – спрашивала и говорила Розен.
– Виталию плохо и я боюсь, что смерть… недалека; как тяжело это видеть, – ничего не поделать, а еще тяжелее, что именно он дошел до ожидания смерти, – печальная, в раздумье отвечала Кэт. – Но то, что он говорит, – искренно и только эта ужасная болезнь делает его переживания и страдания уродливыми.
Они подходили к пруду. На противоположном берегу его, подходившем к дороге, у мельницы, бегали голые ребятишки, перекликались, кричали и аукались из воды. Напевая заунывными голосами веселые слова и согнувшись под тяжестью коромысел с ведрами воды, поднимались на холм женщины с подоткнутыми подолами холщовых юбок.
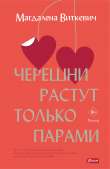



![Книга Молитва телу [Избранные сочинения] автора Владимир Королевич](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-molitva-telu-izbrannye-sochineniya-272008.jpg)



