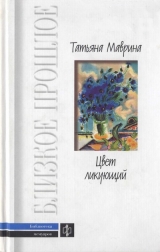
Текст книги "Цвет ликующий"
Автор книги: Татьяна Маврина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Гуси, лебеди да журавли [25]25
Впервые опубликовано: Гуси, лебеди да журавли. М.: Московский рабочий, 1983.
[Закрыть]
Читая блоковские весенние шахматовские стихи, забываешь о черных звездах его таланта.
– Как пройти в Шахматово?
– В Шахматово?.. Это в Барыньки-то? Недалеко. Идите до Осинок, а там через овраг или в обход леса.
Так мы и пошли по весенней раскисшей глине, миновали Осинки, миновали лес, мимо Гудина…
Тракторист показал:
– Вон туда!
Вот и камень, когда-то священный, водруженный на месте бывшей здесь усадьбы Бекетовых – Блоков. Сейчас – дважды священный Блоковский камень.
Еле зеленели бугры. Фиолетовые кусты, фиолетовая мокрая пашня, над ней яркие бусины: черно-зелено-белые сороки. Гудинская пашня, за ней деревня, через которую когда-то проходил тракт от Подсолнечной на Тараканово и, наверно, дальше, на Рогачево. Цвели первоцветы… «Весенняя таль». С особым удовольствием мы ходили по этим «блоковским» косогорам, по весенней грязи, где когда-то он ездил на белом коне, как былинный богатырь, знавший хорошо «живые лесные слова» заговоров:
Я могуч и велик ворожбою,
Но тебя уследить – не могу.
Полечу ли в эфир за тобою —
Ты цветешь на земном берегу.
Опускаюсь в цветущие степи —
Ты уходишь в вечерний закат…
Возвращались мы через глубокий овраг на Осинки.
Шахматово стоит за зубчатым лесом, за глубоким оврагом. Овраг в детстве – это уже само по себе волшебное место, где и «нежить», «немочь вод» и «забытые следы чьей-то глубины», и «нет конца лесным тропинкам». Когда мы шли, на дне его еще бежал весенний ручеек. Овраг был дикий и жуткий, росли крупные белые анемоны среди леса по его склонам.
Переходили мы этот овраг и летом, по натоптанной уже туристами тропе, везде цвели лесные колокольчики – гирляндами, на длинных стеблях.
За оврагом сирень, за сиренью дом. В доме мезонин. В мезонине поэт пропиливает «слуховое окошко», чтобы открылся кругозор, необъятный, неохватный глазом. Надо поворачивать голову, чтобы оглядеть шахматовские дали – бугры с языками леса, сползающими к долине маленькой речки Лутосни. Лучше всего на них любоваться с таракановского – аладьинского бугра, если ехать «к Блоку» от Новоселок по его любимому Рогачевскому шоссе. С него и начались мои пейзажи «блоковских мест», особенно весной.
О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Вокруг Шахматова много озер и болот, среди них есть одно загадочное, приметное – знаменитое Бездонное озеро близ Сергеевки.
Белый конь чуть ступает усталой ногой,
Где бескрайняя зыбь залегла.
Так я нарисовала это озеро. Может, дед поэта ботаник Бекетов, вслед за Менделеевым, выбрал для жизни эти мокрые места, ценя болота как «кладовую влаги», нужную для буйного роста (очень, очень буйного здесь!) всяких трав на полях, во «рвах некошеных»; а поэт болото воспел влюбленно: «Полюби эту вечность болот…»
Во всех стихах поэта мы ценим и любим еще и недосказанное: дух шахматовских синих далей, оврагов, болот, полей ячменя, цветочных зарослей, журавлей – его Россию, нашу землю, с голубыми глазами соек по розовеющим весной березовым рощам. Это как бы душа его стихов. Поэтому так интересно ходить по «блоковским местам» – рисовать дороги, тропки, деревни, мемориальные места и все вокруг.
А рядом был шорох больших деревень
И жили спокойные люди.
Названия этих деревень чаще самые будничные:
Тараканово, Аладьино, Ивановское, Покровское, Михалево…
Лучше звучат: Шахматово – какие-то шахматы, шахи; Гудино – «гудок и гусли» из песен, Трехденево – три дня сказок; Новый Стан – что-то таборное; река Лутосня – сказочный Лутоня, Луток, Лутка, разновидность утки или лутьё – молодой липовый лес, годный для дранья лыка. Река эта – сейчас почти ручей – когда-то была шире, прорыла долину, разделила дали шахматовские и дали аладьинские, по ней даже лодки ходили. По берегам у Тараканова стоял Церковный лес. Чтобы попасть к невесте в Боблово, Блок должен был обязательно где-то переехать речку Лутосню.
В Боблове немыслимые заросли всякого бурьяна, с какими-то особыми красивыми голубыми цветами, очень жгучими, если их сорвать. Дикие крупные яблоки и очень крупная вкусная черемуха. Изрешеченная временем обширная рига-сарай. Бобловская седая березовая роща. И скачут кони…
На переднем мысленно видишь молодого Блока. Рисовать же этого я не стала, потому что в иллюстрациях (если вообще они могут быть) к лирическим стихам не требуется повторения слов, они должны лишь как-то следовать за стихами.
Блока я видела в мае 21-го года в Политехническом музее на вечере. В передних рядах сидели разодетые в вечерние платья дамы. Весь амфитеатром построенный зал был полон. Мы, вхутемасовцы, прорвались, конечно, без билетов, толпой, и стояли в проходе около эстрады.
Вот вышел Блок – любимый, обожаемый поэт моей юности. Вот – тишина в зале, и голос с «того света». И сам он, больной, уже был нездешним. Никто не кашлял, не чихал. Слова падали медленными каплями в тишину зала. Видно было, что ему говорить трудно, а нам слушать надо… и он читал. Худой, окаменелый. Но после этого вечера по-другому его стихи я и читать не могу, и слушать чье-либо чтение по-другому тягостно.
Только так – медленно, негромко, с оттяжкой конца строчки, последней буквы в строчке (если она гласная), монотонно, без точек и запятых, без концовки-закрепки… Последнее слово падало в бездонную пропасть памяти тех, кто его слушал.
Откуда Блок взял голос и ритмы для чтения своих стихов? Наверное, из былинных напевов, из народных причитов, заговоров, где каждое слово весит много. Этим поэт как бы зашифровывал свои страстные слова о звездах, любви и жизни.
Голос его живет вместе со стихами во мне до сих пор, а весь его зримый, шахматовский мир я расположила по схеме, продиктованной самим поэтом в конце второй главы чернового варианта поэмы «Возмездие»:
Пропадая на целые дни – до заката, он
очерчивает всё бо́льшие и бо́льшие круги
вокруг родной усадьбы.
И я назвала «Большим кругом» длинный путь по речке Лутосне (начиная от Блоковского камня), через Рогачево, по синей от свежего асфальта дороге через четыре моста.
Речка-невеличка, долина ее на редкость живописна. Рука не устает рисовать все подряд – горизонты, изгибы полей, тропок, все, что увидишь вблизи и вдали. Вот проскакал зайчик, стоит у дороги чибис и обсыхает на солнце. Машины он не боится, как не боятся ее и журавли, которых нам удалось поднять из болота лишь охотничьим особым криком водителя машины.
Речка вьется с причудами, то теряется, то разливается. Гремучий ручей! По звуку, почти весеннему (ехали после дождя), мы его и нашли, остановились и потеряли себя в его зарослях, в журчании коричневой воды, в белых облаках, вертикально стоящих над кустами. Оказывается, мало «найти себя», интереснее «потерять себя».
В густой траве пропадешь с головой…
Погружался я в море клевера…
У Зубовской фабрики, куда часто ездили Блок и Любовь Дмитриевна, речка Лутосня широкая, обросла большими ветлами, и мост через нее каменный. Мужики с яркими пластмассовыми тазами идут в баню и из бани. Мокрыми сосульками на лице и шее висят их расчесанные волосы.
Второй большой мост. А шоссе такое густо-синее, что делит пейзажи кругом, как ножом. По бокам цветут акации, сирень, сизые елки с обрезанными верхушками. Наперегонки вылезают из густой травы купавки, синие столбики, раковые шейки, герань, лютики, сурепка большими букетами. «Пора цветенья началась»… Дорога манит.
«…И всегда тропинка или дорога – главное, среднее, спереди и сзади, оставленное и манящее в гору и под гору. Тут особенные мысли… Тут – я у себя».
Особенно по душе мне последние слова: «Тут – я у себя».
Дороги и тропки я люблю, даже слишком, от жадности.
Третий мост в Заовражье. Речка уходит из холмов и долов в торфяные ровные поля, незаметно впадает в реку Сестру (что течет из озера Сенеж), у Усть-Пристани, Пустыни (где до сих пор еще стоит церковка XVI века) сливается с рекой Яхромой, а потом у Дубны – Волга.
Вот я и встретилась с Блоком географически. На Волге я выросла.
Ровные горизонты. Игра линий лишь у речек и деревень.
Верхом сюда Блок, конечно, мог приезжать, соблазняясь «степью», «Куликовым полем».
Очень большая разница в пейзажах. То холмистые дали, извивы полей и тропок, то ровные дороги. Пойма Волги, где может «река раскинуться и течь, грустить лениво».
А синяя дорога ведет дальше, к Рогачеву, около Покровского поворот на Боблово, к Менделееву, в другую сторону – монастырь.
Залег здесь камень бел-горючий,
Растет у ног плакун-трава…
Бел-горюч камень в данном случае – монастырь Николо-Пешношский под Рогачевом, монастырь из белого камня. Тут плакун-трава растет в изобилии и только в этих местах всей шахматовской округи.
Рогачево после Михалева, Трехденева. Рогачево – столица грачей, так их там много, ходят по улицам вместо голубей.
Городок? Поселок? Почти нетронутые захолустные фигурные фасады, чердаки. Уютная площадь и величественный купеческий, может нелепый, собор в середине… и речка Дурочка.
Туча, касаясь своим краем горизонта, шла за нами, большая, сизая, а по краям – золотистые кудри облаков. Ливень. Радуга. Мы поворачиваем на Новоселки.
…Аладьино с широкой зеленой улицей между рядами домиков самых разных стилей. Ниже по косогору речки Лутосни – Демьяново, Костюнино. И везде голубые дали, ячменные поля – в прошлом году, этим летом – пшеница.
– А, вы Блока знаете! – сказал нам тракторист. – Внук Бекетова здесь не ездил к своей невесте в Боблово, наши деревни были вольные, Драчливые. Ездил он через Новоселки – так мне бабка рассказывала.
Верно ли, нет ли, но интересно то, что местное население уже вошло в круг людей, знающих Блока.
Спускаемся ниже. Четвертый мост через Лутосню у Тараканова, на дорожном знаке – олень. Большой круг объехали. Завернули к шахматовскому бугру.
Старый дом глянет в сердце мое…
И овраг, и бурьян,
И в бурьяне – колючий шиповник…
Сейчас, когда не тронуты дикие места около Блоковского камня, достаточно просто пройти по оврагу, по скосу луга, где жил когда-то поэт, чтобы понять всю особенность этого места.
«У нас дожди, солнце иногда выглянет, все страшно зелено, глухо и свободно, „как в первый день созданья“!..»
Сегодня здесь все играет от клубящегося неба. Все налито цветом, густым и ярким, с черными зубцами елок. «Здесь никто не щадит красок…»
Москва. Сорок сороков [26]26
Впервые опубликовано: Москва. Сорок сороков. М.: Московские учебники, 2001. В настоящем издании публикуется по авторской рукописи.
[Закрыть]
В 1921 году все наше семейство собралось в Москве. Преодолев длинный путь в теплушке, мы приехали из сорокаградусного сарапульского мороза в мокрую Москву. Маму, переболевшую тифом, с бритой головой, в кенгуровой ротонде отправили вместе с вещами на машине, а мы пошли пешком к знаменитой Сухаревой башне, возле которой нам отныне предстояло жить. Подойдя, мы остановились, остолбенев от восторга, и стали ее разглядывать.
Еще в Нижнем Новгороде читала у Грабаря про то, что второй этаж Петр I пристроил потом, для «земского приказа», большой аптеки и питейного заведения. И часы установили на башне – со звоном.
А двоюродная сестра, староверка, говорила другое: «жил де тут чернокнижник Брюс и творил свои дела. Он даже „Голубиную книгу“ – свод житейских мудростей и колдовских приемов – замуровал в стенах башни». Этот рассказ ближе к облику, стилю башни. Не простая она стоит одиноко на широкой площади, где мы теперь будем жить у отца в доме № 6. Пожалуй, родились мы под счастливой звездой. Такая торжественная (иначе не назовешь) получилась встреча с Москвой! Жить, наверное, будет интересно?
В этом доме на Малой Сухаревской площади я прожила 40 лет и не видела, как башня-ворота исчезла бесследно. Вопрос староверки – куда девалась «Голубиная книга» – остался без ответа.
В 1929 году я окончила ВХУТЕМАС, стала художником. Писала на холстах, масляными красками: пейзажи, модели, натюрморты. Увлеклась импрессионистами, на картинах которых я училась в двух чудесных галереях Москвы: Щукинской и Морозовской. На хлеб зарабатывала в детских издательствах.
1941 год! Война изменила жизнь. Темой стала улица. На последнем холсте написала голубые воротники матросов с девицами на танцплощадке в ЦДКА. Писать маслом дальше уже не смогла: некогда, не на чем и нечем, перешла на карандашные рисунки в блокноте.
Я нашла свою новую тему не сразу. Как-то раз, проезжая по Сретенке, из окна автобуса я разглядела церковь XVII века, спрятавшуюся среди домов и заборов. Ее шатровая колокольня стояла прямо на улице. В Пасхальные дни на ее колоколах виртуоз-звонарь (говорили, что это был брат профессора консерватории А. Ф. Гедике) наигрывал «Сердце красавицы». Колокольни уже не было, да и церковь могла погибнуть от бомбежек. Чем я могу помочь красоте? Надо скорее зарисовать все, что сохранилось в Москве, подумала я, пусть хоть на бумаге останется. Не подвела меня Сухарева башня, сказала, куда смотреть. Я стала чуть не каждый день ходить по Москве и потихоньку рисовать.
Заново открывала я для себя любимую еще со времен Нижнего старую русскую архитектуру. Часто заходя в чужие подъезды, быстро зарисовывала только что увиденное по памяти. В 1943 году чтобы рисовать на улице, нужно было получать в МОССХе разрешение властей со всеми нужными печатями. А если попадешь все же в милицию, секретарь МОССХа – милая Кира Николаевна Львова – обязательно вызволит. Можно было рисовать подробнее, листы побольше, бесстрашия тоже. Исходила все возможные улицы, дальние края, чаще пешком. Всю войну рисовала Москву, скопилось очень много акварельно-гуашевых листов на пьющей краску серо-голубой бумаге или картонках.
Расскажу немного об этом времени. 1941 год в Москве бомбежки, затемнение окон, фонари не горят, на дорогах и тротуарах белые полосы, чтобы ориентироваться в темноте.
Еда в городе исчезла, в рыбном магазине только черная икра по 80 рублей кило, 80 рублей и картошка на базаре – с бою. Икру есть большими порциями оказалось очень противно… но и ее скоро не стало. Искали мороженую картошку и что придется.
По инерции еще сохранилось хождение в гости, хоть угощение было очень убогое: котлеты из картофельной шелухи на вазелине, пирожное из кофейной гущи, чай с сахарином – но из самовара.
От дома нашего друга искусствоведа Е. Гунста расходились в кромешной темноте. Светили лишь звезды на черном небе, большие, будто близко наклеенные. Темнее неба был синий бархатный берет Н. Власова.
До сей поры невиданная красота города без огней с ночным небом. Можно было и Млечный Путь и все созвездия разглядывать. Только рисовать нельзя.
У меня сохранилась акварель нашего прощания в малом Гнездиковском переулке: синий берет нашего друга-коллекционера и звезды.
Эвакуация опустошила город. В нашей коммуналке из 14 комнат и 38 жителей осталось только 4 жилых комнаты, 10 жильцов и кошка.
Дождавшись лета, мы, забрав маму (отец умер в 1940 году 29 февраля) и рулон снятых с подрамников холстов, – уехали, претерпевая все трудности железной дороги того времени. Уехали в Троице-Сергиеву лавру, к Катиной свекрови, в ее маленький, уютный, вместительный, голубой домик над оврагом за Лаврой.
Можно было сиять от счастья. Бомбежек нет, воздушную тревогу Левитан не объявляет, огни не тушат, базар, (хоть и дорого) но торгует. А кругом красота – хоть лопатой загребай! Работать только не на чем и нечем, а так хочется все зарисовать!
Не подвели меня глаза, сказали мне куда смотреть. Я сделала выбор – моя мастерская, моя натура: улица, земля, небо и главное церкви – древнерусская архитектура может погибнуть от бомбежек в Москве.
Осенью 42-го года переехали домой. В Москве жизнь немного наладилась, дали «карточки», за обедами пешком ходили на Масловку. Купили бревна на дрова. Свалили их прямо в комнате, там же пилили, кололи, из экономии топили печурку-буржуйку как и все.
Рисовать в Москве начала потихоньку, незаметно. Первая церковь была загородная, за Останкиным, заросшим лесными колокольчиками в те годы. Красная с золотой головкой. Потом осмелела, и пошли улицы, сначала ближайшие, потом дальние. Все пешком.
Наброски делала часто вслепую, водя карандашом по картонке в кармане пальто, потом в чужом подъезде дорисовывала по памяти и уже дома завершала дело красками и пером.
Рисовала запоем, каждый день, а дома делала акварели и гуаши. За два года – 1942–1943-й – собралось много церквей, монастырей, Кремль со всех сторон, старинные дома – сизифов труд!
Недаром Камю сравнил нас, художников, с античным Сизифом, который в Аиде, без неба и времени, занимается своим камнем, не требуя награды. Так и художники за свой камень не требуют награды.
Рука сама начинает рисовать, писать, а потом уже и голова этим заражается. Всё начинается с кисточки или карандаша, пера.
И память развилась за годы рисования на улице очень сильно. Стала вторыми глазами. А чтобы не было заучиванием наизусть – делаю с натуры кроки обязательно.
Начну альбом с Кремля пейзажно. Разрешение там рисовать художникам не давали, у меня нет поэтому кремлевских подробностей, что нужно было для «сорока сороков».
До 17-й страницы даю московские типичные улицы с храмами, начиная с ближней Сретенки; остались на ней две церкви обычного московского склада. Помещаю их на одном листе.
Сретенка улица интересная, историческая, может вспомнить, как в 1395 году Русь победила непобедимого Тамерлана, вызвав на помощь из Владимира чудотворную икону Божьей Матери. Сретение – встреча ее с москвичами была на Кучковом поле, ныне Сретенские ворота, а тогда дорога прямоездная от Кучкова поля на все города молодой Ростово-Суздальской земли. От этой встречи и пошло название улицы Сретенка.
С 17-й страницы «Золотая эра» в истории русского зодчества. Главой его считается всемирно известный Собор Покрова, что на рву, построенный в 1555–1561 годах – «Василий Блаженный». Храм обетный. Венчает память о победе над последним остатком татарского ига – Казанским ханством. Понадобилось 100 лет борьбы, два похода Ивана Грозного: в 1547 и 1549 годах, чтобы в 1552 году была полная победа, очень нужная стране.
Царь ликовал и, задумав памятник сделать большой, пригласил лучших русских мастеров Барму и Постника из Пскова.
Они, чувствуя другие времена, взяли за образец давнишнее народное деревянное храмостроительство и превратили его, с помощью иностранных навыков, в «каменное диво». Мастера пользовались опытом Дьяковской церкви, построенной в 1529 году. Даже форма кирпича одинаковая. Может, и мастера одни и те же? Есть и такие догадки. А Василий Блаженный стал апофеозом нового храмотворчества. «Такого еще не было на Руси» (из летописи).
Я привезла из детства свой нижегородский восторг перед этим храмом. «Огород чудовищных овощей» – так говорили у нас про Василия Блаженного.
Гимназисткой я потихоньку от родителей в 17-м году ездила в Москву его посмотреть, наряду с Третьяковкой, где «Три богатыря» Васнецова и «Демон» Врубеля. А сейчас в Москве рисую его с натуры. Рисовать обширный, цветной, узорный храм, сложно и плотно скованный, было сверхинтересно. Как получится? Глаза плавали в узорах, а все вместе сохраняло пирамидальную форму из 9 храмов. Шатровый – посередине «Покрова», вокруг восемь столповидных «престолов» с большими главами разного узора и расцветки; и крыльца. Везде белые потолки, расписанные цветами, их много. Взяла этот мотив на обложку альбома.
Чтобы рисовать на Красной площади, нужно было особое разрешение властей. С таким разрешением я как-то стою около храма и рисую в блокноте. Из Спасских ворот вышел генерал и, подходя, сочувственно сказал – «ну нарисовали и идите скорее домой, здесь опасно!». Но я не боялась, до определенного часа меня охраняли два милиционера.
Рисовала я храм много раз, постигая премудрости его построения и общий вид, в пейзаже больше всего меня привлекал западный престол – «Вход Господен в Иерусалим». Я прочитала, что это сделано не случайно. В Вербное воскресенье при зажженных пучках плакун-травы (вместо свечей) сам царь изображал «Шествие на осляти в Иерусалим».
В народе весь храм звали Иерусалимом, как недостижимое совершенство. XVI и XVII века восхищались им, а XVIII решил, что это нечто восточное, татарщина, магометанское, XIX веку – было безразлично, только XX снова вернул свои восторги.
Выпишу у Е. Забелина из книги «Русское искусство» несколько отзывов иностранных современников о Василии Блаженном.
Пестрая, яркая и нелепая раскраска… Церковь Иерусалимская в Москве… бесспорно прекраснее всех прочих… Я не видывал ничего ей подобного и равного, она построена по образу храма Соломонова… Почти своенравное, значит оригинальное, независимое, своенародное… Фантастическое варварское великолепие… Это чудище… Самый образцовый порядок… Самый диковинный из всех в России… Запутанный лабиринт…
Василий Блаженный вошел в историю мировой архитектуры и до сих пор красуется на Красной площади.
XVI и XVII векам русской церковной истории уделено особое внимание у всех авторов. От пятиглавых соборов и храмов византийского образца всемирно прославились «сорок сороков» издавна. Теперь же проснувшееся, пусть на недолгое время, чувство своей родной красоты дало ряд новых, нигде не виданных храмов – шатровых. «Сорок сороков» украсились ими, особенно по окраинам, да и кремлевские башни получили другое очертание. Я даю в альбоме все, что мне удалось нарисовать из шатровых храмов. И их начало в Коломенском – чудом уцелевшем в сохраненном виде уголке истории.
Мы пришли в музей (Коломенское – музей с 1912 года) через деревню, где стоял тогда старый дом Кошкиных, построенный, по легенде, из бревен разобранного царского дворца. Население драчливое, в духе всей истории Коломенского, подмосковного поселка, первым принимавшего все невзгоды столицы. Кто тут только не побывал! И Дмитрий Донской, и Лжедмитрий, и Петр I (мальчиком), и Болотников, и даже «денежный бунт» произошел в Коломенском же. Встречали нужных гостей с почетом – «золотом, соболями и хлебом…».
Музей на горке полон каменных построек, удивляет все крепко поставленное, удачно сложенное. Мысленно рисовался и деревянный дворец среди рощи, от которой сохранились еще многолетней давности дубовые пни.
Первая шатровая церковь Вознесения построена здесь в 1532 году. «Верх на деревянное дело», – писали про нее в летописи. Гениальный строитель сложил из кирпича свою излюбленную в деревянном храмовом зодчестве форму – шатровую.
Чтобы скрыть для зрителя каменную тяжесть церкви, он догадался большой шатер заполнить пересекающимися линиями каменного жемчуга. Поставил ее высоко над рекой Москвой, где далекие дали с силуэтом Угрешского монастыря. Пейзаж красив, церковь в него вписалась хорошо. Стоит одиноко и сама на себя любуется, любуемся и мы.
Любовался ею в XIX веке и композитор Берлиоз. Церкви идет его описание тишины: «Ничто так не поразило меня в жизни, как памятник древнерусского зодчества в Коломенском… для меня чудо из чудес… Красота целого, во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина, какой-то новый вид архитектуры, стоял ошеломленный».
А летописец пишет: «Досели такой не было». В хорошую погоду из Коломенского видно и «царское село Остров», где шатровая церковь Спаса Преображения, этого же времени, из белого камня с массой кокошников, их до двухсот. По бокам два придела. И про нее пишут в летописи: «Такого еще не было на Руси».
За оврагом над той же рекой Москвой другой храм – Дьяковский. Другой мастер, а может, и один. На широком постаменте пять храмов вместе. В строгой нарядности верхних этажей, в середине главный храм – Иоанна Предтечи, увенчанный выше всех «короной» из белых полуколонн. Храм торжественно наряден, в народных традициях, блестящая страница воскрешения вековых вкусов. И про него пишут в летописи: «Такого еще не было на Руси». Основан он в 1529 году, его считают первым храмом нового стиля в этом веке, что послужил примером девятистолпному Василию Блаженному на Красной площади.
Когда я рисовала в Коломенском, сотрудники музея запирали меня в Соколиной башне, чтобы никто не мешал. Когда кончала работу, я кричала в окно, меня отпирали. Музейщики мне всегда помогали!
Продолжу про шатровые храмы: на Чистых прудах – загадочная Меншикова башня – храм Архангела Гавриила. По приказу А. Д. Меншикова он был построен архитектором И. П. Зарудным с итальянскими мастерами в 1704–1707 годы. По воле заказчика шатер сделали выше Ивана Великого на 1,5 сажени. Наверху водрузили фигуру Архангела Гавриила с крестом. После пожара верх сгорел, вместо фигуры поставили вазу. Меншикова сослали в Сибирь, от новых хозяев храма следов не осталось… Сохранились красивые валюры у крыльца, я их даю в альбоме. Они тоже загадка.
Трехшатровую церковь на Потылихе я разыскала по подсказке Татьяны Григорьевны Цявловской на пустынном романтическом бугре, рисовала, любуясь ее шатрами и пейзажем окраины Москвы.
А белую красоту с темными шаровидными куполами везде – мы с Николаем Васильевичем Кузьминым нашли, блуждая по оврагам и свалкам, в Медведкове (вотчина князя Пожарского). Церковь Покрова начала XVII века. Зеленая крыша шатра на осеннем небе, ниже группа кокошников. Высока и ослепительна была! Сейчас в черте города.
Уже после запрещения Никоном строить шатровые храмы, по реке Москве за одно десятилетие обильно возводятся вотчинные храмы совсем нового стиля, с колокольней в верхнем восьмерике, так называемое «нарышкинское барокко». Просуществовало оно, бурно развиваясь, недолго – с 1690 по 1720 год. В 1723 году, 11 марта, Синодом было запрещено строить многоярусные шатровые храмы. За это время выросли: церковь Покрова Богородицы в вотчине дяди Петра I в Филях (1696–1699); церковь Нерукотворного Спаса в вотчине боярина Шереметева в селе Уборы (1693–1697); престол Живоначальной Троицы и престол Знамения Богородицы – в вотчинном селе бояр Нарышкиных – Троице-Лыкове (1690–1704). Завершением «нарышкинского барокко» – предусадебного храмостроительства – считают церковь в селе Дубровицы, в 60 км от Москвы.
Храмы строились по обычной схеме: на четверике убывающие кверху восьмерики, в верхнем – звон. Стены из кирпича 8×14×28, сами крепкие и толстые, до 2 метров. В них лестница наверх, освещенная окнами. Постройки до сих пор не требуют ремонта. Весь храм ставили на подклети, круговой парапет обязательно. Украшение стен снаружи и внутри обильное. Иконостас бывает разной формы и убранства, как отечественного, так и западного. Невиданная раньше роскошь, как будто внутреннее убранство выпустили наружу.
Церковь в Филях построена на берегу Москвы-реки, при впадении в нее речки Фильки. Храм имеет два придела: верхний – Нерукотворного Спаса и нижний – Покрова Богородицы, сохранивший имя прежде стоявшей здесь деревянной церкви. Внизу широкие лестницы сливают храм с землей, ее можно смело назвать пейзажной и окружать растениями. Все ее мыслимые и немыслимые узоры считаются типовым образцом «нарышкинского барокко».
Еще один образец филигранной архитектуры этого стиля – церковь в селе Троице-Лыково. При царе Василии Шуйском подмосковное село Троицкое пожаловано в вотчину Б. М. Лыкову, с 1680 года числилось за приказом Большого дворца, в 1690 году перешло к Л. К. Нарышкину, а с 1698 года стало вотчиной семьи Нарышкиных, которому принадлежало и село Фили. Каменная церковь выстроена во время, когда село уже принадлежало Л. К. Нарышкину, по обычной схеме вотчинных храмов-колоколен. У нее тот же четверик в основе, на нем убывающие восьмерики, очень много сквозных галерей, внутренних и наружных, что придает стенам легкость, несмотря на толщину.
Мы приплыли глядеть церковь на лодке, другого транспорта не было. Церковь оказалась такой нежной, деликатной, разукрашенной будто вышивками. Нарисовала ее, не один раз, скромно, несмотря на все читаное, а река голубая и полноводная осталась в памяти. Коринфские капители, детали с мотивами народной русской резьбы.
То ли время было ограничено из-за лодки, то ли река была хороша и близка, надо было посмотреть, что внутри, крест на верхнем восьмерике – ювелирной работы, восьмиугольные окна и прочие затеи.
Про Уборы напишу отдельно.
Если Фили – в белых оборках, а Троице-Лыковская церковь – ювелирная работа, Уборы – памятник гения архитектуры крепостного Бухвостова Я. Г. – вне всякого сравнения, рука его видна во всех смелых формах и деталях. Будто храм вырос из земли сам, как, например, береза. С березой часто сравнивают и его колонны, только Бухвостов мог «березовой» колонне сделать коринфскую капитель и сказать: «хорошо».
Цельно и четко смотрится церковь в Уборах и манит к себе сейчас молчаливо: издалека видно, и едешь к ней полем, лесом. К Уборам! Стоит на излучине реки Москвы, можно посидеть над рекой, под большими пихтами послушать гомон галок на церковном кладбище, не спуская глаз с деталей церкви. Я писала ее еще в 30-х годах маслом. Рисовала без конца. «Редчайший памятник не только русского, но и мирового искусства», – так про него пишут.
После запрещения Никоном в 1653 году строить храмы с шатровым верхом в высоту – решено было оставить старую форму церкви, традиционную кубовидную о пяти куполах.
Поражает разгул фантазии своих, русских, всему научившихся, строя деревянные храмы и постигнув иностранные премудрости. Полюбивши «шатер» еще в народном зодчестве, мастера не хотели с ним расставаться – быстро нашли выход. Нельзя строить шатер на храме, дадим его на крыльцах, на колокольне, на притворах, на воротах.
Получились замечательные ансамбли из куполов и шатров, такие как: «Путинки», «Грузинская Божья Матерь», «Григорий Неокесарийский», в Кадашах, в Новодевичьем монастыре, в Измайлове.
Эти комбинации церковных форм в шатровом храме: высота, красота и свет от оконцев – напоминают оркестр в музыке, особенно «Путинки» (ц. Рождества Богородицы). Пять шатров, узорные стены и купола. Общий вид заманчиво красив при любой погоде и днем, и ночью. А из шатров и куполов вперемешку можно было почти всегда извлечь музыкальную мелодию, близкую Чайковскому, а то и Моцарту. Это моя любимая и самая близкая от дома церковь в Москве.
А Никон, непонятно почему, запретив в 1653 году шатер, в 1657 году начал постройку монастыря на Истре в своей патриаршей резиденции. Стены, башни, ворота и Воскресенский собор – большой шатер из изразцов. До войны мы жили шесть лет на даче на Истре недалеко от Воскресенского монастыря и нагляделись на блестящий широкий шатер Никона. Он так блестел на солнце, что не вписывался в пейзаж (рисунков не осталось). Часто подходили ближе, рассматривая его причуды и красоты. Интересно было заглядывать и в нижние окна – очень много синего бархата. Восемнадцатый век, решили мы про себя, – значит, после Никона. Царь сослал его в Ферапонтов монастырь. Позднее в Ферапонтовом монастыре, с разрешения заведующего музеем, мы даже сидели по очереди в деревянном кресле Никона. Вот судьба!







