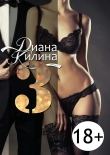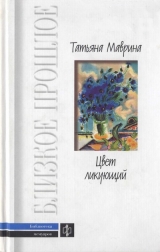
Текст книги "Цвет ликующий"
Автор книги: Татьяна Маврина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Рассматривать икону начинаю с левого верхнего угла. Ангел возвещает волхвам о звезде, о народившемся где-то царе. Волхвы едут «по звезде», по черноте ночи, на Восток. Поклонившись рожденному и принеся ему дары, той же черной ночью они скрытно (что показано щелью в скалах) по повелению ангела, боясь Ирода, уходят из иконы, покидают место действия, которое разворачивается, чем ниже, тем трагичнее.
Мария с сыном «бегут» из Вифлеема, где плач матерей, избиение младенцев по повелению Ирода. Сухие растения по горкам подчеркивают трагедию. Не трагичны лишь краски.
Все события, несмотря на то, что их очень много, хорошо читаются, не мешают друг другу, одно с другим сливается, цвет в цвет отлично вписывается у этого композиционно очень одаренного художника, блестяще решившего такую сложную тему.
Икона, конечно, рассчитана на многочисленных зрителей. Где-то на Северной Двине в небольшом деревянном храме Рождества она, наверное, стояла по правую сторону царских врат, привлекая своим красноречием всеобщее внимание, скорее как картина-рассказ, а не икона для молитвы. Была, наверное, знаменита на всю округу.
Голубая, звук густой, если говорить по-песенному. Густая же охра, неяркая темная красная, кусков белого очень мало, четко читается темный мафорий Богоматери и черные куски ночи, тьмы провалов. Она даже в черно-белом снимке пленяет своей игрой черного и светлого.
Есть у нас еще одна очень сложного рассказа большая доска, тоже северных же писем – «Илья Пророк с житием».
Илью Пророка сравнивают с Перуном.
Почитаю о Перуне: он с золотыми усами, перед ним вечный огонь, в жертву ему приносили волосы и бороды. Можно вспомнить из «Путешествия Афанасия Никитина за три моря» те же обряды культа Шивы в Индии (выводов никаких не делаю, просто вспоминаю аналогичное).
Перун – гром. Литературный «громовержец», Зевс тучеводец, повелитель облаков. Народное «громостреляние». Описание наружности Перуна не всегда совпадает с традиционной темно-коричневой милотью иконного Ильи, подбитой козьим мехом зеленоватого цвета, охряной рубашкой и шейным платком с каймой.
(На нашей иконе платок с красной каймой на одном лишь клейме с вороном.)
Золотые усы Перуна и круглые глаза идола можно, при желании, углядеть на Остроуховском поясном Илье на красном фоне (из ГТГ).
Из детских уроков истории известно, как в летописи описано изгнание Перуна из Киева во времена Владимира Святого. «Выдыбай боже!..» – кричали киевляне с сожалением. А в Новгороде с удовольствием: «…Ты, рече, Перунище до сыти еси пил и ял, а ныне плыви уже проче, и плыви с света в акромешное».
Перуна заменил Илья Пророк. «Илья-пророк – два уволок». Ищу в Библии, почему именно ему отдали во власть небесные явления – дождь, гром, тучи, засуху?
Попутно слежу за рассказом на клеймах нашей иконы; они, по воле художника, идут не по порядку библейского рассказа.
Очень строгий пророк Илья Фествитянин из жителей Галаадских, «Сила и крепость Господня». Само его рождение – божественное. Принимают ребенка два ангела. Дальнейшая жизнь его связана с небесный огнем, с дождем, засухой, пустыней.
Спасаясь от гнева нечестивого царя Ахава, и особенно злой его жены Иезавели – Илья уходит в пустыню «к потоку Хораф, что против Иордана» … «И ворон приносил ему хлеба и мяса по утру, хлеба и мяса по вечеру…»
Второй раз уходит он в пустыню моля смерти. «Лег под можжевеловым кустом и заснул», «И вот ангел коснулся его и сказал: „Ешь и пей“. Сон Ильи и ангел, кувшин и лепешка на нижней части средника выделены крупно. Клеймо же с враном – в ряде других клейм, значит, второе событие важнее. Можжевеловые кусты Библии изображены на охряном фоне пустыни тут и там, как нужные художнику темные мохнатые пятна. Илья живет какое-то время у вдовы из Сарепты Сидонской, воскрешает ее сына. Сказочный эпизод „скатерти самобранки“ – „мука у вдовы не убывает“, „вода в кувшине не иссякает“. Это клеймо на нашей иконе, новой записи, изображает просто сидящую женщину.
А в стране засуха, голод, нет дождя – по проклятию пророка. Сам царь ищет траву для своего скота.
Огонь с небес, истребление лжепророков, обещание дождя, дождь – вот верхние клейма на иконе. Везде связь Ильи с небесами.
Цитирую дальше очень поэтический, похожий на стихи, рассказ из Библии. Видение на горе Хорив. Гроза в горах. Клейма такого нет, но этот текст больше всего объясняет связь пророка с небесами. Иногда бывает икона на эту тему. Илья шел 40 дней и 40 ночей до горы Хорив, встал на ней в ожидании. „Пойдет большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы – но не в ветре Господь. После ветра землетрясение – но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра – и там Господь“. Припомнишь опять слова Пунина о тишине.
Из каталога ГТГ я выписала славянский рассказ об этом событии, он короче и лучше.
„И се мимо пойдет Господь и дух велик и крепок, раззоряя горы и сокрушая каменья – в горе перед Господом, но не в дусе Господь, и по дусе трус и не в трусе Господь, а по трусе огонь, и не в огни Господь, и по огни глас лада тонка, и тамо Господь“.
Голод, засуху – вечные спутники южного пустынножителя – северный художник изобразил просто: песок пустыни – охряной фон всей иконы, лазоревые куски – желанная вода.
Пророк, народ, круглый хлеб два раза перебрасывается из рук в руки в виде красного мячика.
Умер царь Ахав, процарствовав 22 года. Илья состарился. Наружность его описывается согласно понятию о пророке – „он весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам“.
На иконе более благообразный облик у пророка Ильи, чем-то напоминает изображения, в иконописи же, Иоанна Предтечи, тоже пустынножителя.
Бог решил „вознести Илью в вихре на небо. Шли Илья с Елисеем из Галаада“. Шли они мимо городов, жители спрашивают Елисея, знает ли он, что Илью пророка бог возьмет на небо». – «Знаю, – отвечал Елисей, – молчите!»… Даже такое торжественное расставание с землей (не смерть) требует тишины! Напоследок пути они переходят через реку Иордан. Илья ударил по воде своей милотью, и вода расступилась, как в сказке, они прошли реку по сухому. Такова сила в этой милоти! Ее же, возносясь на небо, как символ своей пророческой силы, Илья, уже с огненной колесницы, протягивает ученику Елисею.
И вот конец жизни Ильи на земле (вверху средника на нашей иконе), превращенный в арабеску. Правым концом вся сцена упирается в зеленоватый сегмент слоистого неба, а красных коней за поводья ведет ангел. Илья на красно-огненной колеснице с двумя колесами (колесница прозрачная, видно и второе колесо). Заканчивается арабеска нежно-голубым силуэтом Елисея, вырастающего из розово-охристой горы.
Это событие чудесной сказочной, а может, и античной силы, а может, изображение страха смерти, превращенного в квадригу коней.
По сравнению с длинным жизнеописанием Пророка конец в Библии описан коротко.
«Когда они шли, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо». (Вспомнишь Геракла на костре.) На иконе же, наоборот, именно на этом последнем событии делается акцент. Выделяется у нас оно своим масштабом, как и явление ангела Илье в пустыне. Ковчега нет, только красная рамка и все те же лазоревые, янтарные, красные цвета с ударами темного. Вся она светоносная.
Мы увидали эту большую, полную рассказа икону у П. Д. Корина. Была она ровно-медового цвета, расчищенная И. Барановым до «пол-олифы». Много разных бытовых сцен – то, что мы так любим.
Это «Север», и цвет не может быть ровно желтым везде.
На Севере любили краски поярче. П. Д. ее не очень ценил, не прочь был с ней и расстаться: не классическая-де, не возвышенная, народная, сказочная какая-то. Но я выразила слишком громко и откровенно свои восторги… и мы ее потеряли надолго.
Только спустя много лет, после неизбежных на земле горестных событий, владельцы передали ее нам.
Икона появилась в нашей мастерской, размытая до первоначального слоя «авторского» М. И. Тюлиным. Стала она теперь и верно сказочным царством, стена мастерской просто расцвела.
«Илью Пророка с житием» можно отнести к иконам, я бы сказала, «контурного письма» или «контурной живописи». На расстоянии контур теряется, но он придает нежность и незримые границы всем рядом лежащим цветам, без теней.
Вторая наша икона того же типа, тоже «Север», – «Чудо о Флоре и Лавре».
Попала она к нам через М. И. от «Мельхиседека» из Сибири.
И владелец особенный, и доска особенная квадратная, и живопись особенная.
Можно было очароваться просторной композицией, широко раскинутыми птичьими, грачиными не ангельскими крыльями Архангела, его простертыми руками со свисающими широкими рукавами, отороченными каймами с жемчугом. Вся его синеватая одежда обтыкана по клеткам белыми точками, может «северным жемчугом»?
Двойные красные круги – нимбы у святых, киноварные одежды, чудной сохранности крупные красные же надписи: «сты Фрола сты Лавра» – нас, книжников, покорили своей вольной и складной простотой. Написано – как рука взяла!
Две охры фона: более светлое небо, более розовая – земля, отделенная простым белым изломом. Чем-то похоже на прялки, на сундучную роспись. На расстоянии – контура исчезают, и икона смотрится чуть ли не витражом, из-за звонкости красок. В ней даже есть реализм деревенской жизни и языческое прошлое народных преданий.
Михаил – в переводе значит – «Кто, как бог». И здесь он главный – центральная фигура. Он, верно, бог. Может, такое птичье его изображение сохранилось с незапамятных времен, когда этот бог, ведая только конями, их оберегал?
– А ниже сколько коней! – Глядите, как скачут, и воду пьют, как в деревне, в ночное поскакали! – ласково приговаривал М. И., видимо вспоминая свое детство, любовь к коням, когда-то даже священным. Вспомнишь северные оберли – охлупни на крышах домов, в виде конских голов, конские головы у печки, на прялках, на гребнях и прочих изделиях, и сколько коней в песнях, в сказках!
Эта любовь неистребима, даже у нас, в век машин и аэропланов. Если во время загородной поездки под Москвой встретишь коня – то в душе невольное ликование, и понятна эта классическая фраза: «полцарства за коня!»
По вольности, задушевности, беззаконности своей живописи, икона могла родиться лишь на Севере, вдали от столичных школ. Для нас в этом народном своеобразии особая ценность ее индивидуального письма.
На одной нашей небольшой иконе, классического перевода этой же темы, Архангел Михаил держит за поводья двух «пропавших» оседланных коней – белого и черного. Флор и Лавр стоят по обе стороны от него. Геральдическое построение. Братьев Флора и Лавра (судя по бороде только у одного из них, они разного возраста) принято сравнивать с близнецами конниками Диоскурами, у них белый и черный кони – символ утренней и вечерней звезды, а сами они стали Созвездием близнецов. Связь географическая. Каменотесы Флор и Лавр за водружение креста на построенном ими храме были отправлены в Иллирию и брошены там в пустой колодец. В Иллирии процветал культ братьев Диоскуров, перешедший потом на святых мучеников братьев же – Флора и Лавра.
Что и говорить, сравнение заманчивое, потому что икона лишний раз перекликается с античностью.
На нашей квадратной доске нет этой геральдики, видимо из-за ее квадратности, – негде нарисовать. А вместо трех конюхов, тоже святых с нимбами (имена которым: Спевсипп – что значит «быстрый конь» (гр.), Елевсипп – «всадник» и Мелевсипп – «заботящийся о коне», все трое были раньше язычниками-конюхами богини Немезиды, праздник всем троим 16 января), на нашей иконе едут простые люди без нимбов как-то по-бытовому – двое по бокам на белых конях с кнутами – видимо, конюхи, в середине, на черном коне, в жемчужном ожерелье – княжич. Красный повод, красная кисть на узде. Может, это его первый выезд на коне? «Вспоить, вскормить, на коня посадить». Ниже водопой разномастного табуна. Когда-то был языческий «конный праздник». Потом его приурочили к 16 августа, дню святых Флора и Лавра. В этот день на лошадях не работают, их купают, украшают лентами. Можно прочитать и о многих других подробностях интересного праздника, как-то пережить красоту всего этого, разглядывая иконы «Флор и Лавр», где всегда много коней.
На нашей северной доске ясно виден, как бы обнажился, один из тайников иконописи – ее связь с детским пониманием мира.
Надо поискать в себе эти заглохшие детские впечатления от впервые познаваемого: фигура и сверху, и с боков, и сама по себе, и вместе с окружающими домами, «горками», водами – как это рисуют дети; может, поймешь тогда и иконное письмо?
«Изображение неизобразимого» – это ведь тоже впервые познаваемый «новый мир». Его цветовой гиперболизм – потому что он «новый»; плоскостность – потому что он не такой, к какому мы привыкли; и эта плоскостность к тому же дает возможность яснее и больше всего изобразить. Разные способы выделять главное (начиная с нимбов). Цветом передавать событие. Соединять воедино разные измерения, прибавить к этому надо еще интересное, неразгаданное до сих пор мастерство – технику старинной живописи (простоявшую века), особенно в тех иконах, где видна рука великоискусного, а то малоискусного мастера, но видна рука.
Такое сочетание «детского» с высоким мастерством, наверное, всех и пленяет, и до сих пор удивляет!
Пути-дороги [24]24
Впервые опубликовано: Пути-дороги. М.: Художник РСФСР, 1980.
[Закрыть]
Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!
Н. В. Гоголь
Беру эпиграфом эти чудесные гоголевские слова для всех своих поездок, так согласны они с восторгом глаз, увидевших что-либо новое.
Альбом я назвала «Пути-дороги» – по-песенному: «А где нет пути-дороги, тут протариваем…» За последние годы «проторилось» много новых дорог, и всегда можно найти неведомые. Я разделила альбом на шесть разделов: Москва; Подмосковье («Округ Москвы» – сказали бы раньше); «На одно поприще» от Москвы – «На одну коломенскую версту», «На одно девяносто»; «На два поприща» – «На два девяносто», «На две коломенские версты», как когда-то какая-то баба клюкой намерила; За «Золотыми воротами» Владимира; Волга, Ока.
Вся эта старинная словесная география подходит к теме альбома, связана с остатками истории среди современной жизни. Хочется такие слова вставить в альбом, как старинную архитектуру в пейзажи.
«Пути» – по воде (Волга, Ока), «дороги» – по земле, так писал когда-то Пришвин, сохраню эту словесную старину в названиях глав альбома.
Когда я еду куда-нибудь в памятные места, я не беру с собой путеводитель, а если и беру, то читаю уже на обратном пути, после всего увиденного и зарисованного. Лучше ехать в незнаемое и быть как бы первооткрывателем. А потом можно и уточнить – что, когда и кто строил, какова история этого веселого или грозного прошлого. Сначала место, а потом об этом месте, вспоминая увиденное.
Мы все сейчас любим путешествовать. Видно, пример тверского купца Афанасия Никитина, ходившего за три моря еще в XVII веке, нам по душе. В Индии он молитвенно и грустно смотрел на сияние Большой Медведицы на небе, мечтая вернуться в родную землю. Знаменит и памятен он тем, что оставил записки своих путешествий, пришелся, видимо, по душе своим современникам – народу. Тень его осталась даже в русских сказках: «Никита – городам бывалец, землям – проходец».
Особенно хороши эти последние слова: «землям проходец», – землепроходец. С малых лет мечтала быть землепроходцем – путешествовать, если не за три моря, то хотя бы от моря до моря.
Я листала когда-то рукопись Никитина в Ленинской библиотеке, убористо написанную полууставом, держала в руках с большим уважением и интересом этот «голос минувшего». Он велит записывать виденное: «что город – то норов, что деревня – то обычай». Гляди, примечай, зарисовывай, чтобы не пропал бесследно сегодняшний день и все «города с пригородами, села с приселками».
Просто пейзажей я включаю немного, потому что тема альбома – это старинные русские города – «чудо-города» и к ним – «пути-дороги».
Раньше, во вхутемасовские времена, я и не замечала на Сретенке, где мы тогда жили, собор XVII века. Как любопытный московский курьез слушала лишь в пасхальные дни «Сердце красавицы…», что наигрывал на колоколах этого собора оригинальный звонарь. Да еще поражалась каждый день разительным контрастом: рыцарских лат и гипсов в мастерских на Мясницкой и очень золотых фигурных куполов с большими узорными крестами, занимавшими весь вид из больших окон – так близко стояла маленькая церковка Флора и Лавра.
Во время Великой Отечественной войны наша история и памятники ее стали всем особенно дороги.
«Были же тогда во всей Русской земле многие тучи скорби, слезы, воздыхания страха и трепета… И в многонародном городе Москве»…
Смело беру цитату из народного «Плача на погибель Москвы» XIII века: «Солнце мое дорогое, месяц прекрасный, о, земля, земля! О, дубравы, дубравы…» Что можно было к этому прибавить в 1941 году? Свою новую любовь ко всему нашему!
Я исходила тогда всю Москву. Из улицы в улицу, по переулкам и окраинам. В центре – Кремль. Мне было странно узнать, что такое очень знакомое и близкое еще по городу моего детства – Нижнему Новгороду слово оказалось греческим: «кремль» – крутая гора, у нас – с XVI века. Наше же слово – город, городище, городня, детинец…
На Красной (прекрасной) площади одиноко стоит церковь Покрова «что на рву» – Василий Блаженный. Вся его узорная пестрота, «огород чудовищных овощей», с детства поражавший воображение «по Грабарю», исчезала при затемнениях города во время войны. Так я его и сделала – силуэтом, как память тех лет.
Я рисовала тогда в альбомах, на небольших листах бумаги – церкви, башни, улицы, переулки, опьяняясь подчас и их названиями: Чертольский, Хрущевский, Сивцев Вражек. Путинки – путь на Дмитров, на Тверь. В Хамовниках – ткачи, на Таганке – кузнецы.
Давно нереставрированные памятники архитектуры естественно входили в военные пейзажи города. Подавляющая красота гиганта Климента из-за стен и домов, недалеко – легкий, невесомый храм Ивана Воина на Якиманке. На окраинах – «сторожа Москвы»: Донской монастырь, Крутицы, Измайлово, Черкизово…
Годы бедствий прошли, и я невольно перешла на более мажорный лад в своих работах. «Луковки», «репки», шатры нашей старинной архитектуры сами к этому призывали. Когда их несколько, группы, ряды – где-нибудь в Ростове, Ярославле, Суздале, – они вписываются в небо и ритмично, и весело. Вспомнишь и «Сердце красавицы…» московского звонаря.
В альбоме даю для начала, из чувства справедливости, свою первую любовь к старине, которую я открыла для себя в 1941–1942 годы в Москве.
Дороги – в голубых глазах по весне, когда небо из звуков и грачиных крыльев стекает на розовеющие деревья. Дни прилета и отлета грачей каждый год самые приметные: очень шумные весной, тревожные осенью. Живые графические узоры на небе.
Для пешехода, по-песенному, дорога сама, как живая, бежала: «мелкие-то ручейки бродом брела, глубокие реки плывом плыла, широкие озера кругом обошла…» Дорога «прямоезжая» не всегда лучшая; «окольная», извилистая часто красивее, а самая интересная – новая дорога, а если она еще с горы на гору – то залюбуешься!
Я еду на машине и гляжу по сторонам. Пейзаж за пейзажем. Целая непрерывная лента пейзажей, если день по душе. Где остановить глаз? Наше Подмосковье с малыми речками, неглубокими оврагами, невысокими увалами – так красиво!
С 1921 года Москва стала моей второй родиной. Но детство – на двух больших реках: кручи, дожди, овраги, просторы – на всех пейзажах сейчас оставляет невольно свой след. Глаза до сих пор не могут по весне насытиться всяким ростом, ручьями, прилетом птиц, половодьем. Хочется сказать знаменитую пушкинскую строчку: «Темный твой язык учу» – немножко по-другому: тайный твой язык учу! Да, учу! И, видно, всегда буду учить, настолько он непонятен.
Ну вот дожили до розовых тропок, до первой грозы… цветут вишни… И триста лет тому назад были розовые тропки. И не одно любопытство и любование тянет глаз к историческим памятникам. Проверяешь свой вкус, увеличиваешь количество лет, прожитых на земле за счет бывшего когда-то.
От Загорска, что со времен войны стал моим излюбленным местом, его узорная красота, архитектурное богатство, распространяется и на Переславль-Залесский, и на Ростов, и на Ярославль. Дальше где-то столкнется с дремучей древностью, но всегда останется исходной точкой моего вкуса.
В Загорске каждый день – праздник из-за очень нарядной Лавры на горе и массы разнообразного люда, как будто сошедшегося сюда со всех концов земли, «со всей России подселенной». Настроение в городе не будничное – приподнятое.
Старинная архитектура заманивает вспять, но мне всегда хочется ее удержать рядом с текущей жизнью, чтобы не превратилась она в музейные экспонаты. Пусть все живет с нами. И этот сегодняшний день подчас так естественно переходит в историю, что прав будет художник, изображая все с одинаковым чувством удивления.
Какой-то легендарный индийский царь похвалялся перед греческим послом: «Пусть твой царь продаст свое царство, купит на эти деньги бумагу и всю эту бумагу испишет чудесами моего царства […] Иде же небо с землею соткнулось, потоместь мое царство скончалося». Дальше идет перечень чудес…
Очень мне нравится эта похвальба. Я бы и сама не прочь так хвастаться и изводить бумаги еще больше, чем рекомендовалось греческому послу, на чудеса наших ближних и далеких земель вокруг Москвы и дальше, в сторону моего родного города Нижнего Новгорода (сейчас г. Горький). Эти пути-дороги от Москвы, от Загорска я отобрала для альбома, оставив другие стороны «Золотого кольца» в папках. Всего не вместишь.
На низких берегах, на двух больших озерах, которыми исстари сказочно владели Сельдь-рыба да Ерш-щетинник, стоят города Переславль-Залесский и Ростов Великий, славный, многонародный, на ровной, гладкой земле. Я уже привыкла теперь, что монастырь – музей в Ростове – белый. Мне даже нравится слитность разноликих каменных изваяний, густое их переплетение в один белый ансамбль с зелеными и золотыми куполами. Но это совсем другой «чудо-город» – аристократического вкуса, отрезанный от жилья.
А была раньше до урагана фокусная «ярмарка» с розовыми еще башнями, овеянная народным простодушием, со стенами «в шахмат». С какими-то часовенками, двориками, куполочками, неведомо откуда выросшими: заманчивые разноцветные куски издали и неразбериха каменных форм вблизи. Скатерть-самобранка с кринкоподобными крышами основных башен. Загорская узорность еще долго сохранялась и при реставрации.
Рядом с Ростовом – Борисоглеб без букв «ск» на конце. Опять монастырь-музей, сохранивший до сих пор свой цветной декор.
Из Загорска же, через Александров, можно попасть в городок допотопной уютности – Юрьев-Польский, то есть стоящий на поле, на черноземном «ополье». Весной – густо-фиолетовая земля, ярчайшая зелень ядовитого «куинджиевского» цвета.
Лил дождь весь день, да видно до этого и не один день. С охряной водой реки Кидекши, заливающей городок, хорошо гармонировала эта ядовитая зелень. По воде играючи плавали гуси. Черную собаку я срисовала в музее, а молодца в плащ-палатке, что шагал, не боясь воды, – с натуры. А другой парень, от удальства, ехал, стоя на телеге, ему тоже дождь нипочем. Я одна с зонтиком и альбомчиком. Молоко на базар носят в стеклянных четвертях мимо вросшего в землю Георгиевского собора с китоврасами, всадниками, «гусями», сиринами – внизу он обвит каменной цветочнотравной паутиной. От дождей все сочно подчеркнуто.
Большого, как бы охраняющего покой льва с проросшим хвостом я положила у двери собора. А в 1977 году даже каменные «прилепы» с него нарисовала уже гуляющими среди пейзажей малого городка и по всему музею на открытом воздухе: так они чудесны, бесконечно обворожительны и жизненны, что, пробыв столько веков на стенах собора, отлично могут гулять везде, как наши близкие знакомые.
Недалеко от Юрьева-Польского – Суздаль, он уже за владимирскими «Золотыми воротами». Когда я подъехала, у заставы со столбами времен наполеоновского нашествия сидел сокол. (Сокол и в гербе города.) Этой поездке 1967 года посчастливилось: чтобы в конце марта выпало на метр снегу, чтобы он сиял и таял, малиновый на мартовском солнце, прямо на глазах, а город тонул в ультрамаринах!.. К вечеру голубые, очень длинные тени ходили от нас и от бесчисленных шатровых колоколен с круглыми «глазами», чуть вогнутыми линиями шатров. А ночью – чистое небо. Низко за звездчатыми куполами музея – Орион.
Еду дальше к Балахне. Неведомые места за Боголюбовой, за Покровом на Нерли. Впервые мимо оранжевого, по весне, краснолесья. Это мой край. Черная вода в реке Таре. Спускаюсь под гору в Вязниках, въезжаю в гору – вот и весь «городок». Раннее утро, все лениво сияет. По-утреннему оживленная дорога, утренняя игра стен, окошек и высоких тополей от низкого солнца. Колодец. Забытая уже пролетка. Тишина.
В Гороховце чудо-чудное, на горе целый «остров Буян» из башен, стен и церквей, особенно если смотреть с весенней широкой, розово-голубой реки Клязьмы. Без умолку пели соловьи на плотине среди затопленных весенней водой цветущих кленов. Остановилась и слушала.
Ближе к Волге лес редеет. Песок. Голубые лужи. Балахна: широкая река, но ледохода нет. В этот раз не удалось посмотреть на него. А так хочется по весне видеть большую воду!
В 1966 году мимоездом застала половодье в верховье Волги в г. Калинине (Тверь). На невысоком откосе, в сквере с подстриженными тополями, где раньше «разве губернатор начнет прогуливаться» (писал в свое время Погодин), люди просто глядят на плывущие льдины, от неистребимой страсти у всех к большой воде. Просто глядеть на воду – ни с чем несравнимое удовольствие.
Река Тверь, река Тмака, Волга – много воды. Заволжье, Затверечье, Затмакье – на том берегу. На этом берегу – екатерининский облик города еще сохранился. Тверь торговая, Тверь богатая, соперница ранней Москвы.
Длинна ее история. Тверская живопись на иконах: просторная охра, как бы топором вырубленные, сильные, выразительные лица. Свой особый интересный тверской стиль.
Я с г. Калинина начала главу «Пути» – Волга, Ока. Зарисовки с парохода перемешала с рисунками городов на Волге и Оке, к которым добиралась чаще по суше. Города на Волге я расположила по течению, на Оке – против течения, чтобы получить кольцо из городов на воде.
За Калининым сразу Кимры – город сапожников. Раньше – кимрская изящная обувь «от базара до базара проносится», то есть от субботы до субботы.
Местный, видимо, архитектор украсил город поразительно фантастическим деревянным «модерном» начала века. Так и красуются до сих пор, как новенькие, – круглые окна, чердаки с башенками, чудные крыльца.
В городе Мышкине хочется поселить чеховских героев. Я его рисовала еще в 1946 году с парохода. Так же и Углич из-за плотины. Заманчивая груда церквей, ампирные дома на набережной. Ну, обязательно съезжу когда-нибудь сюда по весне посмотреть ледоход!
В 1969 году в конце апреля поехала в Углич через Загорск. Сама дорога, полная просыпающейся весны, была обворожительна. Кой-где еще лежал снег, берега Волги были обледенелые, лодки опрокинуты. Вода у города чистая. Плотина держала лед. Ледоход не видали, но все же приволжское весеннее очарование осело на каждый дом, церковь, набережную, на нас самих. И сам город был так волшебно прекрасен, что ледоход забылся… «Лужицы» – чисто русское, домашнее название, церковь «Дивная», «триединая», «троеверхая», трехшатровая. Я ее еще украсила зайцами с изразцовой печки дома Ворониных, украсила и всякими надписями. Верно, была она дивная.
Дивная же и вся набережная с висячими цепями вместо перил, и все в Угличе было дивным.
Между Угличем и Ярославлем – Тутаев, бывший Романов-Борисоглебск. Дома и церкви втиснуты в крутые склоны, все возглавляет громадный узорный Воскресенский собор на правом берегу Волги, в Борисоглебске, с буквами «ск» на конце, а напротив, на левом берегу, – Романов. Не знаешь, куда лучше смотреть, если едешь на пароходе.
С парохода и Ярославль такой же. А походишь по улицам – все непростое, начиная с чистого булыжника мостовых. Церкви сложного «построения», для «благолепия», «работаны по подобию»!.. Свой ярославский стиль. А если их вывернуть наизнанку, то можно потонуть в цветном богатстве желтого и голубого. Я и потонула… Целый мир ликующих красок, как будто выпустили на волю глаза и руки целого народа. И эти руки щедро разукрасили все от пола до купола – весенней или осенней радостью. Бывают такие дни, особые. Безудержно ярко, густо, интересно, содержательно. Видно, хотели оставить на стенах соборов все, что только смогли, и мыслимое, и немыслимое. Особенно клубящиеся облака.
«Пришел в город – сколько домов, сколько дверей! Смотрел, смотрел, голова закружилась, упал…» – из сказки «Несмеяна царевна». Сколько в Ярославле-городе изразцов, сколько колоколен, крылец, галерей, башен, куполов! В розницу, группами, букетами – невозможно все разглядеть сразу, и, правда, упадешь от этакого изобилия.
Недалеко, на Волге же, музей на открытом воздухе, в Костромском Ипатьевском монастыре. Собраны в его стенах и около них с большой любовью баньки, амбары, мельница-ветрянка, церковка, изба. Для жизненности оставлены среди музея и жилые дома с яблонями и рябинами.
Дальше – Городец и Балахна, к которой уже подъезжали по «дороге» от «Золотых ворот». «Пути» привели туда же и ниже к междуречью Волги и Оки, к Дятловым горам, к Горькому. При впадении Оки в Волгу – Благовещенский монастырь и наша нижегородская желтая глина, которая так и потянется по крутому берегу с прослойкой белого алебастра.
До Мурома – деревни, посады сильно разукрашенные фигурным железом, где только можно. Окский белый песок, опять большая вода и соловьи в прибрежных кустах.
Муром на горах. Касимов на горах, весь в оврагах, лестницах, много петухов. Сохранились торговые ряды, приземистая круглая мечеть, память о полулегендарном хане Касиме, которого как своего верного человека Иван Грозный посылал сватать астраханскую царевну Темрюковну.
По берегу увесистые, прочные купецкие дома, перевернутые засмоленные лодки. Попала я в Касимов не водой и не посуху, а по воздуху, на маленьком кукурузнике с незакрывающейся дверью. Летел он так низко, что казалось, вот-вот зацепится за высокую елку. Вылетели из Москвы с чистого поля и сели около Касимова тоже в чистом поле…
Закончу «водяное кольцо» панорамой Серпухова, отсюда до Москвы – рукой подать.