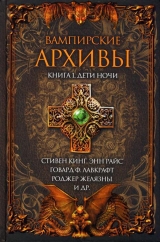
Текст книги "Вампирские архивы: Книга 1. Дети ночи"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Артур Конан Дойл,Роджер Джозеф Желязны,Нил Гейман,Эдгар Аллан По,Танит Ли,Иоганн Вольфганг фон Гёте,Фредерик Браун,Элджернон Генри Блэквуд,Джозеф Шеридан Ле Фаню,Дэвид Герберт Лоуренс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 51 страниц)
Энн Кроуфорд
Энн Кроуфорд , баронесса фон Рабе (1846—?) – сестра некогда необычайно популярного американского писателя Ф. Мэриона Кроуфорда, но о самой Энн Кроуфорд, однако, известно крайне мало. Ее брат провел значительную часть жизни в Италии, и там же происходит действие самого известного из рассказов Энн Кроуфорд, из чего можно заключить, что и она жила в этой стране.
Кампанья – равнина к северу от Рима, чрезвычайно любимая художниками-пейзажистами XIX столетия.
Рассказ «Таинственное происшествие в Кампанье» был впервые опубликован под псевдонимом фон Диген в альманахе «Время колдовства: Рождественный ежегодник Анвина на 1887 год» под редакцией сэра Генри Нормана (Лондон: Т. Фишер Анвин, 1886). Позднее, в 1891 году, тот же издатель выпустил это произведение в составе книги Кроуфорд «„Таинственное происшествие в Кампанье“ и „Тень на волне“», вышедшей в серии «Библиотека псевдонимов» (также под псевдонимом фон Диген).
Таинственное происшествие в КампаньеРассказ Мартина Детайе о том, что произошло в Винья-Мардзиали
Голос Марчелло звучит у меня в ушах. Наверное, потому, что после многих лет разлуки я встретил старого знакомого, который принимал участие в его необычайной истории. Мне захотелось рассказать об этом, и я попросил месье Саттона помочь мне. Он записал все, что помнил о тех событиях, и теперь пожелал объединить свои воспоминания с моими, чтобы поведать о Марчелло.
Однажды весной он появился в моей небольшой мастерской среди лавровых деревьев и зеленых аллей виллы Медичи.
– Идем, сын мой, – объявил он, – оставь свои краски.
Он без церемоний забрал у меня палитру.
– На улице ждет экипаж, мы едем искать место уединения.
Говоря эти слова, он мыл кисти, что смягчило мое сердце, поскольку я очень не любил это делать. Затем снял с меня бархатную куртку и подхватил висевшее на гвозде приличное пальто. Я позволил ему одеть себя, как ребенка. Мы всегда делали, как он хотел, и Марчелло знал это. Уже через мгновение мы сидели в экипаже и ехали по виа Систина. Мой попутчик велел кучеру править к воротам Сан-Джованни.
Я должен рассказать эту историю, как могу, хотя мои приятели – а они не знают, как хорошо я говорю по-английски, – объясняли мне, что писать – это совсем другое дело. Месье Саттон попросил меня сделать это на его языке, потому что он совсем забыл мой и не отважится писать на нем, но все же пообещал исправить мои ошибки, ибо то, о чем я должен рассказать, может быть, не покажется смешным, поэтому надо заставить людей улыбаться, когда они будут читать про Марчелло. Я сказал ему, что хочу написать об этом для своих соотечественников, а не для его; но он напомнил, что у Марчелло было много друзей-англичан, которые все еще живы, и что англичане лучше помнят о былом, чем мы. Уговаривать его оказалось бесполезно, он ни за что не уступал, и поэтому я согласился с его желанием. Я подумал, что у него есть причина, о которой он мне не говорит, но для него она очень важна. Я переведу все это на свой язык для моих соотечественников. Мне всегда кажется, что ваши английские фразы заворачивают в сторону, или пытаются заглянуть за угол, или встают на голову, и у них столько же хвостов, как у бумажного змея. Я постараюсь не пользоваться родным языком, но месье Саттон должен простить меня, если я забудусь. Он может быть уверен, что я делаю это не для того, чтобы его оскорбить. Теперь, когда я все объяснил, позвольте мне продолжить.
Когда мы проехали воротами Сан-Джованни, экипаж поплелся как черепаха. Но Марчелло никогда не был практичным. Да и как он мог быть практичным, спрашиваю я вас, если постоянно думал об опере? Мы еле ползли, а он мечтательно глядел перед собой. Наконец, когда мы добрались до той части города, где начинались небольшие виллы и виноградники, он стал озираться вокруг.
Это место довольно известно. За железными воротами с поржавевшими именами и инициалами начинается прямая аллея, вдоль которой растут розы и лаванда. Аллея ведет к заброшенному дому, позади него – запущенный сад. Таких домов сколько угодно в Кампанье. Здесь так тихо и уединенно, что если вас будут убивать, криков никто не услышит. Мы останавливались у таких ворот, Марчелло вставал, заглядывая внутрь, но нигде ему не нравилось. Он хотел во что бы то ни стало найти место, которое бы его полностью устроило, но пока ничего не находил. Он вскакивал и бежал к воротам, возвращался и говорил что-то вроде: «Окна такой формы, что это помешает моему вдохновению» или «Эта желтая краска заставит меня провалить дуэт во втором акте». Один дом ему совсем было понравился, но тут он заметил ноготки, растущие вдоль тропинки, а он их ненавидел. Так мы продолжали ехать и искать, и я уж думал, что сегодня удача от нас отвернулась. Но мы все-таки нашли то, чем он остался доволен, хотя место было слишком уж уединенное, и я представил, как это, должно быть, здорово: жить вдали от мира, под сенью печальных олив и зеленых дубов – вы называете их падубами.
– Я стану здесь жить и прославлюсь! – решительно сказал он и потянул за железный прут.
В доме раздался громкий звонок. Мы подождали, он нетерпеливо позвонил еще раз и топнул ногой.
– Тут никто не живет, старина! Идем, уже вечереет, здесь довольно сыро, а ты знаешь, что сырость для тенора…
Он снова топнул.
– Разве ты тенор? – перебил он меня. – Глупец! Басом быть гораздо лучше, ему ничто не повредит. А ты, оказывается, тенор, а еще называешь себя моим другом! Отправляйся домой без меня.
«Интересно как? Пешком?»
– Отправляйся и пой любовные песенки своим тощим английским девицам! Они отблагодарят тебя чашкой мерзкого чая, и ты окажешься в раю! А это мой рай, и я останусь здесь, пока не прилетит ангел и не откроет дверь!
Раздраженный и капризный, он вел себя так, когда чувствовал, что его любят, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как ждать; я обернул горло носовым платком от сырого воздуха и пропел один или два пассажа.
– Тихо! Замолчи! – воскликнул он. – Я не услышу, если кто-нибудь подойдет.
Наконец дверь открыл сторож, или гвардиано, как их там называли. Он посмотрел на нас, как на умалишенных. Безусловно, один из нас был сумасшедший, но только не я. Марчелло говорил на довольно хорошем итальянском языке, правда с французским акцентом, но человек его понял, особенно когда Марчелло вынул кошелек. Я слышал, как он на одном дыхании привел множество чрезвычайно убедительных доводов, затем в грубую ладонь гвардиано легла золотая монета, и оба направились к дому, при этом сторож покорно кивал. Марчелло обернулся.
– Поезжай домой, – бросил он через плечо, – или опоздаешь на свою жуткую английскую вечеринку! Я остаюсь ночевать.
Ну и ну! Я воспользовался его разрешением и уехал. Для тенора голос – такой же тиран, как ревнивая женщина. Кроме того, я был страшно зол, но в конце концов рассмеялся. У Марчелло был темперамент творческой натуры, и его поведение казалось нам то абсурдным, то надменным, то чрезвычайно раздражающим; но обычно это продолжалось недолго, и все мы чувствовали: если бы мы были похожи на него, наши картины стоили бы дороже. Я не успел добраться до городских ворот, как мое раздражение улеглось и я начал упрекать себя, что оставил его в столь уединенном месте с кошельком, набитым деньгами, поскольку Марчелло был довольно состоятельным человеком. Кошелек мог вызвать у гвардиано мысль об убийстве. Что может быть проще: убить спящего Марчелло и похоронить где-нибудь подальше под оливковыми деревьями или в разрушенных катакомбах, которых так много на окраинах Кампаньи. Удобных мест там сколько угодно. Я остановил экипаж и велел кучеру возвращаться, но он покачал головой и сказал, что в восемь часов ему надо быть на пьяцца Сан-Пьетро. Лошадь захромала, словно поняла хозяина и решила ему подыграть. Что мне оставалось делать? Я сказал себе, что это судьба, и поехал на виллу Медичи, где мне пришлось выложить немалую сумму за поездку, после чего кучер поспешил удалиться (при этом лошадь совершенно перестала хромать), оставив меня удивляться событиям этого странного дня.
Я плохо спал той ночью, хотя моя ария заслужила аплодисменты, а английские девицы были со мной очень любезны. Я старался не думать о Марчелло, и это мне удавалось, пока я не лег спать. Но, как я уже сказал, выспаться мне не удалось.
Я представлял, что гвардиано уже убил его и похоронил под покровом ночи. Я видел, как он тащит тело по темным переходам, красивая голова Марчелло бьется о камни. Он засыпает землей окровавленный труп в нише под черной аркой и возвращается, чтобы пересчитать золотые монеты. Наконец я заснул, и мне приснилось, что Марчелло стоит у ворот и топает ногой; я проснулся. Уснуть больше не удалось, я поднялся, как только рассвело, оделся и отправился в мастерскую в конце лавровой аллеи. Надевая куртку для занятий живописью, я вспомнил, как он снял ее с меня. Я взял кисти, которые он для меня вымыл; они были чистые лишь наполовину, жесткие от краски и мыла. Я был рад рассердиться на него и слегка обругать, поскольку думал: если я ругаю его, значит, он жив. Я достал набросок его головы, который сделал для картины, где Муций Сцевола держит руку в пламени, и тут же простил Марчелло: кто смог бы смотреть на это лицо и не любить его?
Я увлеченно работал, старательно передавая черты Марчелло, презрение и упрямство в его взгляде, когда он посмотрел на меня у ворот. Это идеально соответствовало моему замыслу! Неужели я никогда больше его не увижу? Вы спросите, почему я не оставил работу, чтобы узнать, не случилось ли с ним что-нибудь, но у меня имелось на это несколько причин. Вскоре должна была состояться ежегодная выставка, а я только начал картину, и мои товарищи держали пари, что я не успею. Я ждал натурщика, чтобы писать царя этрусков. Этот парень жарил каштаны на пьяцца Монтанара и с огромным удовольствием согласился позировать. К тому же, честно говоря, утро заставило меня по-другому взглянуть на ночные кошмары. Мне хорошо работалось, так как свет падал с северной стороны, хотя, признаться, я не слишком капризен. Усевшись перед мольбертом, я сказал себе, что веду себя как дурак и что Марчелло в безопасности. Запах красок вернул мне рассудительность. Каждую секунду я ждал, что войдет Марчелло, уставший от своих причуд, и даже подготовил и отрепетировал небольшую речь. Кто-то постучал в дверь, и я крикнул «Войдите!» – думая, что это Марчелло. Но вошел Пьер Магнен.
– Вас хочет видеть какой-то парень из деревни, – сказал он. – У него ваш адрес, записанный на грязной бумажке рукой Марчелло, и письмо, но он его не отдает, говорит, что должен видеть «синьора Мартино». Он чертовски похож на убийцу! Пойдите поговорите с ним и задержите, я сделаю с него набросок.
Я последовал за Магненом через сад к воротам, поскольку привратник не впустил посетителя, и нашел там вчерашнего гвардиано. Он показал белые зубы и приветствовал нас, как полагается христианину: «Добрый день, синьоры». Здесь, в Риме, он не был похож на убийцу обычный деревенский парень, недалекий, черный от загара. Он приехал на простой крестьянской телеге, косматую лошадь привязал к кольцу в стене. Я протянул руку за письмом и сделал вид, что не могу его разобрать, так как Магнен остановился в полутемной прихожей с альбомом в руках. Письмо было написано карандашом на листке, вырванном из записной книжки.
Старина! Я отлично провел здесь ночь, и этот человек будет служить мне, пока я не передумаю. Со мной ничего не случится, разве что я буду божественно спокоен, в голове у меня уже звучит знакомый мотив. Отправляйся ко мне домой и собери кое-что из одежды, и все рукописи, а также побольше нотной бумаги, несколько бутылок бордо и отдай все это посыльному. Поторопись!
Впереди у меня слава! Если захочешь увидеться, приезжай не раньше чем через восемь дней. Приедешь до срока – ворота тебе не откроют. Гвардиано – мой раб, и у него приказ убить злоумышленника, если тот попытается войти без приглашения, притворяясь другом. И он это сделает: он уже признался мне, что убил троих.
(Разумеется, это была шутка. Я хорошо знал манеру Марчелло.)
Когда поедешь, ступай на почту и забери мои письма, полученные до востребования. Вот моя визитка, чтобы не было вопросов. Не забудь перья и бутылку чернил!
Твой Марчелло.
Мне ничего не оставалось, как прыгнуть в телегу, сказать Магнену, закончившему рисунок, чтобы запер мою мастерскую, и отправиться выполнять распоряжения Марчелло. Мы приехали к его жилищу на виа дель Говерно Веккьо, и там я собрал все, что нужно. Хозяйка комнат путалась под ногами, задавая тысячу вопросов о том, когда вернется синьор. Он заранее заплатил за комнаты, поэтому она могла не беспокоиться об арендной плате. Когда я сказал, где он, хозяйка покачала головой и разразилась целой речью о тамошнем дурном воздухе, приговаривая «Бедный синьорино!» так печально, словно его уже похоронили, а потом мрачно смотрела нам вслед из окна. Она разозлила меня, заставив вспомнить о суевериях. На углу виа дель Тритоне я спрыгнул с телеги в расстроенных чувствах, дал посыльному франк и крикнул вдогонку: «Передай привет синьору!» Но тот не расслышал, лошадь затрусила прочь, и мне захотелось поехать к Марчелло. Он часто бывал невыносим, но мы всегда его любили.
Восемь дней прошли гораздо быстрее, чем я ожидал, и вот в четверг, в яркий солнечный день я собрался в путь. В час дня пришел на пьяцца Ди Спанья и договорился с кучером, у которого была сытая лошадь. Я припомнил, во сколько мне обошлось неделю назад желание Марчелло обрести уединение, и мы довольно быстро поехали к Винья-Мардзиали, хотя я почти забыл, как называлось это место. Сердце у меня колотилось, и я не понимал, почему так взволнован. Мы добрались до железных ворот. На мой стук вышел гвардиано, и не успел я ступить на длинную, обсаженную цветами аллею, как увидел, что мне навстречу спешит Марчелло.
– Я знал, что ты придешь, – сказал он и крепко пожал мне руку.
Мы направились к небольшому серому дому с чем-то вроде портика и несколькими балконами. Перед домом я увидел солнечные часы. Окна первого этажа были зарешечены, и в целом это место, к моему облегчению, выглядело достаточно безопасным и пригодным для жилья. Марчелло сказал, что гвардиано спит не здесь, а в хижине по дороге в Кампанью и что он, Марчелло, каждый вечер запирает двери. Я был рад услышать это.
– А что ты ешь? – спросил я.
– О, у меня есть козлятина, сушеные бобы и полента, пекорино и вдоволь черного хлеба и кислого вина, – с улыбкой ответил он. – Не думай, что я голодаю.
– Не переутомляйся, старина, – сказал я. – Ты нам дороже, чем твоя опера.
– Я выгляжу переутомленным? – спросил он, повернув ко мне лицо, освещенное ярким дневным светом.
Похоже, его покоробило мое опрометчивое высказывание об опере.
Я с серьезным видом изучал его лицо. Марчелло взглянул на меня с вызовом.
– Вовсе нет, – неохотно ответил я, не понимая, в чем дело.
В его глазах я заметил беспокойство, взгляд был обращен внутрь, а на веки легла едва заметная тень. Виски запали, красивое лицо было словно подернуто пеленой, оно казалось каким-то странным, далеким. Мы остановились у двери, и Марчелло открыл ее. У нас за спиной послышались медленные, отдающиеся эхом шаги гвардиано.
– Вот мой рай, – сказал Марчелло, и мы вошли в дом, который не слишком отличался от других.
Из холла с лепными барельефами наверх вела лестница, украшенная античными обломками. Марчелло легко взбежал по ступенькам, и я услышал, как он запер какую-то дверь и вытащил ключ. Затем он вернулся и встретил меня на лестничной площадке.
– Это мой рабочий кабинет, – сказал Марчелло и открыл низкую дверь.
Ключ торчал в замке, значит, это была не та комната, которую он запер.
– Только попробуй сказать, что я не напишу здесь ангельскую музыку! – воскликнул он.
После темного коридора меня ослепил яркий свет. Сначала я стал моргать, как сова, а потом увидел большую комнату, в которой из мебели были только грубо сколоченный стол и стул, заваленный нотной бумагой.
– Ты ищешь мебель, – рассмеялся он. – Она снаружи. Смотри!
Он поманил меня к трухлявой, изъеденной древоточцем двери со вставкой из зеленоватого стекла очень плохого качества и толкнул ее. Дверь выходила на ржавый железный балкон. Марчелло был прав: мебель оказалась снаружи. Моему взору открылся божественный вид. Сабинские горы, Албанские холмы, широко раскинувшаяся Кампанья с ее средневековыми башнями и разрушенными акведуками и равнина до самого моря. Все это сияло на солнце и наполняло душу покоем. Неудивительно, что здесь он мог писать! Балкон заворачивал за угол дома, и справа внизу я увидел аллею падубов, которая заканчивалась в роще высоких лавров, по-видимому, очень старых. Среди них стояли разбитые статуи и остатки древних саркофагов, и даже с верхнего этажа я слышал, как вода льется струей из старинной маски в простой длинный желоб. Я заметил загорелого гвардиано на грядках с капустой и луком и засмеялся, вспомнив, как сделал его убийцей! С шеи парня на загорелую грудь свисала ладанка, и он по-простецки уселся на обломок колонны, чтобы съесть кусок черного хлеба с луком, который только что вытащил из земли и нарезал ножом, совсем не похожим на кинжал. Но я не рассказал Марчелло о своих мыслях: он бы только посмеялся надо мной. Мы стояли, глядя, как гвардиано набирает ладонями воду из фонтана и пьет, а потом Марчелло свесился с балкона и окликнул его: «Э-э-й!» Ленивый гвардиано поднял голову, кивнул и медленно поднялся с камня, куда стал на колени, чтобы дотянуться до воды.
– Пора обедать, – повернулся ко мне Марчелло. – Я ждал тебя.
На лестнице послышались тяжелые шаги гвардиано, и он вошел, держа в руках корзину со странной едой.
Из корзины явился пекорино – сыр из овечьего молока, черный хлеб, по твердости похожий на камень, большая миска салата, на вид из сорняков, и колбаса, заполнившая комнату сильным запахом чеснока. Гвардиано исчез и возвратился с блюдом криво нарезанных кусков козлятины и горой дымящейся поленты.
– Я же говорил, что живу хорошо, теперь видишь? – хвастался Марчелло.
Еда ужасная, но деваться было некуда. К счастью, терпко-кислое вино, отдающее землей и кореньями, способствовало перевариванию обеда.
– А как твоя опера? – спросил я, когда мы покончили с едой.
– Ни слова об этом! – воскликнул Марчелло. – Ты видишь, что я пишу! – И он повернулся к груде исписанной бумаги. – Но не заговаривай со мной об этом. Я боюсь спугнуть вдохновение.
Это было не похоже на Марчелло, любившего поговорить о своих трудах, и я с удивлением взглянул на него.
– Идем, – сказал он, – прогуляемся по саду, и ты расскажешь мне о наших товарищах. Чем они занимаются? Нашел ли Магнен натурщицу для Клитемнестры?
Я выполнил его просьбу, как всегда, и, присев на каменную скамью за домом, мы смотрели на лавровую рощу и говорили о картинах и студентах. Мне захотелось прогуляться по падубовой аллее, но Марчелло остановил меня.
– Если боишься сырости, не ходи туда, – сказал он, – там как в погребе. Лучше останемся здесь и будем любоваться великолепным видом.
– Хорошо, давай останемся, – привычно согласился я.
Он зажег сигару и молча предложил мне. Ему не хотелось говорить, я тоже молчал. Время от времени он отпускал ничего не значащие замечания, я отвечал тем же. Казалось, мы, закадычные друзья, вдруг стали чужими людьми, которые не знают друг друга и недели. Или что мы не виделись так давно, что поневоле отдалились друг от друга. Что-то заставляло его чураться меня. Да, дни его одиночества, словно годы, вызвали между нами застенчивость, даже церемонность! Я уже не мог запросто хлопнуть его по спине и отпустить дружескую шутку. Должно быть, он чувствовал то же самое, так как мы были похожи на детей, которые с нетерпением ждали игры, а теперь не знают, во что играть.
В шесть часов я уехал. Это не было обычное расставание с Марчелло. Мне казалось, что вечером я найду своего старого друга в Риме, а здесь оставляю только его бесплотную тень. Он проводил меня до ворот, пожал руку, и на мгновение в его взгляде мелькнул настоящий Марчелло. Но мы ничего не сказали друг другу.
– Дай знать, когда захочешь увидеться, – обронил я, прощаясь.
– Спасибо, – ответил он.
Всю обратную дорогу до Рима я чувствовал холод его руки и думал о том, что с ним произошло.
В тот вечер я рассказал о своем беспокойстве Пьеру Магнену. Он покачал головой и предположил, что у Марчелло приступ малярии, а в таком состоянии люди кажутся немного странными.
– Он не должен там оставаться! Нам надо увезти его оттуда как можно скорее! – воскликнул я.
– Мы оба знаем Марчелло. Ничто не сможет его заставить поступить вопреки его собственному желанию, – ответил Пьер. – Оставь его в покое, и он сам устанет от своих причуд. Обычный приступ малярии не убьет его, и в один прекрасный вечер он окажется среди нас, веселый и жизнерадостный, как всегда.
Но Пьер ошибался. Я упорно трудился над картиной и закончил ее, а Марчелло так и не появился. Может, я слишком много работал или долго находился в сырой мастерской. Как бы там ни было, я заболел. Так сильно я не болел ни разу в жизни. Болезнь свалила меня, когда почти стемнело, – это я отчетливо помню, хотя совершенно забыл то, что произошло впоследствии, или, скорее, никогда об этом не знал. Бесчувственного, меня нашел Магнен. Он рассказывал, что сначала я долго не приходил в себя, потом стал бредить и в бреду говорил только о Марчелло. Я уже сказал, что все случилось в сумерках. Именно на закате солнца можно увидеть цвета в их истинном великолепии. Художники знают об этом, и я заканчивал картину, последними мазками тщательно выписывая голову Муция Сцеволы, точнее Марчелло.
В целом картина удалась; но мне показалось, что голова – главное в моей работе – стала размываться и исчезать, а лицо – бледнеть и удаляться, покрытое странной дымкой. Глаза начали закрываться. Меня нелегко испугать, и я знаю, какие фокусы с цветом может проделывать определенное освещение. В тот момент как раз зашло солнце, сгущались сумерки. Поэтому я отстранился, чтобы посмотреть на картину издали. И в этот самый миг побелевшие губы приоткрылись и испустили вздох! Разумеется, это была иллюзия. К тому времени я, должно быть, был уже очень болен и бредил, и мне показалось, что это был настоящий вздох или, по крайней мере, попытка вздохнуть. Тогда я и упал в обморок. Очнувшись, я обнаружил, что лежу в кровати, рядом стоят Магнен и месье Саттон, по комнате осторожно ходит сестра милосердия с аптекарскими пузырьками, и все трое шепотом переговариваются. Я вытянул руки. Они были худые и желтые, с длинными бледными ногтями. Словно издалека я услышал голос Магнена, который произнес: «Слава богу!» А теперь месье Саттон расскажет вам то, о чем я узнал впоследствии.







