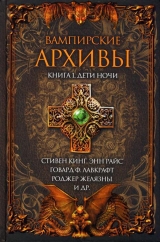
Текст книги "Вампирские архивы: Книга 1. Дети ночи"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Артур Конан Дойл,Роджер Джозеф Желязны,Нил Гейман,Эдгар Аллан По,Танит Ли,Иоганн Вольфганг фон Гёте,Фредерик Браун,Элджернон Генри Блэквуд,Джозеф Шеридан Ле Фаню,Дэвид Герберт Лоуренс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц)
Теплая ясная ночь сменилась сырым туманным утром. Накануне, ближе к вечеру, у западного склона горы Сент-Хелена, около самой ее вершины, где громоздятся каменистые кручи, можно было увидеть небольшое скопление водяных паров – всего лишь легкое уплотнение атмосферы, не облако, а скорее намек на облако. Это было нечто столь зыбкое, столь эфемерное, столь похожее на сон, что так и хотелось сказать: «Гляди скорей! Через минуту уже ничего не будет».
Через минуту облако заметно увеличилось и сгустилось. Одним краем касаясь вершины, оно простирало противоположный край все дальше и дальше над горным склоном. Оно ширилось как к северу, так и к югу, вбирая в себя маленькие облачка, зависшие над горой на том же уровне, казалось, с единственной целью – быть поглощенными. Оно все росло и росло, и вот уже из долины перестала быть видна макушка горы, и вот уже вся долина накрыта широким непроницаемо-серым полотнищем. В Калистоге, которая находится на краю долины у самого подножия горы, ночь выдалась беззвездная, а утро – пасмурное. Туман опустился на дно долины и пополз на юг, захватывая одно ранчо за другим, и наконец затопил город Сент-Хелена, лежащий в девяти милях от горы. Дорожную пыль словно дождем прибило; с древесной листвы капала влага; птицы притаились в своих гнездах; утренний свет был тусклым и призрачным – все лишилось и цвета, и блеска.
На рассвете двое мужчин вышли из города Сент-Хелена и двинулись в направлении Калистоги. За плечами у них висели ружья, но человеку мало-мальски понимающему сразу стало бы ясно, что это не охотники на зверя и птицу. Это были Холкер, помощник шерифа из Напы, и Джералсон, детектив из Сан-Франциско. Они отправились поохотиться на двуногую и бескрылую дичь.
– Далеко еще? – спросил Холкер; на увлажненной поверхности дороги за ними тянулись светлые сухие следы.
– Белая молельня? С полмили всего, – ответил его спутник. – Кстати, – добавил он, – это и не молельня, и не белая. Это бывшая школа, давно уже серая от старости и запущенности. Когда-то, когда она была еще белая, там иногда собирались верующие, и рядом вы увидите весьма романтическое кладбище. Но угадайте, зачем я вас вызвал, да еще вооруженного?
– Я никогда не докучал вам лишними вопросами и не собираюсь этого делать. Когда найдете нужным, сами скажете. Впрочем, осмелюсь предположить, что нам предстоит арестовать одного из покойников на кладбище.
– Помните Бранскома? – спросил Джералсон, проявив к остроумию спутника то безразличие, которого оно вполне заслуживало.
– Этого парня, который перерезал горло собственной жене? Еще бы. Неделя работы псу под хвост и немалые траты. За его поимку обещали пятьсот долларов, но ищи ветра в поле. Вы что, хотите сказать…
– Вот именно. Все это время он крутился у вас под носом. По ночам он приходит к Белой молельне на старое кладбище.
– Черт возьми! Ведь там могила его жены.
– И вы с вашими людьми должны были догадаться, что рано или поздно он туда явится.
– Казалось бы, туда-то он как раз не должен был соваться.
– Но все другие места вы уже обнюхали как следует. Так что мне ничего не оставалось, как устроить засаду там.
– И вы обнаружили его?
– Как бы не так, это он меня обнаружил! Мерзавец застал меня врасплох, я ноги едва унес. Хорошо, не пропорол меня насквозь. Да, он парень не промах; и если вы нуждаетесь в деньгах, то половины вознаграждения мне вполне хватит.
Холкер добродушно рассмеялся и заметил, что как раз сейчас он в долгу, как в шелку.
– Для начала я просто покажу вам место, и мы разработаем план, – пояснил детектив. – Но я решил, что оружие нам не помешает даже при дневном свете.
– Как пить дать, он псих, – сказал помощник шерифа. – Вознаграждение обещано за его поимку и водворение в тюрьму. А психов в тюрьму не сажают.
Холкера так сильно взволновала эта возможная несправедливость, что он непроизвольно остановился посреди дороги, а когда двинулся дальше, то уже не такой энергичной походкой.
– Похоже на правду, – согласился Джералсон. – Должен признать, что таких небритых, нестриженых, неряшливых, и прочее, и прочее типов я встречал разве только среди членов древнего и достославного ордена бродяг. Но раз уж я в это дело ввязался, я не могу так все бросить. На худой конец удовольствуемся славой. Кроме нас, ни одна живая душа не знает, что он находится по эту сторону Лунных гор.
– Ладно, – сказал Холкер, – давайте уж осмотрим место. – И он прибавил некогда популярное изречение, которое выбивали на могильных камнях: – «Куда и вы ляжете в свой черед», и ляжете очень скоро, если старина Бранском не захочет терпеть столь наглое вторжение. Кстати, я слыхал, что настоящая его фамилия другая.
– Какая же?
– Не помню. Я потерял к мерзавцу всякий интерес, и она вылетела у меня из головы – что-то вроде Парди. Женщина, чье горло он имел неосторожность перерезать, была вдовой, когда он ее встретил. Приехала в Калифорнию искать каких-то родственников – иногда приходится это делать. Но все это, думаю, вам известно.
– Еще бы.
– Но каким чудом вы, не зная настоящего имени, нашли нужную могилу? Человек, от которого я его услышал, говорил, что оно вырезано на изголовной доске.
– Мне неизвестно, какая из могил – ее. – Джералсон с заметной неохотой признал отсутствие в своем плане столь важного звена. – Я осматривал место в целом. Одной из наших задач сегодня будет отыскать эту могилу. Вот она. Белая молельня.
Дорога, которая долго шла среди полей, теперь левым краем прижалась к лесу, состоящему из дубов, земляничных деревьев и гигантских елей, – в тумане смутно и призрачно темнели только нижние части стволов. Подлесок, местами довольно густой, всюду был проходим. Поначалу Холкер не увидел никакой молельни, но, когда они свернули в лес, сквозь туман проглянули ее неясные серые очертания; она казалась очень большой и далекой. Но, пройдя всего несколько шагов, они неожиданно увидели ее совсем близко – потемневшую от сырости постройку весьма скромных размеров. Как большинство сельских школ, она была выдержана в ящично-коробочном архитектурном стиле; фундамент был сложен из камней, крыша поросла мхом, окна без стекол и переплетов зияли пустотой. Это была руина, лишенная всякой живописности, руинам свойственной, – типично калифорнийский суррогат того, что европейские путеводители представляют как «памятники старины». Едва удостоив взгляда это унылое строение, Джералсон двинулся дальше сквозь пропитанный влагой подлесок.
– Сейчас покажу, где он меня засек, – сказал он. – Вот и кладбище.
Там и сям среди кустов стали попадаться оградки, порой всего с одной могилой внутри. Понять, что это именно могилы, можно было по бесцветным камням или догнивающим доскам в изголовье и изножье, накренившимся под всевозможными углами или упавшим на землю, по остаткам штакетника, а нередко – только по осевшим холмикам, покрытым палой листвой. Иной раз место, где лежали останки какого-нибудь несчастного смертного, который, покинув «тесный круг скорбящих друзей», был, в свой черед, ими покинут, – это место не обозначалось ничем, разве что небольшим углублением в земле, оказавшимся более долговечным, чем след в душах «безутешных» близких. Дорожки, если они когда-нибудь тут и были, заросли травой; на некоторых могилах уже вымахали деревья внушительных размеров, корнями и ветвями оттеснившие в сторону могильные ограды. Повсюду был разлит дух гнилости и запустения, который как нельзя более уместен и полон значения именно в селениях забытых мертвецов.
Двое спутников – первым Джералсон, за ним Холкер – решительно прокладывали себе путь сквозь молодую поросль, но вдруг сыщик резко остановился, издал тихий предостерегающий возглас, взял дробовик на изготовку и застыл как вкопанный, пристально всматриваясь во что-то впереди. Его напарник, хотя и не видел ничего, постарался, насколько позволяли заросли, принять такую же позу и замер, готовый к любым неожиданностям Секунду спустя Джералсон осторожно двинулся вперед, Холкер – за ним.
Под огромной разлапистой елью лежал труп мужчины. Молча встав над ним, они принялись разглядывать то, что всегда первым бросается в глаза, – лицо, положение тела, одежду, – в поисках ясного и немедленного ответа на невысказанный вопрос, рожденный сочувственным любопытством.
Мертвец лежал на спине, ноги его были широко раскинуты. Одна рука была выброшена вверх, другая отведена в сторону и согнута в локте, так что костяшки пальцев едва не касались шеи. Оба кулака были крепко стиснуты. Вся поза говорила об отчаянном, но безуспешном сопротивлении – только вот кому или чему?
Рядом лежали дробовик и охотничья сумка, сквозь сетку которой виднелись перья убитых птиц. Повсюду были заметны признаки яростной схватки: молодые побеги сумаха были согнуты и ободраны; по обе стороны от ног трупа прошлогодние листья были разметаны чьими-то, явно не его, ногами; у бедер в земле виднелись две вмятины от человеческих колен.
Что это была за схватка, им стало ясно при взгляде на кожу мертвеца. Если грудь и кисти рук у него были белые, то лицо и шея – темно-багровые, почти черные. Плечи трупа лежали на небольшом возвышении, шея была вывернута под невозможным углом, вылезшие из орбит глаза слепо смотрели вверх, в направлении от ног. Среди пены, наполнявшей разинутый рот, чернел распухший язык. Шея была страшно обезображена – на ней виднелись не просто следы человеческих пальцев, но вмятины и кровоподтеки от двух могучих рук, глубоко вдавившихся в податливую плоть и не ослаблявших свирепой хватки долгое время после смерти несчастного. Грудь, шея и лицо были мокрые, одежда была пропитана влагой; волосы усеяли капельки росы.
Все это спутники увидели и поняли без слов, почти мгновенно. Помолчав, Холкер произнес:
– Бедняга! Худо ему пришлось.
Джералсон тщательно осматривал близлежащий лес, держа дробовик обеими руками, палец – на взведенном курке.
– Чувствуется рука маньяка, – сказал он, шаря глазами по лесным зарослям. – Бранском Парди поработал.
Вдруг Холкер заметил среди разбросанных по земле листьев что-то красное. Это был кожаный бумажник. Он поднял его и открыл. Там оказались листы белой бумаги для заметок, и на первом стояло имя «Хэлпин Фрейзер». На нескольких последующих листах чем-то красным были в спешке нацарапаны с трудом читаемые строки, которые Холкер стал разбирать вслух, пока его напарник продолжал всматриваться в смутные серые очертания обступившего их тесного мирка, вздрагивая от звука капель, то и дело падавших с отягощенных росой ветвей:
Лес чародейный надо мной навис,
Разлито в нем полночное свеченье,
Тут с миртом ветвь сплетает кипарис
В зловещем братстве, в темном единенье.
Дурман и белена цветут у ног,
Коварная топорщится крапива,
Плетет бессмертник траурный венок,
И в три погибели согнулась ива.
Не кличет птица, не гудит пчела,
И свежий ветер листьев не колышет,
Здесь Тишина на землю налегла,
Здесь лишь она одна живет и дышит.
Мне слышатся неясные слова,
Что шепчут призраки о тайнах гроба,
Кровь капает с деревьев, и листва
Во тьме недоброй светится багрово.
Кричу я! Но изнемогает плоть,
Томится сердце, дух и воля стынут,
Громаду зла не в силах побороть,
Стою пред ней, потерян и покинут.
Но вот незримо…
Холкер умолк – читать было больше нечего. Текст обрывался посередине строки.
– Похоже на Бэйна, – сказал Джералсон, который слыл своего рода всезнайкой. Он стоял, рассматривая тело, теперь уже не столь настороженный.
– Кто такой Бэйн? – спросил Холкер без особого любопытства.
– Майрон Бэйн, им зачитывались на заре нашей истории, больше ста лет назад. Страшно мрачный; у меня есть его собрание сочинений. Этого стихотворения там нет – должно быть, забыли включить.
– Холодно, – сказал Холкер. – Пошли отсюда; надо вызвать коронера из Напы.
Джералсон, промолчав, послушно двинулся следом. Обходя небольшое возвышение, на котором лежали голова и плечи убитого, он задел ногой какой-то твердый предмет, скрытый под гниющими листьями, и не поленился вытолкнуть его на свет божий. Это была упавшая изголовная доска с едва различимой надписью «Кэтрин Ларю».
– Ларю, ну конечно! – воскликнул Холкер, внезапно придя в возбуждение. – Да ведь это же настоящая фамилия Бранскома, он Ларю, а никакой не Парди. И разрази меня гром – на меня точно просветление какое нашло, – фамилия убитой женщины была Фрейзер!
– Тут какая-то мерзкая тайна, – сказал детектив Джералсон. – Терпеть не могу подобных штучек.
Вдруг из тумана, словно из бесконечной дали, до них донесся смех – низкий, нарочитый, бездушный смех, не более радостный, чем лай гиены, пробирающейся по ночной пустыне; звук постепенно усиливался, становясь все громче и яснее, все отчетливее и ужаснее, пока им не почудилось, что смех исходит почти от самой границы узкого круга видимости – смех столь неестественный, нечеловеческий, адский, что души видавших виды охотников за людьми преисполнились невыразимого страха. Они не сдернули с плеч ружья и даже не вспомнили о них – от такой угрозы оружием не защититься. Хохот начал стихать, ослабевая так же медленно, как нарастал вначале; достигнув силы оглушительного вопля, от которого чуть не лопались их барабанные перепонки, он теперь словно отдалялся, пока наконец замирающие звуки, механически безрадостные до самого конца, не канули в безмолвие и беспредельность.
Джулиан Готорн
Джулиан Готорн (1846–1934), уроженец Бостона, был единственным сыном известного американского писателя Натаниеля Готорна. Его отец в течение нескольких лет занимал пост американского консула в Англии, семья много путешествовала по Европе, и Джулиан, получавший домашнее образование, проявил интерес к рисованию и философии, а затем, по возвращении в США, учился на инженера-строителя в Гарварде. Этот род занятий, однако, ему наскучил, и в конце концов вопреки желанию родителей он избрал для себя писательскую стезю. Компенсируя недостаток дарования наблюдательностью, он написал множество романов и рассказов, значительная часть которых представляет собой образцы детективной, «страшной» и мистической прозы. Многие его рассказы, однажды появившиеся на журнальных страницах, и по сей день не собраны под книжной обложкой.
Первый же написанный им рассказ, «Взаимная любовь, или Незаконное проникновение», был немедленно принят к печати журналом «Харперс уикли», предложившим за него гонорар в 50 долларов; за этим вскоре последовали публикации в «Скрибнере мэгэзин» и «Липпинскоттс мансли мэгэзин». Как журналист Готорн писал о голоде в Индии 1897 года в «Космополитен» и освещал события испано-американской войны 1898 года в «Нью-Йорк джорнал». Неудачно вложив деньги в фермерское хозяйство на Ямайке, он принял участие в литературном конкурсе, написал под псевдонимом (по слухам, за восемнадцать дней) роман «Прирожденный дурак» (издан под его именем в 1896 году) и получил за него премию в 10 тысяч долларов. В 1913 году он был обвинен в почтовом мошенничестве, связанном с фальшивыми горными разработками, и приговорен к году тюрьмы.
Рассказ «Тайна Кена» был впервые опубликован в «Харперс нью мансли мэгэзин» в ноябре 1883 года; позднее перепечатан в авторском сборнике «„Исчезновение Дэвида Пойндекстера“ и другие истории» (Нью-Йорк: Эпплтон, 1888)
Тайна КенаКак-то раз прохладным осенним вечером, на исходе последнего октябрьского дня, довольно холодного для этого времени года, я решил зайти на час-другой к своему другу Кенингейлу. Он был художником, а также музыкантом-любителем и поэтом; при доме у него была великолепная студия, где он обыкновенно коротал вечера. В студии имелся похожий на пещеру камин, стилизованный под старомодный очаг усадьбы елизаветинской поры, и в нем, когда того требовала наружная прохлада, ярко полыхали сухие дрова. Было бы как нельзя более кстати, подумал я, зайти в такой вечер к моему другу, выкурить трубку и поболтать, сидя у камелька.
Нам уже очень давно не доводилось вот так запросто болтать друг с другом – по сути дела, с тех самых пор, как Кенингейл (или Кен, как звали его друзья) вернулся в прошлом году из Европы. Он заявлял тогда, что ездил за границу «в исследовательских целях», – чем вызывал у всех нас улыбку, ибо Кен, насколько мы его знали, менее всего был способен что-либо исследовать. Жизнерадостный юнец, веселый и общительный, он обладал блестящим и гибким умом и годовым доходом в двенадцать – пятнадцать тысяч долларов; умел петь, музицировать, марал на досуге бумагу и весьма недурно рисовал – некоторые его портретные наброски были отменно хороши для художника-самоучки; однако упорный, систематический труд был ему чужд. Выглядел он превосходно: изящно сложенный, энергичный, здоровый, с выразительным лбом и ясными, живыми глазами. Никто не удивился отъезду Кена в Европу, никто не сомневался, что он едет туда за развлечениями, и мало кто ожидал в скором времени вновь увидеть его в Нью-Йорке, – ибо он был одним из тех, кому Европа приходится по нраву. Итак, он уехал; и спустя несколько месяцев до нас дошел слух, что Кен обручился с красивой и богатой девушкой из Нью-Йорка, которую встретил в Лондоне. Вот практически и все, что мы слышали о нем до того момента, когда он – довольно скоро и неожиданно для всех нас – снова появился на Пятой авеню; Кен не дал никакого сколь-либо удовлетворительного ответа тем, кто желал узнать, отчего ему так быстро наскучил Старый Свет; все упоминания об объявленной помолвке он пресекал в столь категоричной форме, что становилось ясно: эта тема не подлежит обсуждению. Предполагали, что девушка нашла ему замену, но, с другой стороны, она вернулась домой вскоре после Кена, и, хотя ей не раз делали предложения руки и сердца, она и по сей день не замужем.
Каковы бы ни были истинные причины этого разрыва, окружающие скоро заметили, что Кен по возвращении утратил прежнюю беспечность и веселость; он выглядел мрачным, угрюмым, стремился к уединению, был сдержан и молчалив даже в присутствии своих ближайших друзей. Все говорило о том, что с ним что-то произошло или же он сам что-то совершил. Но что именно? Убил кого-то? Или сошелся с нигилистами? Или это было следствие неудачной любовной истории, которую он пережил? Некоторые уверяли, что уныние Кена не продлится долго. Однако к тому времени, о котором я рассказываю, его мрачность не только не рассеялась, а скорее усилилась и грозила стать постоянным свойством его натуры.
Хотя я дважды или трижды встречал Кена в клубе, в опере или на улице, мне до сих пор не представился случай возобновить наше знакомство. В былые времена между нами существовала более чем близкая дружба, и я полагал, что он не откажется вернуться к прежним отношениям. Но из-за происшедшей с ним перемены, о которой я так много слышал и которая не укрылась и от моих собственных глаз, я ожидал нынешнего вечера не только с радостью, но и с живительным любопытством. Дом Кена находится в двух или трех милях от основной части нью-йоркских жилых кварталов, и, пока я быстрым шагом приближался к нему в прозрачных сумерках, у меня было время перебрать в уме все то, что я знал о своем друге и что мог предполагать о его характере. В конце концов, не таилось ли в глубине его натуры, под покровом его всегдашнего жизнелюбия, нечто странное и обособленное, что могло в благоприятных обстоятельствах развиться в… во что? В тот момент, когда я задал себе этот вопрос, я достиг порога дома; минутой позже я с облегчением ощутил сердечное рукопожатие Кена и услышал приглашение войти, в котором сквозила неподдельная радость. Он втащил меня внутрь, принял у меня шляпу и трость и затем положил руку мне на плечо.
– Рад тебя видеть, – повторил он с необыкновенной серьезностью, – рад тебя видеть и заключить в объятия – и сегодня вечером больше, чем в какой-либо другой вечер года.
– Почему именно вечером?
– О, это не важно. Кстати, даже хорошо, что ты не сообщил мне о своем визите заранее: перефразируя поэта, неготовность – всё. [10]10
Парафраз реплики шекспировского Гамлета, обращенной к Горацио: «Готовность – всё» (V, 2).
[Закрыть]Ну а теперь можно выпить по стаканчику виски с содовой и сделать несколько затяжек из трубки. Мне было бы страшно провести сегодняшний вечер в одиночестве.
– Это посреди такой-то роскоши? – удивился я, оглядывая пылающий камин, низкие дорогие кресла и прочее богатое и пышное убранство комнаты. – Думаю, даже осужденный на смерть убийца обрел бы здесь душевный покой.
– Возможно; однако на данный момент это не совсем моя роль. Но неужели ты забыл, что нынче за вечер? Сегодня – канун ноября, и, если верить преданиям, в эту ночь мертвые восстают из могил, а феи, домовые и прочие призрачные создания обладают большей свободой и могуществом, чем в любое дррое время. Сразу видно, что ты никогда не бывал в Ирландии.
– До этой минуты я полагал, что и ты там ни разу не был.
– Я бывал в Ирландии. Да…
Кен сделал паузу, вздохнул и погрузился в раздумье; впрочем, вскоре он с видимым усилием очнулся и направился к застекленному шкафу в углу комнаты, чтобы взять табак и напитки. Я тем временем бродил по студии, разглядывая наполнявшие ее различные украшения, редкости и диковины. Здесь имелось множество вещей, способных вызвать восхищение и вознаградить внимательного исследователя; ибо Кен был настоящим коллекционером и обладал превосходным художественным вкусом, равно как и средствами культивировать его в себе. Но меня более всего заинтересовали несколько эскизов женской головы, сделанных наспех масляной краской; они находились в укромном уголке студии и, похоже, не предназначались для взоров публики или критики. Их было три или четыре, и на всех было запечатлено одно и то же лицо, но с различных точек зрения и в разном обрамлении. На первом наброске голову скрывал темный капюшон, чья тень не позволяла полностью различить черты лица; на втором девушка, казалось, печально смотрела в решетчатое окно, освещенное бледным светом луны; на третьем она представала в роскошном вечернем платье, с драгоценностями, сверкавшими в волосах, на мочках ушей и на белоснежной груди. Выражение лица тоже было разным: взгляд, сдержанно-проницательный на одном эскизе, становился нежно-манящим на другом, пылал страстью на третьем, а затем в нем начинала играть почти неуловимая озорная насмешка. И на всех изображениях это лицо было исполнено необыкновенного и пронзительного очарования, не уступавшего изумительной природной красоте его черт.
– Ты нашел эту модель за границей? – спросил я наконец. – На тебя явно снизошло вдохновение, когда ты рисовал ее, и я ничуть этим не удивлен.
Кен, который в это время готовил пунш и не следил за моими перемещениями, поднял голову и произнес:
– Я не думал, что их кто-нибудь увидит. Эти эскизы не удались мне, и я собираюсь их сжечь; но я не знал покоя до тех пор, пока не попытался воспроизвести… О чем ты спрашивал? За границей? Да… то есть нет. Все это было нарисовано здесь, в последние полтора месяца.
– Что бы ты сам о них ни думал, это определенно лучшие из тех твоих работ, которые мне доводилось видеть.
– Ладно, оставь их и скажи мне, что ты думаешь об этом напитке. Своим появлением на свет он обязан твоему приходу, и, по-моему, он сейчас попадет куда надо. Я не могу пить один, а эти портреты – не вполне подходящая компания, хотя, насколько я знаю, по ночам она покидает холст и садится вот в то кресло. – Затем, поймав на себе мой вопрошающий взгляд, Кен добавил с торопливой усмешкой: – Сегодня, видишь ли, последняя ночь октября, когда случаются довольно странные вещи. Ну, за встречу.
Мы сделали по большому глотку ароматного дымящегося напитка и одобрительно глянули на стаканы. Пунш был великолепен. Кен открыл коробку сигар, и мы пересели к камину.
– А теперь, – заметил я после непродолжительной паузы, – не помешало бы немного музыки. Кстати, Кен, банджо, которое я подарил тебе перед твоим отъездом, все еще у тебя?
Он так долго не отвечал мне, что я усомнился, расслышал ли он вопрос.
– Оно у меня, – произнес он наконец, – но оно больше никогда не издаст ни звука.
– Оно сломано? И его нельзя починить? Это был превосходный инструмент.
– Оно не сломано, но восстановить его действительно невозможно. Сейчас сам увидишь.
Сказав это, Кен встал, направился в другую часть студии, открыл черный дубовый сундук и вынул оттуда продолговатый предмет, обернутый куском выцветшего желтого шелка. Он протянул его мне, и, развернув ткань, я увидел то, что когда-то, возможно, и было банджо, но сейчас мало походило на этот инструмент. На нем виднелись все признаки глубокой старости. Дерево грифа было изъедено червями и покрыто гнилью. На пожухлой и ссохшейся пергаментной деке зеленела плесень. Обод, сделанный из чистого серебра, стал таким темным и тусклым, что напоминал старое железо. Струны отсутствовали, а большая часть колков выпала из расшатанных гнезд. В целом эта вещь выглядела так, словно она была сделана до всемирного потопа и затем пребывала в забвении на полубаке Ноева ковчега.
– Да, любопытная реликвия, – сказал я. – Где ты ее раздобыл? Я и не подозревал, что банджо изобрели так давно. Ведь ему явно не меньше двухсот лет, а возможно, намного больше.
Кен мрачно усмехнулся.
– Ты совершенно прав, – сказал он, – ему по крайней мере сто лет, и тем не менее это то самое банджо, которое ты подарил мне в прошлом году.
– Едва ли, – возразил я, в свою очередь улыбаясь, – поскольку оно было изготовлено по моему заказу специально в дар тебе.
– Я знаю об этом; но с тех пор прошло два столетия. Я сознаю, что это невероятно и противоречит здравому смыслу, однако это сущая правда. Это банджо, которое было сделано в прошлом году, существовало в шестнадцатом веке и с того времени пришло в негодность. Погоди. Дай мне минуту, и я докажу тебе, что так оно и есть. Ты помнишь, что на серебряном ободе были выгравированы наши имена и проставлена дата?
– Да, и кроме того, там стояла моя личная метка.
– Прекрасно, – сказал Кен и потер обод уголком желтой шелковой ткани. – А теперь смотри.
Я взял у него ветхий инструмент и осмотрел потертое место. Конечно, это было немыслимо, но там значились именно те имена и та дата, которые некогда наказал выгравировать я; и, более того, там виднелась моя личная метка, всего полтора года назад нанесенная мною от нечего делать при помощи старой гравировальной иглы. Убедившись, что никакой ошибки быть не может, я положил банджо на колени и в замешательстве уставился на моего друга. Кен курил, сохраняя мрачное спокойствие и неотрывно глядя на полыхавшие в камине дрова.
– Признаться, я заинтригован, – сказал я. – Ну давай же, признавайся – что это за шутка? Каким образом тебе удалось за несколько месяцев состарить несчастное банджо на целые столетия? И для чего ты это сделал? Я слышал об эликсире, способном противостоять воздействию времени, но, похоже, твое средство, наоборот, заставляет время убыстряться в двести раз в одной конкретной точке пространства – тогда как во всех других местах оно продолжает двигаться своей обычной неспешной поступью. Поведай свою тайну, волшебник. Нет, в самом деле, Кен, как такое могло произойти?
– Я знаю об этом не больше твоего, – ответил он. – Либо ты, я и все прочие люди на свете сошли с ума, либо произошло чудо, столь же необъяснимое, как и любое другое. Как я сам это объясняю? Расхожее выражение, основанное на опыте многих, гласит, что в определенных обстоятельствах, в моменты серьезных жизненных испытаний, мы способны в единый миг прожить годы. Но это не физический, а психологический опыт, который применим только к людям и не может быть распространен на бесчувственные вещи из дерева и металла. Ты думаешь, что все это – какой-то хитроумный обман или фокус. Если так, то я не знаю его секрета. Я никогда не слышал о таком химическом веществе, которое могло бы за несколько месяцев или лет привести кусок дерева в столь жалкое состояние. Но подобного срока и не потребовалось. Год назад в этот самый день и час это банджо звучало так же мелодично, как в день своего появления на свет, а спустя всего лишь сутки – я говорю истинную правду – оно стало таким, каким ты его видишь сейчас.
Это поразительное заявление было сделано с непритворной торжественностью и серьезностью. Кен верил в каждое сказанное им слово. Я не знал, что и думать. Конечно, мой друг мог быть не в своем уме, хотя и не обнаруживал никаких распространенных симптомов помешательства; но, так или иначе, существовало банджо – свидетель, чьи безмолвные показания невозможно было опровергнуть. Чем дольше я размышлял об этой истории, тем более непостижимой она мне представлялась. Мне предлагали поверить, что две сотни лет равны двадцати четырем часам. Кен и банджо свидетельствовали в пользу этого равенства; все земные знания и весь житейский опыт говорили о том, что подобное невозможно. Что было правдой? Что есть время? Что такое жизнь? Я чувствовал, что начинаю сомневаться в реальности всего сущего. Такова была тайна, которую мой друг пытался разгадать с тех пор, как вернулся из-за границы. Неудивительно, что эта тайна его изменила, – скорее следовало удивляться тому, что она не изменила его сильнее.
– Ты можешь рассказать мне все с самого начала? – спросил я наконец.
Кен сделал глоток из стакана с виски и провел рукой по густой каштановой бороде.
– Я еще ни с кем не говорил об этом, – сказал он, – и не собирался когда-либо говорить. Но я попробую дать тебе некоторое представление о том, что со мной произошло. Ты знаешь меня лучше, чем кто бы то ни было; ты поймешь то, о чем я расскажу, насколько это вообще можно понять, и тогда тяжесть, лежащая у меня на сердце, вероятно, будет угнетать меня не так сильно. Ибо, смею тебя уверить, это слишком жуткое воспоминание, чтобы пытаться изжить его в одиночку.
И вслед за этим Кен без долгих околичностей поведал мне историю, которая приводится ниже. Замечу кстати, что он был прирожденным рассказчиком, обладал глубоким, выразительным голосом и мог удивительно усиливать комический или патетический эффект фразы, растягивая отдельные звуки. Его живое лицо также чутко откликалось на различные проявления смешного и серьезного, а форма и цвет глаз позволяли передать множество разнообразных эмоций. Печальный взор Кена был необыкновенно искренним и проникновенным; а когда мой друг обращался к какому-нибудь загадочному месту своего повествования, его взгляд становился неуверенным, меланхоличным, изучающим и, казалось, настойчиво взывал к воображению слушателя. Но его рассказ вызывал во мне слишком сильный интерес, и я не замечал этих оттенков настроений, хотя они, несомненно, оказывали на меня свое влияние.
– Ты помнишь, что я отбыл из Нью-Йорка на пароходе компании «Инман лайн», – начал Кен. – Я высадился на побережье в Гавре и, совершив обычную туристическую поездку по континенту, прибыл в Лондон в июле, в самый разгар сезона. Мне оказали теплый прием, я свел знакомство со многими людьми, приятными в обхождении и известными в обществе. Среди них была и юная леди, моя соотечественница, – ты знаешь, о ком я говорю; я увлекся ею необычайно, и незадолго до отбытия ее семьи из Лондон мы обручились. На время нам пришлось расстаться, так как ей предстояла поездка на континент, а мне хотелось посетить Северную Англию и Ирландию. В первых числах октября я сошел на берег в Дублине и, пропутешествовав по стране около двух недель, оказался в графстве Корк.







