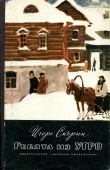Текст книги "Ребята с улицы Никольской"
Автор книги: Стефан Захаров
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
III
Нынешней весной мы с Глебом закончили школу первой ступени. Жаль, конечно, было покидать маленькое одноэтажное здание, куда мы ходили в течение четырех лет, жаль было расставаться и с учительницей Ниной Андреевной, научившей нас писать и читать. Она даже всплакнула чуточку на прощание, да и у всех наших мальчишек и девчонок глаза были на мокром месте.
– Улетаете, соколики, – говорила печально сторожиха бабушка Владимировна, когда мы в последний раз пришли в старую школу. – Счастливого пути вам! Сколько уже я ребятишек-то отсюда проводила… Счастливого пути!
И моя мать, и родители Глеба считали, что мы должны продолжать учиться дальше, в школе второй ступени. По-иному представлял будущее своего племянника наш домовладелец Александр Данилович Оловянников. Валька Васильчиков жил у дяди на хлебах. Валькин отец, крестьянин-бедняк, умер два года назад, оставив после себя большую семью, и Оловянников «по доброте сердца», как он любил иной раз прихвастнуть, выписал в город Вальку. Почему именно Вальку, а не кого-либо другого из племянников, понятно. До Оловянникова и раньше доходили слухи, что Валька чуть ли не с пеленок рисовал, а старому маляру в его деле срочно требовался помощник.
Правда, Оловянников давно уже не разрисовывал стены и не белил потолки в квартирах. Он открыл на привокзальном Лузиновском рынке мастерскую по изготовлению различных вывесок.
Вот Валька и стал в свободное от школы время помогать дяде в работе, и довольно успешно. Валька был старше нас с Глебом на целых два года, хотя учились мы в одной группе.
Кто-то из школьных остряков наградил его прозвищем Жених. И на переменах за ним толпой бегали малыши и кричали:
– Дяденька Жених! Дяденька Жених!
Белобрысый Валька был крепкий парень и любого легко мог бы оттаскать за волосы, но этого новичок не делал, а добродушно смеялся над полученным прозвищем. Городские ребята удивились: обычно тот, кого дразнили, кидался с кулаками на своих обидчиков или сам придумывал им в отместку прозвища. А Жених даже пальцем никого не тронул. Наши остряки опешили… и признали Вальку.
Учился Валька неплохо, домашние задания выполнял аккуратно, когда учительница на уроке задавала нам вопрос, всегда тянул вверх руку. Но, несмотря на это, Оловянников в школу второй ступени племянника не записал.
– Хватит! – авторитетно заявил он. – Достаточно даром жрать, да и матерям помогать пора. Грамоту осилил? Осилил. На счетах считать умеешь? Умеешь. Чего для жизни еще требуется? Детей мне господь не послал. Когда помру, все тебе перейдет… Поэтому сиди в мастерской, фантазируй и рисуй, а я буду заказы выискивать.
Но помогать матери Валька при всем своем желании не мог, потому что дядюшка никаких денег ему не выплачивал. И, принуждая парня писать вывески и всякие дверные таблички, думал только о собственной выгоде.
Во-первых, Оловянников не платил за него налог: ведь Валька не считался наемной рабочей силой. Он был племянником, поэтому никакой фининспектор не мог придраться к хитрому маляру. Во-вторых, если бы Александр Данилович нанял себе в подручные какого-нибудь одногодку Вальки, он обязан был бы выполнять закон о труде подростков, а труд подростков строго регламентировался. Валька же, работая в мастерской Оловянникова с утра до ночи, лишь «помогал» престарелому дядюшке.
Александр Данилович, отказав Вальке в учебе, запретил ему вступить и в пионеры.
– Знай, Валентин! – шипел он. – Наденешь красную удавку на шею – отправлю назад к матери, богом клянусь. А у матери и без тебя голодных ртов хватает. Тоже мне идейный…
В тот день, когда мы с Глебом стали пионерами, Валька плакал, а Оловянников, увидев нас в защитных пионерских гимнастерках, с алыми галстуками, плюнул в сторону и, встретив Николая Михайловича, заявил:
– До Глебки и Гошки мне, Николай, как до верхней полки. Ребят малых с ними не крестить, кумовьями не станем. Но Валентина моего пусть не смущают, не учат безобразиям. Валентин – сирота, ему о куске хлеба думать надо, а не о пионерских забавах.
– Вот ты козыряешь, что твой племяш – сирота, – сказал Николай Михайлович. – Ну, а у Георгия тоже ведь родителя в живых нет, но это не помеха ему для вступления в пионерскую организацию…
Оловянников поднялся на цыпочки – он был на целую голову ниже отца Глеба – и, брызгая слюной, завизжал:
– Я за Валентина ответственность перед господом нашим Иисусом Христом несу! И не позволю срамиться! У пионеров парни и девки в трусах бегают. Стыд, позор, разврат!..
Торжественное обещание мы с Глебом давали в особо праздничный день – 19 мая 1927 года, – когда пионерии Советского Союза исполнилось пять лет. На пионерской базе при фабричном клубе проводилась линейка, на которую пришли и секретарь партийной ячейки, и секретарь комсомольской ячейки. Все отряды во главе со знаменосцами, с горнистами и барабанщиками выстроились в большом зале. Старший вожатый базы Сережа Неустроев принимал рапорт от отрядных вожатых. А те, кто готовился к Торжественному обещанию, находились около сцены и волновались. Волновался я, волновался Глеб, волновалась и сероглазая Генриетта, или, как мы ее звали, Герта, Плавинская. Куда только девалась ее обычная веселость! Она перебирала длинные толстые косы и ни разу не улыбнулась, не пошутила…
* * *
Герта была круглой сиротой и воспитывалась у деда. Дед ее, Евгений Анатольевич Плавинский, играл на органе в римско-католическом, или, как говорили у нас в городе, в польско-литовском костеле святой Анны.
Плавинский, а точнее, Плавинускас приехал на Урал из Вильно еще в прошлом веке. Сначала жил в Перми, а затем перебрался в наш город. Старик органист из костела святой Анны тогда умер, и Евгений Анатольевич был приглашен на его освободившееся место.
Хотя дед Герты и служил в костеле, но в католического бога, точнее, в любого бога он, по-моему, не верил. Специального образования Плавинский не получил, но отлично знал ноты и играл на многих инструментах. Более всего он любил орган и пианино. И не секрет, что некоторые поляки, чехи и литовцы, жившие в городе, приходили в костел лишь затем, чтобы послушать, как Евгений Анатольевич играет на органе. Да что там поляки, чехи и литовцы! Мастерство его привлекало в костел и многих русских. Порой туда бегали Глеб и я. Вот в немецкую кирху, которая находилась неподалеку от оперного театра, нас бы и палкой не загнать! Но орган Евгения Анатольевича!!! Правда, став пионерами, мы в сам костел уже не заглядывали, а слушали игру деда Герты, спрятавшись за чугунной оградой.
В квартире Евгения Анатольевича на книжных полках стояли позолоченные тома истории Литвы и Польши, а над пианино фирмы «Беккер» висели портреты литовских композиторов Чюрлениса и Петраускаса, чьи произведения дед Герты очень хвалил. Я же, когда бывал у Герты, больше любил рассматривать красочную репродукцию с картины Яна Матейки «Грюнвальдская битва». Эта репродукция тоже украшала квартиру Евгения Анатольевича. Он часто рассказывал Герте и мне про Грюнвальдскую битву, когда в 1410 году объединенные войска поляков, литовцев и русских разбили рыцарей Тевтонского ордена, рвавшихся на восток.
Евгений Анатольевич любил повторять, что союзниками командовали польский король Станислав-Ягайло и великий литовский князь Витовт.
– Но горяч был Витовт! – качал головой дед Герты. – Не дождавшись общего сигнала, начал битву первым. Только немцы его хоругви отбросили. И в этот критический момент общеславянское дело спасли смоленские полки… – и, заканчивая рассказ, говорил: – Вот как жили наши прапрадеды! А нынче? Три государства: Советская Россия, Польша, Литва… И с друг другом не особенно дружат…
Готовился стать пионером девятнадцатого мая и Борис Зислин. Мы давным-давно дружили с этим худеньким черноглазым пареньком. Отец Бориса, Семен Павлович, был известный в городе врач, и Бориса на Никольской улице уважительно называли Парень Семена Палыча. Не в пример многим своим коллегам, Семен Павлович совершенно не занимался частной практикой, а заведовал отделением окружной больницы. Если же требовалась экстренная врачебная помощь, он всегда готов был идти хоть за тридевять земель, но деньги за консультации и лечение не брал. На тех же, кто пытался сунуть ему в карман «докторский гонорар», грозился пожаловаться в народный суд.
– Я на месте Семена Палыча, – горестно вздыхал Оловянников, – давно бы золотые хоромы построил. Вон Владимиров Дмитрий Касьяныч – тоже медицинское светило, от любых болезней исцеляет, а глянь-ка: лошадь с кучером держит, доху какую заимел…
Вечерами Семен Павлович обязательно выходил на прогулку с огромным догом мышиного цвета по кличке Гражус. Борису этого пса он не доверял, боялся, что Гражус вырвется и перепугает весь квартал.
Мы, мальчишки, знали, что у Семена Павловича есть именной браунинг, полученный еще в годы гражданской войны от Григория Котовского, в бригаде которого Зислин-старший служил военврачом. Борис по секрету показывал нам запертую на замок тумбочку, где хранилось оружие.
Но Семен Павлович славился среди жителей улицы не только как врач и как владелец браунинга и Гражуса. В свободное время он играл на пианино и на скрипке, и в его квартире по воскресеньям устраивались настоящие концерты. Сам хозяин одновременно дирижировал и вел партию первой скрипки; партию второй вел преподаватель курсов профдвижения Лев Наумович Шукстов. Виолончель приносил толстый фотограф Иван Николаевич Вяткин, а за пианино садился Евгений Анатольевич Плавинский.
Исполнял квартет серьезные классические вещи: фуги Баха, сонаты Бетховена, отрывки из симфоний Чайковского и, конечно не без влияния деда Герты, произведения литовских и польских композиторов. Летом, когда окна распахивались настежь, возле дома Семена Павловича собирался народ. Находились даже такие поклонники квартета, которые, забираясь на подоконник, прямо требовали:
– Семен Палыч! Для нас полонез Огинского…
– Семен Палыч! Не забудьте турецкий марш Моцарта…
Почетным посетителем зислинских концертов был Юрий Михеевич. Он обязательно приходил в парадном черном сюртуке, скромно усаживался в угол и, закатив глаза, покачивался в такт музыке, теребя повязанный на шее большой голубой бант.
Один лишь Александр Данилович Оловянников неодобрительно отзывался о музыкальных воскресеньях и, если видел, что Валька стоит под окнами Семена Павловича (а Зислины жили от нас через два дома), сердито кричал:
– Валентин! Без дела часы тратишь! Дяде не помогаешь. Дядя-то тебя поит, кормит и одевает… Чего энти струны-то выслушиваешь? Ума от воя струн не прибавится. Забирай ключ – и марш в мастерскую! Заказ доделывай.
Сам Оловянников предпочитал истинной музыке граммофон. Летом, в свободное время, сидя на траве в своем крошечном садике с тремя кустиками сирени, он любил заводить граммофон с яркой малиновой трубой. Обожал маляр всякие глупые песенки…

А Семен Павлович мечтал и сына воспитать серьезным, как он сам, музыкантом. Поэтому Бориса с шести лет по вторникам и пятницам водили на занятия к концертмейстеру из оперного театра.
Поначалу Парень Семена Палыча учился старательно, но затем, когда подрос и его стали посылать к учителю одного, без домработницы Евлампиевны, заленился и вместо уроков гулял по городу, а в плохую погоду грустно докладывал отцу:
– Милый папа, маэстро схватил ангину, просил занятия перенести…
Через некоторое время, однако, все эти хитрости раскрылись. Возмущенный Семен Павлович поставил одиннадцатилетнего сына на целых два часа в угол и лишил на неделю сладкого блюда за обедом. И вот когда Борис собрался давать Торжественное пионерское обещание, ему поставили условие: уроков у маэстро не прогуливать и заниматься в сто раз лучше.
Борис дал честное слово будущего пионера, что объявит беспощадную войну своей лени. И действительно, стал усиленно наверстывать упущенное. Концертмейстер из оперного театра не мог нарадоваться на старание недавнего прогульщика и каждую неделю посылал Семену Павловичу восторженные записки о «гениальных успехах Бобы».
В общем, 19 мая и Герту, и Глеба, и Бориса, и меня в пионеры приняли. В тот же день в честь пятилетия пионерской организации на главной площади состоялся городской парад. И мы под звуки барабана и горнов шагали в праздничной колонне и пели:
Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы пионеры —
Дети рабочих.
Близится эра
Светлых годов.
Клич пионеров —
«Всегда будь готов!»
Дома, над топчаном, заменяющим кровать, я прибил «Законы и обычаи юных пионеров». Мне их красиво на большом листе белого картона написал Валька. Для законов он выбрал бордовую краску, а для обычаев – густую синюю.
– Это тебе, Гошка, подарок, – печально произнес Валька, вручая свою работу и отворачиваясь от моего пионерского галстука и нарукавного значка – серпа и молота с горящим пламенем. – Бери и помни! Ночами на кухне старался, когда дядька Саня дрых…
IV
Старшие пионеры уже несколько лет состояли в обществе «Долой неграмотность!» и вечерами помогали учителям вести специальные группы, набранные из людей пожилого возраста, не умеющих читать.
Правда, дворничиха Галина Львовна и сторож фабричного клуба Григорий Ефимович, высокий худой старик, буквы знали и могли по складам разбирать написанное. Но им хотелось осилить азбуку по-настоящему, и они явились «за наставлением» в школу второй ступени. Так вся наша четверка превратилась в «учителей». Глеба и Бориса прикрепили к Галине Львовне, а нас с Гертой – к Григорию Ефимовичу.
За дело мы взялись серьезно: уроки проводили строго по расписанию, через день, на квартирах у наших учеников в особые тетрадки ставили отметки – «уды» и «неуды»[2]2
«Уд» – удовлетворительно; «неуд» – неудовлетворительно.
[Закрыть].
Дежурства у Григория Ефимовича бывали с пяти часов вечера, поэтому мы обычно заглядывали к нему сразу после школы.
В этот день мы читали с ним рассказ Мамина-Сибиряка. Григорий Ефимович шевелил губами и, водя пальцами по строчкам, улыбался, чеканя зычным голосом слова.
– Ой, тише, Григорий Ефимович! – пыталась сдержать разошедшегося ученика Герта. – Уши глохнут.
Но ученик упрямо махал руками и заявлял:
– Не сдерживай мою радость, Валериановна! Чувствую, как складно чтение пошло… Верно, Константинович? Ведь верно? А?
– Верно, верно! – поддержал я старика и сам радовался его успехам.
Когда урок закончился и седой ученик убрал тетрадки и книжки в небольшой расписной сундучок, стоящий около входной двери, Герта вдруг спросила:
– Вам, Григорий Ефимович, по-моему, нравятся произведения Мамина-Сибиряка?
– Ты, Валериановна, права, – серьезно ответил сторож, снимая с носа очки и пряча их в огромный футляр, склеенный из тонкой фанеры. – Шибко нравятся! Жизнь он уральскую славно знал. Жаль, что не дал ему, сердечному, господь до нынешних дней дожить… Величайший был писатель, величайший. Как богача Ляховского в «Приваловских миллионах» описал!
– Наверное, вы встречали заводчиков и богачей вроде этого? – задумчиво спросила Герта.
– Как же, встречал… Приходилось.
– Расскажите…
– Да чего рассказывать? Был я, к примеру, у Санникова Семена Потаповича перед революцией в сторожах, в цехах-то не робил после японской войны, как мне, выходит, на ней ноги покалечило. Самому-то Санникову тогда за восьмой десяток перевалило, но крепкий дуб был, хитрый. Перед октябрем месяцем понял, что власть к народу идет, и сбежал со всем семейством в чужие страны. Таинственно сбежал, никто и опомниться не успел, как не стало Санниковых в фамильном особняке… Да чего вы, ребятки, вскочили? Время до дежурства еще есть. Присаживайтесь! Разговорился, значит, с вами и одну интересную штуку вспомнил…
Мы уже стояли на пороге, но Григорий Ефимович картинным жестом указал нам на расписной сундучок. Герта посмотрела на меня, я – на нее, потом оба вместе – на Григория Ефимовича… и решили остаться, послушать «интересную штуку».
– Вот, вникайте, – доставая махорку из кожаного кисета, проговорил Григорий Ефимович и подмигнул по чему-то Герте, – что случилось…
И, пуская клубы едкого дыма, Григорий Ефимович начал рассказывать.
Оказывается, когда в городе была свергнута старая власть и провозглашены Советы, в двухэтажном доме Санникова разместился районный штаб Красной гвардии. Наш седой ученик тогда был сторожем при штабе и делал все, что требовалось для социалистической революции.
В конце июля 1918 года в город ворвались белые. Григорий Ефимович, не сумевший уйти с красными частями, прятался у кума Кичигина. Но белогвардейцы не интересовались судьбой сторожа красногвардейского штаба и даже не пытались разыскивать его. По всей вероятности, они даже и не подозревали об его существовании.
Так прошел год. Однажды в покосившемся домике на Крестовоздвиженской улице, где жил кум Кичигин, неожиданно появился закутанный в какой-то дырявый плед младший сын Санникова.

Григорий Ефимович в это время сидел на кухне и, загибая пальцы, считал разрывы снарядов, доносившиеся с Московского тракта, где наступали красные полки. Увидев Санникова, он чуть не выпрыгнул в окно, но тот успел схватить сторожа за воротник.
– Стой! – зашипел незваный гость. – Куда тебя дьявол несет? Не бойся! Сядем и потолкуем… Только быстрее!
Все еще не пришедший в себя от испуга, Григорий Ефимович опустился на табурет. Заглянувшему на кухню Кичигину Санников пригрозил маленьким браунингом и приказал на пять минут уйти в комнату.
– Не бойся, ничего не произойдет, не бойся, – повторял он, задергивая за кумом Кичигиным ситцевую занавеску.
Григорий Ефимович дико смотрел на сына бывшего заводчика. Что ему понадобилось здесь в последний день белогвардейского правления? И откуда он взялся?
– Семен-то Потапыч как? – только и мог выговорить сторож.
– Умер, – коротко ответил младший Санников и перекрестился.
Григорий Ефимович перекрестился тоже и вздрогнул: разрывы снарядов все приближались. Но гость, казалось, не обращал на них внимания. Придвинувшись, он нервно зашептал:
– Без предисловий… Мне известно, что при Совдепе ты продолжал занимать в доме моего отца свою прежнюю должность… Да не бойся, не бойся! Плевать на все, что было! Мне одно надо знать: чего в то время у нас дома нашли?
– Чего нашли? Как чего нашли? Не ведаю, – развел руками Григорий Ефимович и отодвинулся от Санникова.
– Не валяй дурака, Григорий! Вспомни…
– Запамятовал.
– Мне нужно знать. Я же после смерти отца из Марселя, черт возьми, сюда на Урал специально вернулся. Через Владивосток добирался… И к шапочному разбору… Уходят войска адмирала Колчака, драпают. На Россию плюют! Вспоминай, Григорий! Приказываю!
– Мардарий Семеныч, о чем вспоминать-то?
Санников нагнулся к правому уху Григория Ефимовича и зашептал еще тише, дыша винным перегаром:
– Известно, что перед тем, как бежали совдеповцы, матрос…
– Ах! – облегченно вздохнул сторож. – Вот вы про чего… В гостиной, в стенке, тайник случайно вскрыли, а в нем иконки, крестики…
– В гостиной? Крестики? Иконки? Точно помнишь, не сочиняешь?
– Бог есть свидетель, правду чистую докладываю…
– В доме нашем сейчас интендантское управление Сибирской армии… Тьфу! Сейчас… Смешно даже произносить – сейчас. Последние минуты остаются. Я, Григорий, вчера приехал в город. С трудом попал: все лупят отсюда, а я, представляешь себе, наоборот. Так совдеповцы ничего не находили больше? Все было, выходит, в порядке?
– Ничего не находили… Не объявлялось. Может, после?
– Интенданты-казнокрады после тоже ни гроша не обнаружили. Совдеповцы хоть иконы нашли. Но мне дом перевернуть требуется. Впрочем, черт с тобой! Болтаю здесь всякую чушь! Берегись, Григорий, коли соврал! Ведь я узнал, что ты красным служил, узнаю и про вранье. – И, не попрощавшись, Санников выскочил в сени, громко хлопнув дверью.
– Кажись, пронесло беду, – вслух проговорил обрадованный сторож, все еще не веря, что сын его бывшего хозяина исчез. – Чего ему, окаянному, приспичило?
И только Григорий Ефимович это сказал, в доме заходили ходуном стены: недалеко на улице разорвался снаряд. Как он залетел сюда, никто не знал. Гость из Марселя в тот момент перебегал дорогу…
– И отдал Мардарий Семеныч богу душу, – закончил свой рассказ Григорий Ефимович и, подмигнув опять Герте, добавил: – Вот как я последний раз встречался, ну и наблюдал, вникайте, за хозяином, вернее, за сынком хозяина.
– Григорий Ефимович! – Герта даже соскочила с сундучка. – А зачем приезжал в город Мардарий Санников?
– Этого, Валериановна, мы никогда, поди, и не узнаем, – пряча потертый кожаный кисет, ответил сторож…
* * *
Если кто-нибудь вздумал бы забраться на Матренинское кладбище, встать на самое высокое место около старинной часовни и посмотреть вниз, то увидел бы весь наш город как на ладони.
Словно пышные маки, цвели купола соборов и церквей. За каменной плотиной, почти в центре, где редко просыхала грязь, – там было очень низкое место – зеленел Кафедральный собор.
Недалеко от него, вправо, высился розово-сиреневый Златоустовский. Чуть подальше – коричневый Екатерининский, а на остроконечной горке, рядом с дворцом золотопромышленника Харитонова, отданным нынче областным курсам профдвижения, – белый Богоявленский.
Правда, в Богоявленском соборе церковные службы давно не справлялись, там помещалась школа второй ступени, где теперь учился я. Собор прикрыли после того, как в его подвале по слухам работники ОГПУ обнаружили тайный склад огнестрельного оружия, который будто устроили настоятель и кое-кто из священников, связанные с контрреволюционной организацией…
А вокруг соборов все было разбито на строгие прямые кварталы (город заложили при Петре Первом). И вот за последнее время он стал менять свой облик.
Прошлой осенью в самом начале нашего квартала выкорчевали ветхие деревянные домишки и обнесли образовавшийся пустырь тесовым забором, а на воротах прибили вывеску, сделанную в мастерской Оловянникова: «Строительство новой городской гостиницы».
– Батя, – спросил Глеб у Николая Михайловича, – а зачем еще одна гостиница? Неужели не хватает?
– Вот то-то и оно, что скоро не станет хватать! – усмехнулся Николай Михайлович. – Это новая… пятиэтажной будет.
– Пятиэтажной! – воскликнули мы с Глебом.
– Пятиэтажной. Такая сейчас, друзья, пора в Республике начинается, что никому даже и во сне не снилось. В одном только нашем городе столько заводов и фабрик намечено построить, столько контор и столько людей станет прибывать к нам, что, думаю, и пятиэтажной гостиницы не хватит. Слыхали, за вокзалом уже точно запланирован машиностроительный гигантский завод.
Про гигантский машиностроительный завод мы прекрасно знали. В верхнем квартале Никольской улицы жил инженер, и за ним по утрам приезжал экипаж, а зимой – сани с пегой лошадкой. Инженер этот производил съемки местности для будущего завода.
Расширялся и старый металлургический завод на западной окраине города; рядом с ним возводились каменные дома для рабочих, а на Главном проспекте, около Екатерининского собора, начинали закладывать огромные жилые комбинаты, получившие название горсоветовских. Сам Главный проспект мостили заново, а многие проезжие улицы, не мощенные раньше, покрывались булыжником. На страницах окружной газеты писали о проектировании зданий со странными названиями: «Дом контор», «Дом промышленности», «Деловой дом».
Похоже было, что недалек тот день, когда в городе не нужна станет такая древнейшая профессия, как профессия водовозов. Наш двор обслуживал «потомственный почетный водовоз» Федор Поликарпович Завалихин.
В последнее время Федор Поликарпович продавал воду чуть ли не даром и обязательно был под хмельком.
– С горя, клиенты милые, градусы принимаю, с горя, – разъяснял он, смахивая с рыжих ресниц слезы. – Каюк мне, крышка… Канавы под водопроводные трубы уже копают. Куда я, несчастный, с моей кобылой Машкой денусь? Пропаду!
– Не горюй, Федор Поликарпович, – утешал водовоза Николай Михайлович. – В Республике сегодня работящие люди не пропадают. На строительство поступишь, на любое: доски, глину, кирпич, песок возить с Машкой станете.
Обижались на жизнь и городские извозчики: у них появились конкуренты – автобусы. Сначала конкурентов было, правда, немного – пять юрких «фордиков», и ходили они от вокзала до Цыганской площади. Потом у заграничной фирмы «Фомаг» было куплено восемь больших желто-коричневых автобусов.
Извозчики называли автобусы собачьими ящиками и утешали себя тем, что в городе еще достаточно грязных и топких улиц, по которым никакой «Фомаг» и метра не проедет. Как же обойтись на этих улицах без лошадиного транспорта?
Александр Данилович Оловянников, любивший ругать все новое, к автобусам, наоборот, относился положительно.
– Извозчику давай четвертак, а кондуктору лишь пятак, – разъяснял он Николаю Михайловичу. – Хоть здесь нам Советская власть навстречу идет… А то, окромя налогов, мы, деловики, ничего хорошего от нее не видим… Шутка сказать, вчерась фининспектор опять налоговый лист принес, хоть мастерскую закрывай.
– Ничего, выдержишь! – похлопал его по плечу Николай Михайлович. – Невыгодно было – давно бы сам привесил замок на свое заведение. Жаль, что Республике некогда сейчас в массовых масштабах заниматься устройством государственных предприятий по писанию вывесок…
Все это мне почему-то вспомнилось, когда я после занятий с Григорием Ефимовичем сидел на скамейке у наших ворот и ждал Глеба.
Колокол на каланче второй пожарной части пробил половину шестого, а Глеб все не появлялся. Я хотел было рассердиться и пойти один мастерить сабли, как вдруг заскрипела калитка в соседних воротах и на улице показалась Герта.
– Герта! – крикнул я, видя, что она направляется в противоположную сторону. – Куда ты?
– Тороплюсь, некогда! – отмахнулась Герта.
– Подожди секундочку! – я догнал ее. – Глеб потерялся.
– Не бойся, не потеряется! Застрял у Галины Львовны.
– Наверно. А ты куда спешишь? Секрет?
Герта остановилась.
– Понимаешь, Гошка, к нам зашел Тимофеич, настройщик. Его вызывал дедушка: у пианино звук стал пошаливать. Пока Тимофеич разбирает и проверяет пианино, я за дедушкой сбегаю. Утром мастер едет в Пермь гостить к двоюродному брату Борису Петровичу, и ему нужны деньги. А дедушка как раз у ксендза Владислава. Ксендз обещал, – она покраснела и чуть слышно сказала, – выдать наградные…
– Слушай, Герта! – не обращая внимания на слово «наградные», предупредил я ее. – Только не ходи, прошу тебя, мимо дома Левки Гринева. Левка, чего доброго, выскочит и оттаскает тебя за косы. Больно ведь будет!
– Какой ты, Гошка, заботливый, – звонко рассмеялась Герта и задорно тряхнула косами. – Не ожидала!
Левка Гринев был пасынком владельца ресторана «Чудесный отдых» Юркова. До этой осени мать не пускала Левку в обычную школу, а нанимала частную учительницу, зубрившую с ним всю программу первой ступени.
– Левушка мой – чувствительный и нежный ребенок, – поясняла своим приятельницам Левкина мать, Ганна Авдеевна. – А в школах в теперешние годы, сами знаете, процветает кошмарное хулиганство. Слышали, в Москве ученики даже учителя зарезали… Пусть ребенок учится дома, будет и от дурных влияний подальше, и у меня на глазах.
Однако программу второй ступени в домашних условиях пройти было невозможно, и Ганна Авдеевна со слезами записала сына в настоящую школу.
Мы Левку знали давно и «чувствительным и нежным ребенком» никогда не считали: кулаки он имел здоровые, их удары многие из нас испытали на себе. Из всех нас сильнее Левки, пожалуй, был один Валька. С Валькой Левка связываться боялся, только швырял в него из-за забора камни.
Герту же он преследовал: ему почему-то не давали покоя ее косы.
Года два назад мы втроем, после того как Левка облепил Герту репейником, подкараулили «чувствительного ребенка» и налупили. Левкина мать кричала в тот день на всю улицу, что мы выродки, дегенераты и разбойники. Больше всех от нее досталось Борису. Какими только прозвищами Парень Семена Палыча не награждался! В конце концов она поклялась, что пошлет письмо народному комиссару здравоохранения и потребует, чтобы народный комиссар объявил строгий выговор врачу Зислину за плохое воспитание собственного сына.
– Эх вы! – укоризненно сказал нам Николай Михайлович. – Трое на одного? Что за Герту заступились – молодцы! Но не дело, друзья, не дело оравой одного бить.
– Попробуй с ним один на один, получишь сразу по зубам! – стал оправдывать нашу тактику Глеб.
– Попробуйте! Понапористей будьте! Левка ваш в душе трус, а вы ему первые вечно спины показываете.
Николай Михайлович был прав: каждый из нас в отдельности всегда бегал от Левки. Уж очень воинственно размахивал он чугунными кулаками и умел как-то угрожающе вращать зелеными кошачьими глазами.
Сейчас мы с Левкой оказались в одной группе. Его парта стояла в том ряду, в котором сидели Глеб и я.
В старой нашей школе первой ступени не было пионерского форпоста, а в новой он имелся. Отвечала за него пионерская база фабричного клуба, так как почти все пионеры этой базы учились в бывшем соборе. Председателем форпоста был ученик седьмой группы «А» Сергей Гущин.
Заведующий школой Александр Егорович очень гордился форпостом и в актовом зале выделил нам место для пионерских стендов. Вальке еще раз, теперь уже по моей просьбе, пришлось переписать на большом листе картона «Законы и обычаи юных пионеров».
Левка в школе довольно скоро нашел себе дружков, вернее, ему подсказала мать. Это были сыновья ее богатых подруг. Компания подобралась что надо, и в перемены (на уроках приходилось считаться с учителями) Левка и его приятели стали вести себя по-хамски.
Однажды пионеры попытались спеть новую песню «Через речку перешли», так Левкина орава начала мяукать и лаять, и хорошая затея была сорвана.
Как-то Левка, подкараулив на лестничной площадке Бориса, схватил Парня Семена Палыча за галстук и ехидно спросил:
– Как нужно ответить?
– Не тронь рабочую кровь! – гордо проговорил Борис, пытаясь освободить галстук из цепких Левкиных рук.
– Не тронь рабочую кровь? Врешь! Какая же у тебя рабочая кровь? Ты докторское чадо, – смеялся Левка, не замечая, что с верхнего этажа спускаются несколько пионеров из седьмой группы.
Он не успел опомниться, как его подняли за шиворот и чуть не спустили с лестницы. От дальнейшей расправы Левку спасло только то, что, по пионерским законам и обычаям, запрещалось прибегать к физической силе. После этого Левка дня три сидел в классе тише воды и ниже травы. Даже, видимо, не рискнул пожаловаться матери. Во всяком случае, Ганна Авдеевна в школу не прибегала и скандала не устраивала.
Вот почему, хорошо зная Левку, я и не советовал Герте идти мимо дома Гринева. Но Герта решила все по-другому.
– Я пойду, Гошка, там, где ближе, – заявила она. – Прямее ближе! Понял? И твой ненаглядный Левка мне ни на мизинчик не страшен.