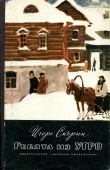Текст книги "Ребята с улицы Никольской"
Автор книги: Стефан Захаров
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
XVI
Валька Васильчиков, уйдя от дяди, поселился в молодежном общежитии. На окружную биржу труда он пошел вместе с Леней и со мной. Без Лени у Вальки ничего бы, конечно, не получилось, а я увязался за ними ради любопытства. Помещалась биржа на Главном проспекте, у плотины, в большом старинном белокаменном здании со строгим красивым фасадом. Коридоры биржи были заполнены людьми различного возраста. Одни получали здесь работу быстро, как, например, группа молодых ребят с Украины, сразу согласившихся поехать на лесозаготовки, другие ходили сюда, наверное, неделями.
Пока Валька и Леня оформляли анкету, я пристроился на подоконнике в коридоре и рассматривал посетителей. В основном, как я заключил, на учете тут состояли люди так называемых чистых канцелярских должностей. Безработных же иных профессий на бирже труда сейчас было сравнительно мало. Слесари, каменщики, плотники и землекопы получали работу немедленно.
Ждать пришлось долго.
Наконец, когда я уже совсем отчаялся увидеть своих друзей, в коридоре показались Леня и сияющий Валька.
– Все в порядке! – весело доложил наш вожатый. – Теперь плывем прямо в редакцию областной комсомольской газеты. Поздравляю тебя, товарищ Валентин, с началом настоящей трудовой жизни!
И, размахивая официальным Валькиным направлением на работу, мы поспешили к выходу.
Было бы неверно думать, что Александр Данилович Оловянников так просто отступился от своего племянника. В тот момент, когда он отлетел от Валькиного удара в угол и испуганно заорал, ни Глеб, ни Борис не пришли ему на помощь. Обиженный Оловянников, кряхтя, сам поднялся с пола, вытер нос и зло прохрипел:
– Еще пионерами называетесь! При вас на человека покушались, а вы хоть бы хны! Один из пионеров даже сыном врача считается. Срам! Ладно, дома с тем паршивцем побеседую…
Дома и во дворе Вальки не оказалось. Жена ничего вразумительного сказать Александру Даниловичу не могла, сообщила только, что племянник заскочил на минуту за сундучком. Оловянников струхнул: уж, чего доброго, не направился ли Валька с жалобой к прокурору или в общество «Друг детей». А иметь дела с представителями власти Оловянникову не очень-то хотелось. С досады он пнул попавшегося под ноги кота Мазепу, цыкнул на плачущую жену и начал нервно барабанить пальцами по оконному стеклу.
В этот вечер Александр Данилович заглянул и к Пиньжаковым, и к Зислиным, и к Павлинским, и к нам и везде спрашивал:
– Нет ли у вас моего Валечки?
Через два дня Оловянников все же отыскал Валькин след и, подкрепившись для храбрости стопкой водки, явился в молодежное общежитие. Ввалившись без стука в комнату, он грозно зашипел:
– Валентин, собирайся!
Валька, надев наушники, слушал через детекторный приемник радиопередачу. В первый момент при виде дяди парень испуганно вскочил, но, опомнившись, сел на свое место и спокойно ответил:
– Благодарю, дядя Саня, за приглашение, но, простите, назад не пойду.
Леня, сняв сапоги, лежал на кровати, читал новую пьесу, принесенную Юрием Михеевичем в Студию революционного спектакля. Удивленно посмотрев на незваного гостя и отложив пьесу, наш вожатый тихо, как бы про себя заметил:
– По-моему, входя в чужой дом, надо спрашивать разрешения.
– Какое тебе нужно разрешение? – визгливо заорал Оловянников. – Племянника родного украл? Украл. Разрешением у меня интересовался? Нет! Бандюга с проселочной дороги…
Леня молча поднялся, натянул сапоги, подошел к двери, открыл ее, повернул Оловянникова, вывел его по коридору на улицу и поучающе произнес:
– Советская власть никого эксплуатировать не разрешает. Положение это распространяется и на племянников и на племянниц. Понятно? Если не понятно, ждем для популярного разъяснения в комсомольской ячейке…
В ячейку Александр Данилович, конечно, не пошел, а с Алексеем Афанасьевичем Уфимцевым, узнав, что тот согласился учить Вальку, постарался встретиться.
– На что вам деревенский вахлак? – доверительно подмигивая, задал он вопрос художнику. – Не научить вам дурака, время зря убьете. А если уж так желаете с ним возиться, милости просим в мою мастерскую, поднатаскайте Валентина хорошенько по писанию вывесок. У меня краски добрые имеются, чужеземные. Могу безвозмездно предложить. Мы, труженики искусства, завсегда договоримся…
Но Уфимцев лишь посмеялся над предложением Оловянникова.
Без Вальки дела у Александра Даниловича пошли совсем худо. Заказчики скандалили и спорили, вывески брать не хотели и обзывали маляра за его «художества» самыми последними словами. Оловянников, придя домой, плевался, чертыхался и пытался действовать на племянника через жену, но Валькина тетка была плохой дипломаткой и возвращалась из общежития ни с чем.
А Валька бегал весь день по людным кварталам с пачками газет под мышкой и звонким голосом выкрикивал последние новости. Правда, первые дни торговля у него проходила не блестяще. Он стеснялся и от всей души завидовал бойким мальчишкам-газетчикам, чувствующим себя на улице как дома. Но постепенно он привык. До выхода очередного номера из печати Валька читал верстку, чтобы знать содержание полос, потом установил, где в городе самые лучшие места для торговли. Алексей Афанасьевич занимался с ним в свободные часы регулярно и не мог нахвалиться успехами своего нового ученика. Не оставлял Валька и наших уроков, только теперь мы собирались не у Галины Львовны, а в общежитии.
Тогда похудевший от забот Александр Данилович, видя, что племянник обходится без него, решил нанести ему «роковой» удар: срочным письмом вызвал в город Валькину мать. Вот ее-то и повстречали мы с Глебом седьмого ноября на крыльце оловянниковского дома.
– Ты, сестрица Елена Емельяновна, пройдись сама до того бесовского вертепа, – вещал елейным голосом Александр Данилович. – Взгляни, как твой неблагодарный сынок развлекается.
И Елена Емельяновна (мы узнали Валькину мать: очень уж она лицом походила на сына) ответила сквозь слезы:
– Спасибо вам, Александр Данилович, что известили меня. Недаром мое сердце целую неделю болело. А материнское сердце, оно завсегда беду чует. Как я получила от вас депешу и деньги на дорогу, все дела забросила, ребят малых без надзора оставила, соседушкам ничего не наказала…
– Ты, сестрица Елена Емельяновна, выходит, пойдешь таким манером, – оборвал Оловянников причитания Валькиной матери и, сведя ее с крыльца на тропку, начал объяснять дорогу в молодежное общежитие.
– Тетя! – воскликнул вдруг Глеб. – Хотите, мы вас туда проводим?
– Ой, спасибо, мальчик! – обрадовалась Елена Емельяновна. – В городе-то я не особенно хорошо разбираюсь, чего доброго, заблужусь.
Александр Данилович, отталкивая Глеба, поспешно заговорил:
– Сами дойдем, сестрица Елена Емельяновна. Я довести тебя собирался…
– Что вы, Александр Данилович! Мне как-то стыдно вас затруднять проводами. Уж пускай мальчики…
– Мальчики не в свое дело суются, – добродушно произнес Оловянников, но взглядом своим он готов был испепелить нас.
– Топаем за ними! – распорядился Глеб, когда Оловянников и Валькина мать скрылись за воротами.
– Зачем? – удивился я.
– Эх ты! – рассердился Глеб. – Оловянников ей короба три про Вальку наболтал. Надо разоблачить!
– Верно ведь! – воскликнул я. – Бежим!
И, как настоящие сыщики, о которых нам приходилось читать, мы осторожно, стараясь держаться на определенном расстоянии, последовали за Александром Даниловичем и Еленой Емельяновной.
Перед общежитием Оловянников остановился и, показывая на окна, где жил Валька, что-то убежденно начал говорить. Елена Емельяновна лишь кивала в ответ головой и, очевидно, соглашалась со всеми его доводами. Наконец они расстались. Александр Данилович направился обратно, а Валькина мать, почистив варежками валенки, робко поднялась на ступеньки. Мы с Глебом юркнули в незнакомый двор и переждали, пока Оловянников, машинально насвистывая танго «Аргентина», прошел мимо.
– Шашки к бою! – скомандовал Глеб.
…И Валька, и Леня, и Сорокин, и Максимов – все были в сборе и отдыхали после демонстрации.
Появись в общежитии сейчас сам Чемберлен, Валька, наверное, удивился бы меньше, чем приезду матери. О том, что он сбежал от дяди, наш друг ничего в деревню не писал: боялся. Правда, из первой получки Валька собирался послать матери денег, но его получка должна была быть лишь в середине месяца.
В дверь осторожно постучали, и Леня пробасил:
– Можно.
Валька сначала даже не мог сообразить, кто это стоит на пороге. Елена Емельяновна, зажмурившись от яркого электрического света, тоже ничего не говорила.
– Вам, товарищ, кого? – спросил с любопытством Леня.
– Валентина… Федоровича, – нерешительно ответила Елена Емельяновна и попятилась назад.
– Матушка! Мама! – закричал Валька, сообразив наконец, что перед ним стоит мать, и кинулся к ней.
Но Елена Емельяновна оттолкнула сына и, расстегнув свою кацавейку, достала спрятанный на груди ременный кнут. С появлением кнута вся ее робость сразу улетучилась.
– Бегоулом стал, мать забыл; дядю, который тебе столько добра сделал, не уважаешь, – запричитала она. – Да я тебя!..
В этот момент в комнату влетели мы.
– Мама… Матушка… За что? – произнес растерявшийся Валька. – Бейте, конечно, но поясните.
– Ему еще пояснять? Осрамил семью на цельный мир… С кем живешь? Где живешь?
– В общежитии, у комсомольцев, – вмешался Глеб.
– Комсомольцы его, непутевые, против родных взбунтовали!

– Подождите, товарищ родная мать Валентина! – остановил Елену Емельяновну Леня. – Снимите свою теплую одежду, проходите, гостем дорогим будете. Побеседуем, разберемся…
– Правильно! – поддержал Леню Сорокин. – Давайте я помогу вам повесить на вешалку ваше пальто.
– А вы все кто такие? – подозрительно спросила Елена Емельяновна.
– Мы комсомольцы, – запросто ответил Леня и, показывая на Глеба и на меня, добавил: – А они вот пионеры… Валентин ваш пока не пионер и не комсомолец, но договорились, что через год начнет готовиться к поступлению в комсомол…
– В комсомол? – Елена Емельяновна ударила Вальку по спине кнутом. – Да я ему задам! Каков негодяй! В комсомол вписываться надумал, а дядю родного не уважает. Собирайся живо к Александру Данилычу, в ноги упади перед благодетелем, прошение вымоли!
– Товарищ! – строго произнес Леня. – У нас драться запрещено… А с Александром Даниловичем связываться во как не требуется: он человек иного понятия.
– Мама, – спросил Валька, – как вы приехали?
– Так и приехала! – отрезала Елена Емельяновна. – Депешу от Александра Данилыча получила…
И она подала Вальке перегнутый пополам конверт. Валька положил конверт на стол перед Леней.
– Читайте-читайте! – разрешила Валькина мать.
И Леня стал вслух с выражением читать послание Оловянникова. Чего только там хитрый маляр не наплел. Выходило, что он одел и обул Вальку, поселил его в отдельной комнате, учил «рисовать вывески и объявления», а племянник, вместо того чтобы благодарить дядю, связался с преступной компанией, познакомился с бездельницей-дворничихой, сбежал к комсомольцам в общежитие, где процветают пьянство, разврат и картежная игра.
Когда Леня кончил, все мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Даже сам Валька не смог сдержать улыбки.
– Чего это вы? – опешила Елена Емельяновна.
Пожалуй, с полчаса разъясняли Валькиной матери Леня, Сорокин, Максимов и Глеб про горькое житье-бытье ее сына у богатого родственника. Даже я и то вставил несколько слов в общее повествование. Один лишь Валька, опустив голову, молча сидел на кушетке.
Сначала Елена Емельяновна никак не хотела нам верить.
– Боже мой! – восклицала она через каждую минуту, испуганно разводя руками. – Неужели правда?
И только когда Леня показал ей бывший Валькин кафтан, разостланный у порога для вытирания ног, Елена Емельяновна поверила и заголосила:
– Горе мне, горе. Кому я свое родимое дитя доверила!
И, кинувшись к Вальке, он стала обнимать, целовать его, приговаривать:
– Назад, сынок, поедем. Назад. Собирайся, сынок, собирайся! Поедем в деревню… Прокормлю тебя… Добрые люди не дадут с голодухи помереть!
– Мама, матушка! – успокаивал ее смущенный Валька. – Не убивайтесь вы этак, я ведь скоро сам получать деньги начну и вам помогу, и братикам, и сестренкам… А про дядю Саню позабудьте, эксплуататор он форменный.
Еще через полчаса мы все устроились за столом и пили сладкий чай. Оставшиеся неясности были уточнены и договорены. Вальке разрешалось жить в общежитии и работать в редакции при условии, что он во всем будет слушаться Леню. Лене Елена Емельяновна подарила кнут и просила не жалеть Вальку, если сын ее в чем-либо провинится. Леня в ответ громогласно рассмеялся и, подняв стакан сладкого чая, предложил выпить «за смычку уральского пролетариата с уральским крестьянством».
Ночевать Елену Емельяновну поместили на верхний этаж, к девчатам. Про Оловянникова она больше ничего не хотела слышать, а лишь жалела его жену, свою сестру, которой «приходится знаться с эксплуататором».
На другой день, восьмого ноября, в клубе был общий сбор нашей пионерской базы, посвященный десятилетию Октябрьской революции. Но, к великому сожалению, членам Студии революционного спектакля принять участие в первом отделении этого сбора не пришлось. К сбору как раз приурочивалась премьера «Красных дьяволят», и, пока в зале проходили торжества, а старших пионеров передавали в комсомол, мы, одетые в костюмы буденновцев и махновцев, сидели за кулисами и гримировались. Юрий Михеевич считал, что «грим – великое дело», без которого настоящий, классический спектакль, а к такому спектаклю он относил и «Красных дьяволят», не может существовать. Старый актер даже проводил после репетиции специальные занятия по искусству гримирования и добился того, что каждый студиец умел накладывать на лицо какой угодно грим.
Когда я налепил себе из гуммоза[19]19
Гуммоз – клейкий цветной пластырь, употребляемый для грима.
[Закрыть] нос картошкой и приклеил рыжие висячие усы, Юрий Михеевич одобрительно крякнул и сказал:
– Браво! Брависсимо! Но у меня, Георгий, к тебе громадная просьба: появляешься ты лишь в массовых эпизодах, в остальные моменты свободен…
– Ага! – ответил я, вглядываясь в зеркало.
– Только свободы, – продолжал Юрий Михеевич, – тебе не видать сегодня, как собственных ушей. Будешь сидеть с пьесой в суфлерской будке в свободное от игры время и следить… Не морщи лоб. Удивляться не надо. Шевякин в «Любови Яровой», как вышел в первой картине на публику, оробел и текст забыл. Накладка серьезная. Потом, правда, все в норму вступило. Зрители-то не заметили накладки, а я струхнул. На подмостках всякое происходит. Вы – люди, совершенно пока не искушенные в великом мастерстве сцены… Суфлерство у тебя, знаю, получается, вот и доверяю поэтому. Возьми в старом русском театре, спектакли готовились там на скорую руку за три-четыре дня. Ясно, что при столь быстром темпе роли наизусть не выучишь. Суфлер в те времена богом у нас считался, с суфлером все актеры дружить старались, суфлер всегда мог спасти положение, если кто собьется с текста или запамятует. Сам великий Владимир Николаевич Давыдов перед суфлером преклонялся…
Я отказываться не стал: суфлером так суфлером. Попариться во время премьеры пришлось здорово: надо было лезть то на сцену, то под сцену. Даже шишку на лбу насадил, стукнувшись о край суфлерской будки. Валерка Чернов, игравший Махно, так входил в образ, что забывал все на свете и начинал говорить совсем не по пьесе. Мне удалось подсказать ему несколько раз.
Помню, как после заключительной картины зрители вскочили со своих мест и, хлопая в ладоши, вызывали режиссера и актеров. А самые голосистые кричали:
– Походникова!
– Пиньжакова!
– Плавинскую!
– Зислина!
– Чернова!
Мою фамилию, как обычно, никто не называл. А я и не обижался, ибо сценическая слава меня не прельщала. В последнее время под впечатлением Валькиных рассказов о редакции я надумал стать журналистом, да не простым, а каким-нибудь важным. Разве плохо, например, будет звучать: «Ответственный секретарь редакции Георгий Сизых».
Посмотреть премьеру Студии революционного спектакля пришли по приглашению Глеба и Игнат Дмитриевич с Терехой, приехавшие утром с Северного завода, чтобы поздравить своих родственников с годовщиной Октября. Были на спектакле и Валька с матерью, и наши родители, и учителя. Звали мы и Вадима, но для конной милиции никаких праздников не существовало. Весь день восьмого ноября Вадим патрулировал по городу.
– Думал ли я, побей меня бог, в молодые годы, – сказал вечером Глебу Игнат Дмитриевич, смахивая с ресниц слезы, – что на той самой сцене, которая для потехи хозяев мастерилась, мой внук станет представления давать.
XVII
С фасадов домов и с заборов поснимали флаги, портреты, лозунги, разноцветные лампочки, и снова потекли трудовые будни. Прекратились на время занятия в Студии революционного спектакля: Юрий Михеевич спешно подыскивал новые пьесы и целые вечера сидел в публичной библиотеке имени Белинского.
В свободные часы мы пропадали теперь на городском пруду. Там вскоре после праздников Уралпрофсовет открыл каток. У Глеба, у Герты и у меня имелись простенькие коньки «снегурочки», у Бориса – чуть получше: «нурмис». Сынки и дочки нэпачей катались только на дорогих коньках «английский спорт», но мы им не завидовали. Мы держались на льду гораздо лучше.
В теплушке, вернее, в холодушке, где помещались раздевалка катка и буфет, друг Левки Гринева, Денисов, как-то стал угощать нас ирисками.
– Берите, дружки, не стесняйтесь! – ласково говорил он. – Скоро я тоже попаду в пролетарии… Папашка мой собирается прикрывать свою галантерею. Считает, что, если вовремя ее не ликвидировать самому, государственные магазины все одно по миру пустят. Умные головы появились в государственных магазинах. Надоело отцу с ними конкурировать.
– А куда же у тебя, Денисов, папа служить поступит? – наивно спросил Борис.
– В артель кооперативную собирается.
– А возьмут ли? – усмехнулся Глеб.
– Проситься будет. Вот так… Он жизнь торговую с детства знает. Кооперации его опыт пригодится.
– Там опыт пройдох не нужен! – отрезал Глеб. – Там все на честных началах. Двигаемся, пестери, на круг…
В тот день было воскресенье, и в застекленной будке, над теплушкой, играл духовой оркестр пожарных, народу на катке собралось видимо-невидимо.
Глеб понесся вперед в паре с Гертой, а вслед за ним мы с Борисом. Нас обогнал высокий плечистый конькобежец, обвязанный чуть ли не до глаз длинным шерстяным шарфом. Рядом с ним на «нурмисе» легко рассекала лед стройная черненькая девушка с завитой челкой. Наверно, высокий конькобежец специально прятал свое лицо, чтобы не быть узнанным. Но я сразу отгадал, кто это.
Я взглянул на Бориса: показать ему или нет таинственного конькобежца? Но, вспомнив, как меня разнесли осенью за посещение дома ксендза Владислава, решил, что показывать не стоит. Пусть католический священник развлекается, и пусть пани Эвелина охает, если услышит про забавы своего подопечного. А может, догнать Глеба и Герту, отозвать Герту в сторонку и кивнуть на ксендза? Но как быть с Глебом?
«Ладно! – подумал я. – Леший с ним! Пусть ксендз катается, пока свои же католики не отошлют его назад, в Польшу. А партнерша-то у ксендза симпатичная… Но наша Герта лучше…»
На другой день, утром, Глеб сообщил мне сногсшибательную новость, и я сразу позабыл и про ксендза, и про его партнершу: забастовали рабочие Северного завода, да забастовали не одни. К ним присоединились и шахтеры с копей «Ключи» и «Бурсунка», которые в свое время тоже были сданы в концессию.
– Дедушка с Терехой приехали, – рассказывал Глеб. – После школы зайдем к нам, все подробно выспросим…
Однако выспрашивать нам особенно ничего не пришлось. Игнат Дмитриевич готов был толковать про забастовку хоть весь вечер. До обеда они с Терехой ходили в Уралпрофсовет по различным заводским делам и договорились там о полной поддержке и помощи со стороны профсоюзов и даже послали спешной почтой какое-то важное письмо в Москву…
Оказывается, перед самым праздником Октябрьской годовщины по Северному заводу поползли упорные слухи, что и в эту зиму концессия не собирается выдавать новой спецодежды.
– Пусть откупаются деньгами, – говорили рабочие. – Мы на деньги в городе достанем что нужно.
И когда Самсон Николаевич спросил управляющего, будет или не будет спецодежда, тот, пожав плечами, улыбаясь, ответил:
– Думаю, господин председатель завкома, что не будет. Договор, заключенный между акционерным обществом и вашим государством, приближается к финалу. Зачем, поймите сами, акционерному обществу лишние расходы. Видите, я от вас ничего не скрываю.
– Мы готовы и на денежную компенсацию…
– Что? – воскликнул удивленный Альберт Яковлевич, но тут же сдержал себя и приятно улыбнулся. – Господин председатель завкома, акционерное общество в эти месяцы не располагает лишними капиталами. Может случиться, что и ближайшую заработную плату акционерное общество задержит. Конечно, не на огромный срок… Поэтому, извините меня, но разговор о денежной компенсации есть не что иное, как пустая трата времени.
Вечером, собрав членов завкома и пригласив представителей партячейки, Самсон Николаевич доложил им подробно о беседе с управляющим. Шум поднялся невероятный. Больше всех возмущался Игнат Дмитриевич, хотя, как уже известно, в завкоме не состоял.
Все мнения в конце концов сошлись к одному: компромиссы отбросить и требовать от акционерного общества полного соблюдения заключенного договора. Если послепраздничная получка будет задержана и спецодежда не выдана, объявить забастовку.
– И в городе нас поддержат, – заявил Самсон Николаевич. – Продемонстрируем иностранным акционерам, что с Советским государством шутить опасно.
У Альберта Яковлевича на заводе имелись «уши». Поэтому на следующий день управляющему стало известно о решении завкома, да завком и сам не делал особой тайны из своего заседания.
– Постарайтесь понять меня как доброжелателя, как друга, – говорил Альберт Яковлевич, явившись к Самсону Николаевичу. – Затевать забастовку бесполезно. Завод, господин председатель завкома, работает в темпе, продукция выпускается, следовательно, здесь претензий к договору нет. К чему, господин председатель завкома, волновать народ? Неужели мы с вами не поймем друг друга? Акционерное общество отблагодарит человека, который пойдет навстречу его финансовым интересам. Но денег рабочим в эти дни, подчеркиваю, не будет.
Самсон Николаевич внимательно слушал управляющего, не перебивая и не задавая вопросов. Когда тот кончил, председатель завкома встал, поклонился ему и иронически произнес:
– Я вам отвечу примерно вашими же недавними словами: извините меня, но этот разговор не что иное, как пустая трата времени.
– Делаете хуже лишь себе, – ответил Альберт Яковлевич и, улыбнувшись, ушел.
Ночью в одном из цехов завода чуть не произошла авария. Кто-то попытался вывести из строя мощный листопрокатный стан, купленный концессией два года назад у чехословацкой фирмы «Витковец». Преступнику совершенно случайно помешали, но задержать его в общей суматохе не сумели, и он благополучно скрылся, так никем и не опознанный.
А утром из города прикатил сам глава Урало-Сибирской конторы акционерного общества. Вместе с Альбертом Яковлевичем этот пузатый господин прошел по всем цехам, всюду тыкал палкой с золотым набалдашником. С завкомовцами глава конторы разговаривать не пожелал, показал лишь палкой на управляющего: вот, дескать, местный царь и бог, с ним и разрешайте все спорные вопросы. А дня через два Альберт Яковлевич сообщил Самсону Николаевичу, что акционерное общество намерено подать Советскому правительству жалобу на саботажников-рабочих, пытавшихся якобы вывести из строя концессионное оборудование.
– Это оборудование и ваше и наше, – ответил председатель завкома, – и нам, понимаете, нет никакого смысла его портить… А про спецодежду что слышно?
Управляющий лишь улыбнулся.
В конце недели, когда должна была быть зарплата, около кассы заранее собралась очередь. Вместе с мужьями в очереди стояли жены и дети. В три часа окошечко открылось, высунулась плешивая голова старшего кассира, и рабочие услышали, что им предлагается получить пятьдесят процентов зарплаты деньгами, а остальная сумма заменяется продуктами из концессионного магазина.
– Долой гнилые ваши продукты! Долой тухлую колбасу! – раздалось из очереди. – Кому она нужна!
– Я лишь выполняю приказы свыше, – растерянно пояснил старший кассир и скрылся.
Рабочие пошли в завком. Самсон Николаевич тут же отправился в заводоуправление, но управляющий ничего внятного сказать не смог.
– …И тогда, – рассказывал нам Игнат Дмитриевич, возбужденно размахивая длинными руками, – наши ребята забастовали. Деньги потребовали полностью, спецодежду полностью. На особом собрании выбрали стачечный комитет. Вот какие дела завертелись, побей меня бог. Руководителем стачечного комитета умного мужика выдвинули. Ершов его фамилия. Слышали про такого героя? С пограничных войск недавно демобилизовался, на польском рубеже служил. Ну и тут сразу распоряжение отдал: выставить в цехах пикеты для охраны заводского имущества и оборудования. По-красноармейски дело организовал. Вот и бастуем, не работаем, тихо на Северном, домна затухла, мартен заглох. А акционерам, кошкиным детям, требование отправлено. Болтают, что какой-то главный их на Урал срочно едет. Были у нас недавно и городские товарищи из Союза металлистов, совместно надумывали, как помощь заводу изыскать…
– Да мы вас, Игнат Дмитриевич, поддержим! – перебил старика Николай Михайлович. – Через профсоюзы поддержим, да и все сознательные люди Республики поддержат… А хитра концессия. Хитра. В конце договора захотела чего-то для себя выгадать. Но ни капельки не выгадает…
– Не выгадает! – стукнул кулаком по столу Игнат Дмитриевич.
Тереха посмотрел на брата и тоже стукнул кулаком по столу.
– Не выгадает, – подтвердил он.
* * *
В городе многие знали, хотя в газетах об этом и не писали, что Северный завод бастует и что почти одновременно с ним забастовали и угольные копи «Ключи» и «Бурсунка». Поэтому никто из учеников не удивился, когда на уроке обществоведения Петя Петрин спросил:
– Владимир Константинович, вы нам объясняли про стачечную борьбу в капиталистических странах. А как же получается в нашей стране?
Владимир Константинович, хитро посмотрев на Петю, снял свои большие очки и стал их протирать носовым платком. Мы с нетерпением ждали ответа.
– Понимаю, – сказал учитель, – чем твой вопрос, Петрин, вызван…
– Я ведь, Владимир Константинович… – Петя почему-то смутился и сел на место.
– Понимаю… Не красней! Правильно поступаешь, что интересуешься!
И учитель рассказал всей группе то, что мы с Глебом уже слышали от Николая Михайловича.
– Не надо думать, – говорил Владимир Константинович, – что в Советском Союзе велико число иностранных концессий. Концессии у нас не привились. Народ сумел собственными силами начать восстановление разрушенного хозяйства, но кое-где на первых порах концессии пригодились…
– А я слышала, что концессия на Северном всю власть захватила, оттого там и забастовка, – сказала Эля Филиппова.
Владимир Константинович рассмеялся.
– Ерунда! Какая же власть у концессии?
– Кто виноват, что на Северном забастовали? Завод не работает… – озабоченно нахмурился Денисов.
– Концессия и виновата, – спокойно возразил Владимир Константинович. – Я не знаю ни одного случая в мировой истории, когда бы забастовка вспыхнула без причин. Там, где хозяева – капиталисты, причины всегда находятся. Забастовка – мощное оружие в руках трудящихся. Но в странах капитала рабочим во время забастовки приходится потуже затягивать пояса, а наши забастовщики на концессионных предприятиях знают, что с голоду и они, и их семьи не умрут.
Вечером, когда мы отправились в фабричный клуб (Юрий Михеевич наконец-то после долгого перерыва созывал студию), Глеб сказал:
– Какую же пьесу раздобыл для нас Юрий Михеевич?
– А не желаешь ты поставить трагедию про Александра Даниловича Оловянникова? – пошутил я и засмеялся.
– Нет, не желаю! – рассмеялся и Глеб.
Александр Данилович несколько дней тому назад направил в городскую прокуратуру анонимный донос, нацарапанный печатными корявыми буквами. В доносе маляр указывал, что редакция комсомольской газеты незаконно, минуя биржу труда, приняла на работу подростка Валентина Васильчикова. Но по ошибке вместе с анонимкой Оловянников вложил в конверт расписку в получении денег за какой-то заказ. И результатом доноса был фельетон, напечатанный в воскресном номере областной газеты, где Валькиному дяде досталось, как говорят у нас, на орехи.
Встретив во дворе Николая Михайловича и заметив, что у Пиньжакова-старшего торчит из кармана полупальто та самая газета, Оловянников зло проворчал:
– Скажи, Николай, богу спасибо, что другие годы нынче. Выгнал бы я вас всех давно из своего дома. От тебя да от Глебки с Гошкой зло пошло; совратили вы мне Валентина. Раньше бы ты шапку передо мной снимал и за милость почитал, что угол сдаю…
– Все правильно, Данилыч, – ответил Николай Михайлович, похлопывая правой рукой по карману. – Все правильно. Возразить тебе не могу… Вот ведь времена как изменились. Не Российская империя теперь, а Советская Республика…
В клубе Юрий Михеевич торжественно объявил всем собравшимся студийцам, что пьесы им подобраны. Со старшими он предполагает поставить драму «Разлом», с успехом прошедшую в дни праздников в Москве и в Ленинграде. Тема этой пьесы: Балтийский флот перед Октябрем. С нами же, с пионерами и школьниками, Юрий Михеевич обещал готовить инсценировку о Робине Гуде, знаменитом английском стрелке, защитнике слабых и угнетенных, жившем в далекие феодальные времена.
– Но, собратья и друзья мои по искусству, – говорил старый актер, расхаживая по сцене, – нельзя забывать и «Любовь Яровую», и «Красных дьяволят». Мы получили приглашения выступить с этими праздничными премьерами и в клубе железнодорожников, и в клубе милиции. Завтра я сам обстоятельно выясню порядок гастролей. Обновить требуется и репертуар бригады «Синей блузы»… Работы, как видите, у нас по горло.
И работы, действительно, оказалось «по горло». «Красных дьяволят» нам пришлось играть не только у железнодорожников и у милиционеров, но и в детском доме № 1. А старшие студийцы ездили с «Любовью Яровой» по ближним деревням. О наших спектаклях в комсомольской газете даже появилась статья с рисунками Вальки Васильчикова.
Валька старался не пропустить ни одной постановки «Красных дьяволят», сидел всегда в первом ряду и все время делал какие-то наброски в маленький блокнотик. Потом он признался, что выполнял задание Алексея Афанасьевича. Результатом задания и было его первое выступление на страницах газеты.