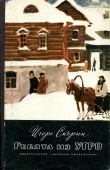Текст книги "Ребята с улицы Никольской"
Автор книги: Стефан Захаров
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Ребята с улицы Никольской
I
Глеб Пиньжаков и я жили в одном дворе по улице Никольской, только я – в старом флигеле, а он – на первом этаже хозяйского дома. Второй этаж и маленькую башенку с балкончиком занимал наш домовладелец специалист по малярным делам Александр Данилович Оловянников.
Однажды в сентябрьский вечер 1927 года – а с него, пожалуй, и начали развиваться события, о которых мне хочется рассказать, – я отправился к Глебу. Еще утром в школе мы договорились, что будем сегодня мастерить бутафорские сабли для драматического кружка. Но стать оружейниками нам не удалось: у Глеба оказались гости, вернее, не у самого Глеба, а у его родителей. С Северного завода приехал Игнат Дмитриевич, и, как всегда, не один, а вместе со своим младшим братом Терентием Дмитриевичем. Игнат Дмитриевич, бывший слесарь, могучий семидесятилетний бородач с седыми кудрями, приходился Глебу родным дедом по материнской линии. Дедом считался и Терентий Дмитриевич, но он был чуть постарше Глебовой матери, поэтому в семье Пиньжаковых его именовали просто Терехой.
В боях под Перемышлем во время империалистической войны Тереха потерял правую ногу и ходил на деревянном протезе. Брата он почему-то стеснялся и в присутствии Игната Дмитриевича обычно молчал.
Вот и сейчас Тереха скромно пил из голубого блюдечка чай и изредка поддакивал Игнату Дмитриевичу, спорившему с отцом Глеба, Николаем Михайловичем.
Я поздоровался с Пиньжаковыми и их родственниками и, осторожно присев на лавку, стал слушать.
– Ты, друг Никола, не защищай концессию! – гудел Игнат Дмитриевич. – Понятно? Следовало своим умом выходить из разрухи. А тут, побей меня бог, на помощь капиталистов пригласили…
– Свою-то фабрику вы, городские, иностранцам не спихнули, – с иронией прошептал Тереха.
– Наша фабрика важнее, чем ваш завод, – возразил Николай Михайлович, делая ударение на слове «важнее». – Она требовалась Республике, как воздух. Поэтому все силы и направляли на ее реставрацию. Ведь вы знаете, как колчаковцы фабрику обчистили…
– А наше производство они, выходит, пожалели?!
Северный завод был сдан в концессию, когда я и Глеб учились еще в первой группе[1]1
В двадцатых годах в школах Советского Союза классы назывались группами.
[Закрыть] и на мудреное слово «концессия» мы не обращали ровным счетом никакого внимания. Но в последнее время оно начало нас интересовать, и виноваты в этом были разговоры в доме Глеба.
Николай Михайлович, когда мы решились спросить его, что же все-таки представляет собой концессия, одобрительно произнес:
– Давайте разберемся! Пора изучать экономику. Как бы только понятней растолковать вам… Ну, это такое, что ли, разрешение, которое наша Республика выдает на известных условиях. Договор, понимаете, договор, заключаемый с капиталистическими фирмами на эксплуатацию заводов, рудников… Мудрено говорю?
Мы с Глебом, ничего не ответив, сосредоточенно нахмурили лбы, стараясь вникнуть в суть слов Николая Михайловича, затем переглянулись и чуть не разом гаркнули:
– А для чего договор-то с капиталистами?
– Для чего? – задумался Николай Михайлович. – Давайте и дальше разберемся. – Он заходил по комнате и, ероша кудрявые, как у Глеба, волосы, начал разъяснять. Говорил он так, будто выступал не перед двумя мальчишками, а на собрании в фабричном клубе. – Знаете, наверное, как все хозяйство России после мировой войны и после гражданской пострадало? Факт, что знаете! Восстанавливать его надо было? Надо! И очень быстро… Вот правительство наше и решило на взаимно выгодных условиях заключить ряд договоров, сдать некоторые заводы и рудники капиталистам во временное пользование. Во временное! А пора придет – их технику новую, которую они там установят, на социализм используем… Правда, лучшие-то рудники и фабрики Республика на концессии не собиралась списывать. Могли, конечно, и Северный собственными силами поднять, да там особые причины оказались…
Историю Северного завода мы хорошо знали сами. Да и как было не знать, если о ней часто напоминал Игнат Дмитриевич, а Тереха поддакивал.
В июле девятнадцатого года завод разграбили отступавшие интервенты и колчаковцы, почти все оборудование они забрали с собой, и недавно еще шумные цеха превратились в тихие, пустующие залы. А средств, чтобы наладить производство заново, у Уральского совета народного хозяйства в ближайшие годы не предвиделось, поэтому и было такое решение: временно поставить Северный завод на консервацию.
Сколько протянется это «временно», никто сказать не мог, а кормить себя и свои семьи требовалось, поэтому одни рабочие переехали с Северного в город, другие увлеклись кустарным промыслом: мастерили зажигалки, делали ложки, детские игрушки, кое-кто перешел на огородничество.
Но все надеялись на лучшее.
А «лучшее» в стране, кажется, наступало. Еще летом 1921 года в наш город с агитпоездом «Октябрьская революция» приезжал «Всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин. На митинге, проходившем на площади Коммуны, он говорил с балкона оперного театра о новой экономической политике. Сокращенно ее называли НЭП. По словам Михаила Ивановича, сейчас крестьяне, после того как выплатили продналог, могли все свои излишки везти на продажу. Продразверстка времен гражданской отменялась.
Михаил Иванович разъяснил, что только проведение в жизнь такой хозяйственной политики, предложенной Владимиром Ильичей Лениным, выведет молодую Советскую Республику из тяжелой разрухи.
Ну а городам, продолжал «Всесоюзный староста», надо будет думать о производстве нужных товаров. Смычка между селом и промышленностью должна закрепляться на деле, а не на словах…
Еще совсем недавно моя мать в дни получки приносила с фабрики так называемые совзнаки, на которых значились тысячные и миллионные рубли. Только купить на эти дикие деньги ничего было невозможно. Одна хлебная буханка стоила тогда чуть ли не сто миллионов, или, как шутили остряки, сто лимонов рублей.
Теперь же эти обесцененные совзнаки исчезли. Вместо них появились новенькие хрустящие рубли, тройки, пятерки, десятки. Бумажку в десять рублей почему-то официально звали червонцем.
Мы, ребятишки, особенно радовались звенящей мелочи: медным копейкам, двушникам, троякам, пятакам. Были даже очень маленькие монетки – полкопейки. На полкопейки, которой меня порой награждала мать, я покупал у лоточника с подвешенным на ремне через плечо лотком ириску-тянучку. Половину этой сладости оставлял себе, другую вручал Глебу. Так же делал и он, когда у него появлялся свой «капитал».
Ясно, после голодных лет жить, особенно рабочему люду, стало легче. Да и нам по карману многое было. Порой, скопив копеек десять, мы с Глебом бежали в колбасную лавку Соколова. Соколов с достоинством отпускал нам на эту сумму колбасных обрезков. Он искренне считал, что упадет в глазах покупателей, покроет себя неслыханным позором, если, взвешивая колбасу, приложит, коль вес окажется мал, еще кусочек. Вот будет лишний вес, кусочек обязательно аккуратно отрежет. Эти остатки от разных сортов колбас и назывались обрезками. Их-то Соколов и продавал по дешевке.
Конечно, в богатых магазинах, открывшихся в центре, мы ничего не приобретали. Ходили лишь поглазеть на роскошные деликатесы. А таких магазинов с богатыми товарами на центральных улицах было немало. Привлекали наши взоры и дорогие, сверкавшие чисто вымытыми стеклами рестораны, около которых дежурили лакированные экипажи с шикарными, покрытыми попонами тонконогими рысаками. Около Главной площади, словно грибы после дождя, теснились всевозможные частные конторы и склады с крикливыми вывесками.
Живописно смотрелись и торговые ряды трех городских базаров: Хлебного, Зеленого и Лузинского. Но многого там мы покупать, конечно, еще не могли. Чаще всего баловались доступными нам по цене семечками…
Понятно, что новая жизнь, новая хозяйственная политика привлекали и жителей Северного. Каждому северцу хотелось по воскресным дням иметь дома горячие пироги. И летом 1923 года объединенный поселковый Совет Северного послал в Москву письмо, где просил как можно скорее пустить завод. А осенью в столицу поехала специальная делегация, в числе которой были Игнат Дмитриевич и Тереха. Делегация побывала и во ВЦИКе, и в Центральном комитете профсоюза металлистов.
В Северный выборные вернулись с вестью, что завод скоро пустят. То, что он передавался на концессию, никого в те дни не волновало. Да и чего было волноваться? В Москве делегацию сразу же предупредили: иного выхода пока нет, потому и прибегают к помощи иностранного акционерного общества и заключают с ним договор…
История с передачей Северного завода на концессию вспомнилась мне и теперь, когда, сидя на лавке рядом с Глебом, я слушал гневные слова Игната Дмитриевича.
– Кошкины дети эти концессионеры! – шумел он. – Воспользовались тем, что нас беляки ограбили. Ведь какие права получили!
– Но, – перебил тестя Николай Михайлович, – концессионеры все свои действия обязаны проводить с учетом законодательства нашей Республики. Не так ли? Так… И железнодорожную ветку кто провел? Концессионеры! Раньше вы с Северного до города пешком топали.
– Ради своей выгоды провели, а не ради нас с тобой, – сердито ответил Игнат Дмитриевич. – А вот затратили ли они столько червонцев на новое оборудование завода, сколько по договору положено, еще вопрос. Все экономят в собственную пользу, в буржуйский карман. Вот из-за этого и Пимен Кривцов погиб!
О смерти Кривцова в свое время много писали в областной и окружной газетах. Рабочий Северного завода Пимен Кривцов стоял на завалке колошников домны. Неожиданно оттуда вырвался огромный огненный столб. Кривцов получил сильные ожоги и через час скончался.
Виновником этого события был управляющий Северной концессией. Он распорядился загрузить домну углем и рудой большой влажности. И такая загрузка производилась уже не раз.
Никакие увертки не помогли тогда акционерному обществу уйти от ответственности за смерть Пимена Кривцова. Центральный комитет профсоюза металлистов потребовал, чтобы семье погибшего немедленно было выплачено единовременное пособие в сумме годового заработка, а главный виновник несчастного случая наказан. Концессионеров предупредили о строгом соблюдении правил техники безопасности.
Вскоре управляющий Северной концессией, чтобы избежать наказания, куда-то исчез, а на его место из Франции прибыл новый. Вот о нем-то и начал рассказывать сейчас Игнат Дмитриевич.
По словам старика, выходило, что француз, которого на Северном все звали просто Альбертом Яковлевичем, – натура шибко хитрая:
– И по-своему шпарит, и по-нашему знает. И говорит ласково, обходительно. Сам красивый, как картинка. Я с Терехой недавно мнением делился: напоминает француз кого-то.
Тереха молча двинул выцветшими бровями, дескать, правду брат говорит, а Игнат Дмитриевич, подумав и почесав затылок, повторил еще раз:
– Напоминает, и здорово напоминает, а чей облик, побей меня бог, не знаю!
– В Республике народу хватает, разве всех упомнить, – серьезно сказал Николай Михайлович.
– Ну ладно! Это дело не такое уж важное, – продолжал между тем Игнат Дмитриевич. – Вспомню когда-нибудь на досуге… Ну, друг Никола, спасибо за чай, за сахар, за пряники мятные. Напились, насытились. Прогуляться надо теперь до Юрия Михеича, давненько мы с ним не встречались, о старинке не беседовали… А у тебя, Никола, в квартире, окромя как похвалу, про концессию ничего не услышишь…
Несправедливо обиженный последней фразой, Николай Михайлович даже поднялся с табуретки, на которой сидел, хотел что-то произнести, но, видимо, не мог подобрать нужных слов. Так он и стоял молча, пока Игнат Дмитриевич и Тереха надевали фуражки, хотя идти было совсем недалеко: спуститься лишь в подвал этого же дома.
II
Юрий Михеевич был чуть постарше Игната Дмитриевича. С ранней юности он играл в театре и еще задолго до Октябрьской революции исколесил Россию вдоль и поперек. Прежде все ему было нипочем: и зной, и холод, и голод. Но в конце концов годы взяли свое, и Юрий Михеевич решил сменить бродячий образ жизни на оседлый. Своей родиной он считал Урал, поэтому и поселился в нашем городе. При фабрике, на которой работали родители Глеба и моя мать, был клуб. Вот в нем-то Юрий Михеевич и взялся руководить драматическим кружком, или, как говорил он сам, Студией революционного спектакля.
Об искусстве Юрий Михеевич мог рассуждать сколько угодно. Подвал, где он жил, можно было смело назвать музеем истории театрального Урала. Юрий Михеевич собирал портреты артистов и музыкантов, программки, входные билеты, афиши, вырезал из газет и журналов рецензии на спектакли и концерты, отыскивал и покупал книги, посвященные театру.
Если его спрашивали, почему он не сменит полутемный подвал на комнату получше, Юрий Михеевич неопределенно пожимал плечами и отвечал с гонором:
– Зато здесь просторно, а наверху подобного помещения для моих сокровищ и днем с огнем не найдешь. Где еще так расставишь ящики, стеллажи, коробки? И плата умеренная, хотя, если правду сказать, Оловянников мог бы немного и подешевле брать…
Все мальчишки и девчонки нашего квартала помогали Юрию Михеевичу пополнять музей. Мы с Глебом добровольно взяли на себя обязанность снабжать старого артиста новейшими театральными и концертными афишами. Мы даже пытались срывать их с заборов, но он, узнав про такие дела, не на шутку рассердился и строго-настрого запретил нам заниматься преступными – он так и сказал преступными – делами.
– Вы – варвары, вандалы, – в гневном пафосе кричал он, – а не дети рабочих! Афиша несет в массы культуру, а вы… Но глядите у меня: совершите преступление снова – из Студии революционного спектакля в момент исключу!
После такого внушения мы поклялись, что не будем варварами, и стали выпрашивать афиши у расклейщиков.
С Игнатом Дмитриевичем Юрий Михеевич был в приятельских отношениях. Бывший слесарь рассказывал ему о народных обычаях, праздничных гуляньях, плясках, кулачных боях, до которых, по-видимому, в далекой молодости был большой охотник. Некоторые его истории Юрий Михеевич даже записывал в особую толстую тетрадь. Поэтому, когда мы сейчас во главе с Игнатом Дмитриевичем появились в подвале, старый актер захлопал от восторга в ладоши.
– Вот сюрприз так сюрприз, – радостно восклицал он, подставляя Игнату Дмитриевичу видавшее виды кресло. – Вот праздник так праздник! Садитесь, друг Игнат Дмитриевич, садитесь, а то вам в моих светлейших хоромах сгибаться приходится…
Игнат Дмитриевич действительно подпирал своей львиной головой потолок и рядом с маленьким сухоньким Юрием Михеевичем казался сказочным великаном.
Когда мы все разместились, Юрий Михеевич спросил:
– Чай будем пить? У меня, друзья, самовар вскипел.
Тереха, большой любитель чаевничать, нерешительно посмотрел на брата.
– По стакану, кажись, еще можно, – почесав затылок, согласился тот.
Я осмотрелся. Все здесь выглядело так же, как и раньше. На стенах висели пожелтевшие фотографии и различные театральные афиши тридцатилетней давности, на которых можно было отыскать и псевдоним Юрия Михеевича (на сцене он играл не под настоящей фамилией, а под псевдонимом Походников). Вот около двери прибита афиша театра, гастролировавшего до революции на Ирбитской ярмарке, и в ней мелким шрифтом сообщалось, что роль смотрителя училищ Луки Лукича Хлопова в гоголевском «Ревизоре» исполняет «господин Походников».
Пока я все это рассматривал, Тереха принес из сеней кипящий самовар.
– Самые полные стаканы почетным гостям с Северного! – торжественно провозгласил Юрий Михеевич и добавил: – Эх, угощу я вас, друзья, таким чаем, что язык проглотите! Рецепт его составлен мною!
– А чай у вас, Юрий Михеевич, и впрямь аппетитный, – изрек Игнат Дмитриевич, отхлебнув несколько глотков. – Никола, зять, этак баско не приготовит.
– Такого чайку можно и целый самовар испробовать, – добавил Тереха.
– Спасибо, друзья, спасибо! – ответил Юрий Михеевич, порозовев от похвалы. – Но учтите, угощаю вас не даром. Историй мне новых давайте, историй, бывальщин старинных… Вы, Игнат Дмитриевич, про Санниковых много знаете… Помните, про самого Семена Потаповича обещали рассказать…
Я не помнил, чтобы Игната Дмитриевича требовалось упрашивать. Вот и теперь старик погладил бороду и, откашлявшись, начал:
– Санников-то, Семен Потапович, он и городской фабрикой, и Северным заводом владел. Под Ревдой еще рудники потом купил. Миллионщик был, кошкин сын, одним словом. А я годков пятьдесят тому назад молодым слесаренком был, но ловким, смекалистым… Эх, и нынче бы еще работал на заводе, хоть он и в чертову концессию сдан – сила-то у меня имеется. Да легкие подвели. Врачи приказали в отставку выходить. Ну а в двадцать лет легкие мои растягивались, как меха кузнечные… Да не бойтесь, история не про болезнь, а про любовь…
Игнат Дмитриевич, почему-то строго взглянув на Тереху, продолжал. Оказывается, у Санникова, недалеко от Северного завода, на берегу лесного озера, была выстроена дача.
И однажды летом на даче случилась беда. В престольный праздник, Семенов день, Санников хватил хмельного сверх положенной нормы. А наутро ему срочно потребовалось достать из тайника важную бумагу. Он как ни в чем не бывало полез в карман сюртука за ключом, но ключа там не оказалось. Вот тут-то и выяснилось, что вечером пьяный Санников, куражась, выбросил ключ в озеро.
Без ключа тайник не открывался. Санников бушевал и ругался до тех пор, пока сторож не надоумил позвать Игната-слесаря с Северного, мастера на все руки. За Игнатом Дмитриевичем срочно снарядили экипаж самого хозяина.
Хотя английский замок и был с преогромными хитростями, звание уральского мастерового молодой слесарь не посрамил. Довольный Санников, все еще не пришедший в себя после пьянки, милостиво пожал «спасителю» руку и выдал целковый «на водку». Игната Дмитриевича все эти хозяйские почести не тронули, но покидал он дачу как во сне. Дело в том, что, пока парень возился в комнате около тайника, присматривался да примеривался к английскому замку, в комнату вошла старшая дочь хозяина.
– И почему, побей меня бог, не ведаю, – рассказывал Игнат Дмитриевич, – но оробел я страшно. Еле-еле ящик открыл. Ну до чего эта Катенька Санникова красавицей мне показалась! Брови черные, косы змеиные, глаза описанию не поддаются…
Через неделю Игната Дмитриевича снова для каких-то слесарных работ пригласили на дачу, затем еще раз. И обязательно он встречал там Катеньку. Дело дошло до того, что Игнат Дмитриевич стал в воскресенье с утра уходить к даче и, спрятавшись в густом ельнике, наблюдал за Катенькой, если она показывалась в раскрытом окне или спускалась в сад.

Наступила осень, пошли дожди, и семья хозяина уехала. Игнат Дмитриевич загрустил, осунулся. Но тут неожиданно его вызвали в заводскую контору и приказали немедленно отправляться в город, – так, дескать, распорядился Семен Потапович.
– И не знал я, – вспоминал Игнат Дмитриевич, – радоваться мне или нет. С одной стороны, не хотелось шибко близко к хозяину быть, не рабочее это дело-то – холуйствовать, получать целковые за всякие услуги, а с другой стороны… мечтал Катеньку опять увидеть. И ведь увидел! Санников, думаете, для чего меня потребовал? Сцену для домашнего театра оборудовать.
– Как сцену? – удивился Юрий Михеевич.
– А вот слушайте… Сам-то Семен Потапович Санников, хотя и владел огромными заводами, образования, по сути дела, никакого не имел, но детей своих мечтал видеть учеными. Понимал, что приходят времена, когда только глоткой не возьмешь. Сыновья его и дочери учились в гимназиях, а старшая, Катенька, уже закончила весь гимназический курс премудростей и считалась в городе одной из самых завидных и богатых невест…
И дальше мы узнали, что Катенька очень увлеклась спектаклями и что к рождеству и к пасхе в особняке Санниковых местные любители из зажиточных семейств играли какую-нибудь пьесу. Сама Катенька всегда выступала в главных ролях. И по ее просьбе Семен Потапович решил устроить в большом зале своих хором такую сцену, какой в те времена даже и в губернском городе не было. Не откуда-нибудь, а из Парижа выписали особые фонарики, шарниры, крюки, подъемные механизмы и установку всего этого поручили Игнату Дмитриевичу. Тут-то ему и пришлось познакомиться с Катенькой поближе. Она объясняла Игнату Дмитриевичу, для чего нужна на сцене или под сценой та или иная деталь, как ее лучше укрепить.
И вот однажды ночью на кухне, где Игнат Дмитриевич спал за печкой, пришел на цыпочках Санников, поднял его с лежанки, приказал одеться, забрать инструменты и следовать за ним. Полусонный Игнат Дмитриевич молча плелся в темноте за хозяином и гадал, для какой такой цели он срочно понадобился.
Наконец они пришли в зал. Здесь Санников зажег свечку и заставил Игната Дмитриевича поцеловать нательный крестик и побожиться, что ни в коем случае никогда и никому не проговорится о работе, какую ему сейчас придется выполнить.
Парень по наивности думал, что предстоит заниматься каким-то особым трудным мастерством, но пришлось выполнять знакомое дело. Под сценой у Санникова находился известный, по-видимому, только ему одному тайник, ключ от которого при загадочных обстоятельствах, вернее всего, при таких же, как и летом, потерялся.
Приподняв крышку суфлерской будки, Игнат Дмитриевич вместе с хозяином спустился вниз. В руках у Семена Потаповича мигала свеча, но даже и с освещением Игнат Дмитриевич без Санникова не нашел бы тайник. Очевидно, владелец заводов любил прятать важные бумаги и деньги подальше от людских глаз.
Когда Игнат Дмитриевич открыл тайник, а потом врезал новый замок, Санников снова заставил парня побожиться и только после этого отпустил его спать, не позабыв, однако, как и на даче, наградить целковым.
Клятвы, откровенно говоря, хозяин с Игната Дмитриевича мог и не брать: молодого слесаря тайник совершенно не интересовал, ибо мысли его в те дни были заняты лишь Катенькой. Правда, Игнат Дмитриевич понимал, что он ей не ровня, и надежд на взаимность даже не возлагал.
Но скоро его со скандалом изгнали из санниковского особняка. Произошло это так.
В субботу он случайно увидел в раскрытую дверь одной из комнат, как Катенька била по щекам девчонку-горничную.
– Катерина Семеновна! – испуганно закричал Игнат Дмитриевич. – Разве так можно?!
– Хам! Мужик! – услышал слесарь в ответ. – Тебя еще здесь не хватало!
На шум прибежал сам Семен Потапович, и через несколько минут Игнат Дмитриевич, забрав свой узелок, шагал в сторону Северного завода.
– Вот как я в кавалерах-то пытался ходить! – иронически усмехнулся Игнат Дмитриевич, закругляя рассказ. – Бывали времена!
Тереха удивленно посмотрел на брата: видимо, эту историю он услышал впервые. Юрий Михеевич, покачиваясь на стуле, что-то соображал. Глеб задумался.
– Игнат Дмитриевич, – решил я нарушить молчание, – Катеньку вы потом видели?
– Нет, не приходилось, – ответил старик. – Савинковы следующим летом на лечебные воды за границу укатили. Катенька за границей и осталась. Говорили, замуж за богатого иностранного заводчика вышла… Да и зачем мне ее, Гоша, было видеть?