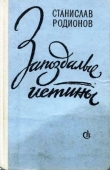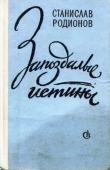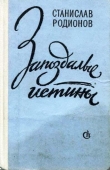Текст книги "Прозрачная женщина (сборник)"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
В нашем доме, в шестой парадной, живет заслуженная старуха. В войну командовала ротой, изранена, орденов много, в том числе высший. Молодые ее держат в самом черном теле. Живет на кухне, ест объедки, мыть ее не моют и на воздух не выводят. Однако эти молодые размножились, и подавай им новую квартиру. Старуху с кухни извлекли, отмыли, накормили и все ордена надели. И повезли в исполком, поддерживая с двух сторон. В исполкоме старуху приняли по-человечески и квартиру обещали в самое ближайшее время. Молодые отвезли старуху домой и вновь задвинули на кухню, где она сидит и плачет без всякой причины.
Время поставило всех людей в очередь, когда кому жить. Подошла твоя очередь – родился, подошла другая очередь – помер. Только вот я хочу узнать, где она стоит и нельзя ли пролезть без очереди на свою смертушку.
21
Что чувствует рабочий, сделавший своими руками деталь? А строитель, повар, инженер, писатель, портной?.. Что чувствуют люди, видевшие плоды трудов своих? Наверное, удовлетворение. Что же чувствовать следователю, прекратившему уголовное дело по самоубийству и знавшему, кто виноват в этом самоубийстве? Я прекращаю дело и умываю руки, Сокальская продолжает жить спесиво и комфортабельно, а Ивана Никандровича – в могилу? Не мог я с этим смириться, и от собственного бессилия мне становилось еще хуже.
В такие моменты время опускается мне на плечи и хочет пригнуть меня к земле – двадцать лет следственной работы и пятьдесят лет жизни. Мне становится так все безразлично, что я даже не пробую его стряхнуть. Да и не под силу.
Но ждала работа.
Я шел из канцелярии, куда забегал за бланками протоколов очных ставок. В коридоре дорогу мне по-хозяйски заступил человек лет тридцати с модной сумкой на плече; впрочем, может быть, и не модной, но у меня никогда такой не было – на ремне висело нечто вроде кожаного рюкзачка.
– Сергей Георгиевич Рябинин? – спросил он тоном старого друга, удивленного встречей;
– Я занят.
– Но вы не знаете, кто перед вами...
– Журналист.
Видимо, он хотел спросить, как я догадался. Узнать в человеке крестьянина, рабочего либо интеллигента смогут многие. Но я почти безошибочно определяю бухгалтеров, учителей, продавцов, журналистов, шоферов, художников, оперативных работников милиции... Уж не говоря про руководителей.
Удивление журналиста было коротким, как выдержка той фотокамеры, которая наверняка была в его сумке.
– Прокурор послал к вам.
– У меня очная ставка.
– Я подожду.
Протяженность очных ставок непредсказуема. Эта шла минут сорок, и я надеялся, что журналист улетучится. Но он терпеливо прождал в коридоре. Пришлось впустить.
Журналистов я не люблю. Не за настырность и не за присущую им легкость, не за жажду сенсаций – хлеб их – и даже не за то, что они стелются под ветрами политики. Не люблю, потому что для них тенденция, а то и просто мода, дороже истины; не ищут они истину-то, доказывая задуманное.
– Сергей Георгиевич, вас расхваливали во всех инстанциях...
– А не предупредили, что я журналистов недолюбливаю?
Он улыбнулся снисходительно, как улыбаются, когда рискованно шутит большой начальник – мол, шалость. Но огрызнулся тоже вопросом:
– Потому что мы критикуем следственные органы?
– Потому что критикуете глупо.
Его модные, слегка рыжеватые усики улыбнулись. Крупный лоб, как мне показалось, склонился ко мне под иным углом – короче, набычился. У этого журналиста вообще лоб как-то выступал, и я не мог понять: таково строение головы или такой характер?
– Беспокоитесь за честь мундира?
– Беспокоюсь за истину, – отрезал я.
– Пресса тоже за истину.
– Тогда она не знает, что это такое.
– Знает – правовое государство.
– Тогда она не знает, что такое правовое государство.
– Ну, Сергей Георгиевич, это уже амбиция, а не позиция.
Раньше, лет двадцать назад, я тут же бы с ним распрощался, как с человеком иных убеждений. Но время не только уносит годы, оно и приносит новые взгляды. Серьезное убеждение зреет невидимо, точно плод наливается соком. Правда, не исключены некие моменты, вроде катализаторов, ускоряющие созревание.
Первым таким катализатором была овчарка, в свое время жившая у меня: породистая, с родословной, уходящей в Германию. Отношения у нас не сложились в конечном счете по той причине, что я видел в ней друга. Коли друг, то будь мне подобен; коли подобен, то и равен; коли равен, то изволь понимать с полуслова. Но овчарка не понимала, да и я не всегда ее понимал.
Вторым кристаллизующим моментом стали прочитанные слова Гёте, которые отпечатались в сознании, как гравированные на том кристалле: «Требовать, чтобы люди с тобой гармонировали, – непростительная глупость». От того, что все мы похожи друг на друга, еще не значит, что все мы одинаковы – это уже я теперь говорю. Впрочем, друзья, близкие и единомышленники гармонировать должны, как музыканты в оркестре.
– Ну что, побеседовали? – спросил я.
– Сергей Георгиевич, может быть, у меня вырвалась резкость... Но вы обвиняете бездоказательно.
– О том, что газетчики не понимают сути правового государства? Извольте, докажу. На той неделе была статья Аркадия Изюмского...
– Один из лучших публицистов, – вставил он.
– ... о разгоне митинга в Старом сквере... Вы согласны со статьей?
– Еще бы!
– Но исполком митинга не разрешил. Значит, милиция действовала законно. Как и подобает в правовом государстве. Не так ли?
– Она применила силу.
– Милиция для того и создана, чтобы применять силу. Она поступила так, как поступает полиция в любом цивилизованном государстве.
– Сергей Георгиевич, вы против того, что обсуждалось на митинге?
– За! Я вообще за полную свободу митингов, кроме каких-нибудь профашистских. Но лучшему публицисту Аркадию Изюмскому нужно было весь свой гнев направить против исполкома, а он по непониманию принципов правового государства обрушился на милицию.
Журналист наклонил голову, будто кивнул мне в знак признательности, да забыл выпрямиться. Еще бы: писать на правовые темы и отделаться обидным молчанием.
– Как вас звать? – спросил я миролюбиво.
– Герман... Герман Александрович.
– Герман Александрович, вы согласны, что правовое государство то, где законы чтятся свято и всеми? И следователем Ивановым, и гражданином Петровым...
– Да, конечно.
– Почему же вы критикуете следственные органы только за то, что они кого-то незаконно привлекли? А если незаконно не привлекли?
– Как это?
– Пойдите в любую прокуратуру или райотдел милиции, и вам покажут шкафы разных дел, по которым преступники избежали ответственности.
– Почему?
– Не нашли, не поймали, не сумели доказать их вину, не хватило квалификации разобраться... И я не знаю, кого больше – привлеченных или ускользнувших. Где же основополагающий принцип законности – неотвратимость наказания? А по-вашему так: незаконно привлекли – нарушение, а преступник гуляет на свободе, то и ничего.
– Надо подумать.
Если в профессиональной принадлежности человека я все-таки могу ошибиться, то в определении глупца – никогда. Интуитивно, по нюансам, по разговору, при помощи нехитрого теста и просто так, на глаз. Дурак, например, не любит умных; не признает относительных истин – для него все абсолютно; не терпит парадоксов, полагая их глупостями; смеется над интуицией... И главное, дурак не любит задумываться, ибо все давно знает.
– Сергей Георгиевич, но ведь следователи допускают произвол, – так и не ответил он на мой вопрос.
– Наверное, допускают, но я таких не знаю.
– Не знаете следователей, допускающих незаконные аресты?
– Почему же, знаю. Но они это сделали не по произволу, как вы говорите, а по ошибке. Впрочем, одного знавал, который ради карьеры мать родную посадит.
– Ошибки в вашем деле страшны.
– А в вашем?
– Несравнимо.
– Почему же? Оклеветать в газете... А ошибки врачей? Умер под ножом хирурга... Чем просчет хирурга простительнее ошибки следователя? Но пресса о врачах не пишет.
– Вы отстаиваете право на следственную ошибку?
– Ошибок быть не должно, но они будут.
Журналист смотрел на меня с некоторым недоумением. Видимо, он не привык к подобной откровенности следователей. И главное, он не мог взять в толк моих слов: когда все говорят о правовом государстве и судебном произволе, находится старший следователь прокуратуры, который вроде бы сомневается в первом и оправдывает второе. Поэтому журналист набычил голову предельно, точно намеревался поддеть меня лбом и с разговором покончить.
– Герман Александрович, вас послали ко мне, как к хорошему следователю... А ведь у меня бывали ошибки грубейшие.
– С незаконными арестами?
– В первый год работы расследовал грабеж. Восемнадцатилетний парень в темном сквере напал на девушку, дал оплеуху, вырвал сумку с деньгами и убежал. Его задержали. Сумочку успел бросить в реку. Я допросил его, потерпевшую, свидетелей, сделал очную ставку... Грабеж на грани разбоя. Что делать?
– Не знаю, – ответил журналист, что мне понравилось.
– Истекают третьи сутки задержания. Взял я санкцию на арест и отправил преступника в следственный изолятор. В тот же день получаю анонимку, которую по теперешнему дурацкому указу я бы должен выбросить, не читая. В ней сообщалось, что парень и девушка дружили, сумка ему совершенно не нужна, и все это лишь месть за ее измены, почему она и молчит. Анонимка подтвердилась.
– И что?
– Парня выпустили. А я получил выговор за незаконный арест.
– Почему же вы ошиблись?
– Мало опыта. Чтобы стать приличным следователем, нужно лет пять поработать. Теперь о втором выговоре... Во дворе, в люке, обнаружили труп женщины. Видимых повреждений нет, сильно пахнет алкоголем. Оперативники скоро нашли сантехника, у которого в квартире эта женщина пила. Он судимый, алкоголик и так далее. Признался, что они вдвоем много выпили и уснули. Рано утром он увидел, что женщина мертва. Испугался, вынес труп во двор и спустил в люк. Явная выдумка. Чего испугался, коли умерла своей смертью? Я задержал его. Получаю акт вскрытия – скончалась от острого алкогольного опьянения. Выходит, сантехник сказал правду. Поскольку статьи о выбрасывании трупов нет, сантехника я выпустил и дело прекратил. Родственники умершей подали жалобу: мол, не могла она умереть... Прокурор, чтобы притушить жалобы, производство по делу возобновил и новое следствие поручил моему коллеге. Он приходит и меня же спрашивает, что делать, поскольку дело ясное, все допрошены, акт вскрытия есть... Я посоветовал на всякий случай, для проформы, назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу. Он сделал. Заключение: задушена, скорее всего мягким предметом типа подушки. Первый эксперт оказался малоопытен, а признаки алкогольного опьянения и удушения схожи. Сантехник, разумеется, давно сбежал. Мне выговор.
– Сергей Георгиевич, я впервые вижу следователя, который говорит не об успехах, а о просчетах.
– Я хочу, чтобы журналисты, как говорят блатные, не туфту гнали, а правду рассказывали.
– Стараемся.
– Недавно, – вспомнил я, – был громадный очерк о сотруднике ОБХСС, присвоившем изъятые японский магнитофон и зонтик. Пикантная деталь: зонтик он подарил своей девушке. Безобразие. Кстати, я вел следствие и отдал сотрудника под суд. А через неделю милиционер Локотков попросил подозрительного гражданина предъявить документы и получил удар ножом в горло. Тогда раненый достал пистолет и, соблюдая инструкцию, первый выстрел сделал вверх. А на второй не хватило сил. Осталась жена с двумя детьми. Где же очерк о нем?
– Мне этот случай не был известен, – буркнул журналист.
А я расстроился. Вольное воображение перенесло меня в ту ночь, на сырой асфальт, к телу милиционера, лежащего на громадной подсохшей луже крови, которая была еще чернее сырого асфальта. Распоротое горло... За что он погиб: за идею, за правопорядок или за скудную зарплату?
Журналист притих; видимо, ему передалось чужое состояние. И меня кольнул легкий укор: парень пришел по делу, а я мучаю его своими желчными разговорами.
– Герман Александрович, что вас интересует? – спросил я деловито.
– Какое-нибудь интересное преступление.
– Что вы считаете интересным?
– Наркотики, мафия, проституция, белые пятна истории...
Злость – отменная сила, способная горы своротить. Она сбросила меня со стула, как хорошая катапульта. Я ходил от стены к стене, да разве есть где здесь ходить; так, топтался.
Прожив пятьдесят лет, я готов признаться, что не понимаю людей. Газеты, радио, телевидение и сама жизнь ежедневно преподносят им матушку правду. Избивают и убивают спьяну – нет, наркотики подавай; воруют по мелочам и крупно, по одному и шайками – нет, мафию надо; разводятся и сходятся, любовники – любовницы, секс вместо любви – нет, проституцию покажите; белейшие пятна нашей действительности, скажем, безделье за плату во всяких НИИ и учреждениях, или сотни тысяч брошенных здравствующими родителями детей, или сотни тысяч брошенных в деревнях старух – нет, подавайте белые пятна истории, а также неплохо глянуть, как там блудили цари и царицы. Верно, человеку присуще любопытство. Но у обывателя любопытство особое. Он хочет не истину найти и не жизнь познать, а глянуть на запретное. К соседу за стенку, к академику в кошелек, к следователю в сейф, к проститутке под одеяло, к царю в хоромы...
– Хорошо, Герман Александрович. Про наркотики... В прошлом году я закончил дело: муж пырнул супругу в живот кухонным ножом. Перед этим выжрал две бутылки наркотиков.
– Что за наркотики в бутылках?
– Водка. Наркотик номер один, самый массовый и самый вредный уж хотя бы потому, что его продают в магазинах. Так, теперь о мафии... Хотите, подскажу адрес хитрой мафии, и вы проведете журналистское расследование?
– А следственные органы?
– Нам ее не одолеть.
– Интересно, – он открыл сумку и наконец-то достал блокнот.
– Пишите. Кондитерская фабрика номер два. Восемьдесят процентов работниц воруют конфеты и шоколад, халву и мармелад. Причем находятся в сговоре с вахтерами. Как появляется ОБХСС, то вахтеры ставят у проходной швабру – знак подают.
– Это же несуны.
– Но их много и они организованны. Организованная преступность!
Журналист ничего не записал, разглядывая меня с пристальным недоумением. А я топтался и уже не мог сесть, распираемый злостью против обывателя вообще и этого парня в частности.
– Что вас там еще интересует?.. Ага, проститутки. И небось работавшие не с отечественной клиентурой, а с иностранной? Герман Александрович, я говорил про убитого милиционера Локоткова... Его жена взяла совместительство, полы моет в райотделе, чтобы прокормить детей. Почему бы о ней не написать? Или вы написали бы, если бы она пошла не в уборщицы, а на панель?
Журналист закрыл не пригодившийся блокнот и бросил его в сумку. Я понял, что он уходит.
– Куда же вы, Герман Александрович?
– Сечете меня, как мальчишку.
– Я еще не рассказал про «белые пятна». Правда, не про «белые пятна истории», а про «белые пятна» нашей жизни. Например, про одинокую старость и про никому не нужных стариков. Вы знаете, что в стране семьсот тысяч буквально брошенных стариков и миллионы одиноких пожилых?..
Я перевел дыхание. И запоздалая и, может быть, поэтому особенно ясная мысль пресекла мое топтание. Обличаю, спорю и выговариваюсь, а ведь это именно тот человек, который мне сейчас нужен; и этот человек сам пришел ко мне в кабинет.
Я вернулся за стол. Журналист никак не мог закрыть сумку, потому что эти подлые молнии всегда заедает. Все-таки он поднялся, возясь с замком уже стоя.
– Герман Александрович, – сказал я тихо и совсем другим голосом, отчего он глянул на меня оторопело, – ваши убеждения мне неизвестны, и секли тут журналистику как таковую. Но у вас есть возможность ее реабилитировать. Прочтите вот это маленькое дельце...
Я посадил его за столик с пишущей машинкой и дал папку с еще неподшитыми листками. И дневники. В конце концов, от своих работников Сокальская отбрешется – ее нужно опозорить на весь город.
Не злой я, а злопамятный. Зло надо помнить, как свою биографию или историю государства; зло надо помнить так же, как и добро; его надо помнить хотя бы для того, чтобы упредить повторения. Мне кажется, что забыть сотворенное зло – это предать истину. Кажется, французы сказали про Вторую мировую войну: «Простим, но не забудем».
Тишина в кабинете нарушалась лишь шуршанием бумаг. Я подшивал хозяйственное дело, но, в сущности, наблюдал за журналистом. Сперва он читал со скучающей вежливостью. Потом уселся поудобнее и набычился. Затем вцепился левой рукой в ус и начал его крутить и перекручивать. Дневники же изучал тихо и даже пришибленно.
Дочитав, он вынул платок, вытер почему-то вспотевший лоб и почти прошептал:
– Как страшно...
Я не ответил. Тогда Герман Александрович сказал уже громче и с энергией:
– Обязательно напишу!
– Эта доченька достойна сатирического романа, – обрадовался я, уже не сомневаясь в понимании.
– Чепуха! – отрезал он, встал и тоже заходил по кабинетику; видимо, пришел его черед топтаться.
– Она же убила отца!
– Нет, не она! Его убило общество, сотрудники «Прибора», соседи, все мы... В том числе, конечно, и дочка.
Я против грубого социологизма. Нет ничего проще, как снять вину со всех и каждого и взвалить на общество – будто это общество состоит из каких-то других мифически-зловредных существ. Думать не надо, искать не надо, да и делать ничего не надо, ибо никто и ни в чем не виноват.
Но, с другой стороны, не задубел ли я в своей подозревающей профессии? Мне непременно подавай виновного, зримого, конкретного. Анищин в дневнике умолчал о дочке, наверное, не только щадя ее; Анищин писал про людей и общество. В конце концов, одиночество – плод коллективного бездушия.
– Но и Сокальской достанется.
22
Что есть жизнь? Это улыбка смерти. Очень просто доказывается... Вселенная-то мертва, то есть представляет из себя наглядную смерть. И вот когда эта вселенная-смерть бывает в хорошем настроении и улыбается, то возникает жизнь. Как, скажем, у нас на земном шаре. Жизнь – это улыбка вечности.
Сегодня съездил и глянул на крематорий. С фасада плитка, дорожки, елки, цветы... А свернул за его угол, глянуть на обратную сторону медали, так увидел прямоугольную трубу, из которой бежал жиденький, но очень темный и жирный дымок. Нашего брата разлагают на химические элементы. Короче, Освенцим.
Для чего людям боль дадена? Ученые говорят, что боль сообщает о болезнях в организме. Однако вопрос: зачем сообщать старику, если уже не вылечить и не спасти? Чего сообщать, скажем, о раке, если он не поддается? А смысл есть. Представим, что человек умирает без боли. Да разве он поверит смерти, разве смирится? Ничего не болит, солнышко светит, телевизор поет – а тут помирать. Да этот человек с ума сойдет он тоски и несправедливости. Поэтому дадены нам предсмертные муки во благо же, чтобы не обидно было расставаться с жизнью.
Чем хороша внезапная смерть? Так и не узнаешь, что ты умер.
Боже, сижу весь день и плачу...
С родными стенами я попрощался, а больше у меня никого и нет. Если существует потусторонняя жизнь, то с тобой, Поленька, увижусь, а если ее нет, то прощай, дорогая: не приду уж на твою могилку. Прощай и ты, милый человек, который читает мои шаткие буквы. Прости за самодурный поступок. И будь счастлив, наслаждаясь каждой минутой, какой бы она ни была.
Анищин Иван Никандрович.
ПУРПУР ОЛЬХИНА

Я всегда полагал, что интуиция мерцает где-то рядом с интеллектом. И вдруг засомневался. Почему? Да потому что давно заметил, что, например, животные, дураки, писатели и женщины живут главным образом интуицией.
Животные совершают поступки, значит, принимают какие-то интеллектуальные решения. Хорошо, инстинктивные; но для выбора из ряда инстинктивных решений одного верного тоже требуется какое-то сознательное усилие. А как объяснить, что животные определяют в человеке доброту? Потому что живут они не только инстинктами, но и интуицией.
Умный полагается на свой рассудок. Но почему самые умные, когда не помогает рассудок, действуют интуитивно? Почему дурак может угадать то, до чего умному век не додуматься? Почему дураки и юродивые на Руси рекли истину и, бывало, угадывали такое, что и современной ЭВМ не под силу? Не потому ли, что интуиция этих убогих не была стеснена никаким интеллектом?
Писатель, сочиняя роман, не пользуется ни формулами, ни системами, ни расчетами, ни социологическими исследованиями. Пишет, как бог на душу положит. И люди ему верят. Даже умные верят писателю, которые без доказательств ничему не верят.
Женская интуиция поражает тем более. Как семнадцатилетняя девчонка, глупая и необразованная, среди десятка своих ухажеров безошибочно определяет того, кто любит ее истинно? Как мать за тысячу километров чувствует беду у сына? Как жена, сидя дома, узнает, что у мужа на работе что-то случилось? Как женщине удается понимать больше, чем она видит? Вернее, наоборот: как ей удается видеть больше, чем она понимает?
Мне хочется рассказать о встрече с женщиной, ничего не упуская и не утаивая. Главное в работе следователя – разговор с человеком. То есть допрос. Тогда зачем этот разговор засорять моими мыслями, впечатлениями и составлением протокола?
1
– Да-да, войдите!
– Мне нужен следователь Рябинин...
– Я вас вызывал?
– Какое-то недоразумение... Вчера пришел милиционер и вручил повестку.
– Садитесь, дайте ваш паспорт.
– Пожалуйста, но к чему все это?
– Хочу вас допросить.
– Допросить? За что?
– Разве допрашивают за что? Разве это наказание?
– Не наказание, но неприятно. Мы с мамой перепугались.
– Может быть, неприятно, но возникла такая необходимость. Давайте по порядку. Ваша фамилия, имя, отчество?
– Чубасова Нина Максимовна.
– Где родились?
– Здесь, в нашем городе.
– Сколько вам лет?
– Двадцать девять.
– Образование?
– Среднетехническое.
– Где работаете?
– На заводе радиоаппаратуры, регулировщицей.
– Где живете?
– Проспект Труда, дом 168, квартира 7.
– Семейное положение?
– Не замужем, живу с мамой.
– Не судимы?
– Нет.
– Прочтите вот этот текст и распишитесь в том, что вы предупреждены об ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний.
– Господи, что это за бумага?
– Протокол допроса.
– Какой протокол?! Я же ничего не знаю.
– Расписывайтесь, расписывайтесь...
– Пожалуйста, но все-таки объясните, почему этот допрос?
– В качестве свидетеля.
– Свидетеля... чего?
– Это мы сейчас выясним.
– Но я ничего не видела: ни воровства, ни убийства, ни автонаезда...
– Нина Максимовна, каждый человек что-нибудь да видит.
– А-а, из-за спирта?
– Какого спирта?
– В кладовой цеха пропало пять литров спирта. Болтали, что кладовщица настойки крепит. Но я даю голову на отсечение...
– Нет, не из-за спирта.
– Еще в доме культуры драку я видела...
– Нет.
– Ну, значит, из-за бумаги, которую мы написали всем домом по поводу гаража во дворе...
– Опять не угадали.
– Тогда не знаю.
– Нина Максимовна, хочу поговорить о жизни.
– Как... о жизни?
– Что поделываете, о чем думаете, как проводите время?..
– Из-за этого и вызвали?
– Да.
– Странно...
– Ничего странного. Вчера я вызвал гражданина спросить, какой он видел сон.
– Зачем?
– Ему приснилось, что якобы совершено весьма оригинальное хищение. Он рассказал об этом приятелю. А через два дня эта кража и верно совершилась. Как это объяснить?
– Так он сам и совершил.
– Нет.
– Тогда приятель.
– Тоже нет.
– А как же?
– Этот сновидец совершенно случайно в электричке краем уха услышал тихий разговор. Точнее, не слышал, а бессознательно улавливал шепот. Ночью же все увидел во сне явственно.
– Воров поймали?
– Да. Он описал приметы шептунов и назвал станцию, где они сошли.
– Интересная у вас работа.
– Вот видите! А вам рассказать про себя не хочется.
– А следователь имеет право вызвать человека повесткой, чтобы выспрашивать про его жизнь?
– Нина Максимовна, она у вас такая неприличная, что и рассказать стыдно?
– С чего вы взяли? У меня все в норме, я человек без комплексов.
– Вот и хорошо. Так как вы проводите время?
– По-разному.
– Все-таки, чем больше занимаетесь?
– Всем понемножку. И в кино хожу, и в театр, но реже. Телевизор, конечно.
– А в дискотеку?
– Раз в год. Отходила свое. Может быть, вас какая-нибудь драка на танцах интересует?
– Нина Максимовна, давайте поговорим так: сперва я задам все свои вопросы, а потом и вы меня спросите. Хорошо?
– Да.
– У вас есть какое-нибудь увлечение?
– Куклы.
– В куклы, что ли, играете?
– Придумываю и шью. У меня их дома штук тридцать.
– А кроме кукол?
– На гитаре играю.
– И хорошо?
– В платный кружок ходила. И пою под гитару.
– Какой же у вас репертуар?
– Не поверите... Песни Высоцкого.
– Да, как-то трудно представить их в женском исполнении.
– В этом весь шарм. Эффект контрастности. Мужественные песни женским голосом.
– Ну, а искусством интересуетесь? Литературой, живописью, музыкой...
– Всем чуть-чуть.
– Бываете в филармонии, в музеях, на выставках?
– Редко.
– Неинтересно?
– Время в дефиците.
– Семьи у вас нет, два выходных дня... Чем же заняты?
– Женщина всегда найдет, куда время деть.
– Куда же?
– Не то, что вы подумали.
– А что я подумал?
– К вашему сведению, мужчины об меня обжигаются...
– К сведению принято.
– Сигарет не курю...
– Хорошо.
– К спиртному не тянет.
– Еще лучше.
– Так что зря вызывали.
– Может быть, у вас какие-нибудь увлечения, склонности, страсти?..
– Склонности... в смысле страсти?
– Ну, можно и так сказать.
– А-а-а... Натяжечка у вас вышла! Я-то, дура, ломаю голову...
– Что вы так?
– Аллергия у меня, аллергия!
– Зачем же кричать?
– Мне, бывает, больничный дают. Например, когда тополиный пух летит. Вот у вас флоксина в вазочке, а мне уже не по себе.
– Переставим вот сюда. У вас аллергия, все понятно.
– Ничего вам не понятно! А мама любит травяной чай.
– И верно, ничего не понятно. У вас аллергия, а мама любит чай...
– Травяной! У нас целый ящик всяких мят, чабрецов и зверобоев.
– Я тоже чай с травами люблю.
– А я с кухни ухожу, когда она их заваривает.
– Мама его пьет небось с конфетами?
– Нет, с кусковым сахаром.
– Надо с медом.
– Почему?
– Тогда ощущение цветущего июльского луга.
– А от сена я прямо дурею.
– И часто бывают эти аллергические приступы?
– Последний раз был... Ага, когда сумочку потеряла, в июне. Пошла от нечего делать в музей живописи. А перед ним тополиная аллея. Пух этот бежит по дорожкам, аж сугробики наметает. Чувствую, сердце заколотилось, слабость... Присела на скамейку. Какая-то старушка сует под нос флакончик с нашатырем, а мне и так дышать нечем. Посидела, превозмогла себя и в музей все-таки проковыляла. Там воздух другой, без запахов и пыли.
– А в чем же вышла натяжечка...
– Вам так преподнесли...
– Что преподнесли?
– Если человек запахов не переносит, может, он дурной травкой интересуется? Наркухой?
– Не знаю.
– Мама давно просит достать для заварки эфедры. Говорят, растет на Иссык-Куле по склонам гор. Пошла я на рынок за картошкой. Там давно приметила мужика с фруктами, из Киргизии ездит. Ну и завела с ним разговор про эфедру. Милиционер тут как тут: «Кто это травкой интересуется?» Адрес мой записал. Глупость какая-то.
– Видимо, милиционер ошибся.
– Конечно. Мне можно идти?
– Нет, Нина Максимовна.
– А что?
– Еще один маленький вопросик...
– Пожалуйста, отвечу.
2
– Вы упомянули про потерянную сумочку... Что за история?
– А-а, весь день был с приключениями. Сперва с этим пухом, а потом в музее сумочку потеряла. Обратилась к администратору. Но никто не возвращал.
– Потеряли, когда вам было плохо?
– Вряд ли. Потом же билет брала, деньги доставала. Скорее всего, в музее обронила. Там же толчея.
– А что было в сумочке?
– Рублей тридцать денег да всякие женские безделушки. И сумочка денег стоила, польская. Флакончик духов «Жозефина». Мама посылала меня в стол находок, да я не пошла. Если украли, то с концами. Не вернешь.
– Так и пропала?
– Слушайте-слушайте. Думаю, брякну-ка на всякий случай в отделение милиции. Вдруг туда принесли. И только стала вертеть диск, как звонок в дверь. Открываю. Стоит молодой человек интеллигентного вида, улыбается и спрашивает: «Не вы ли Нина Чубасова?» Я киваю. «Получите вашу сумочку». Оказалось, он тоже был в Музее живописи и нашел ее на полу.
– Как же узнал ваше имя и адрес?
– В сумочке письмо лежало ко мне от подружки, из дома отдыха, от Светки. На конверте все есть. Он деликатный невероятно. Говорит: «Извините, что я заглянул в нее».
– Где теперь эта сумочка?
– Вот, с ней и хожу.
– Разрешите взглянуть...
– Пожалуйста.
– Как вы ее носили?
– На плече.
– А как же она могла соскочить?
– Вот здесь ремешок оборвался. Мама пришила.
– Возьмите, спасибо. Как выглядел этот молодой человек?
– Ну, выше среднего роста. Темные волосы до плеч. Бородка скобочкой. Тоненькие усики. Черные очки. Симпатичный, хотя глаза узкие.
– Во что одет?
– Куртка коричневой кожи, кремовая рубашка и крестик на короткой цепочке.
– Золотой?
– Да, на нем все натуральное.
– Ну, а брюки?
– Брюки тоже были.
– Какие?
– Песочного цвета, тонкой шерсти.
– Принес сумочку... Что дальше?
– Пошла его проводить.
– Так сразу?
– Согласитесь, что не каждый бы вернул. И не каждый бы принес на квартиру. Чем отблагодарить? Денег не дашь, обидится. Зайти в дом отказался. Ну, я и пошла проводить до метро. Как бы вместо благодарности.
– Он назвался?
– Да, Валерием.
– Что было дальше?
– Проводила – и все.
– Как шли, о чем говорили...
– Ну, шли набережной, болтали. Я уж позабыла... Солнце за порт садилось. Все красное: и облака, и вода, и чайки. Как будто кусок спелого арбуза в полнеба. Ни домов, ни портовых кранов – сплошное зарево. Мы остановились полюбоваться. Помню, он меня спросил, сколько я вижу цветов и оттенков. Сколько... Да один красный. Так ему и сказала. Знаете, он даже обиделся. «Нина, вы слепая». И насчитал двенадцать. Причем каждый оттенок как-то назвал. Я, конечно, удивляюсь. А он глянул на воду, на небо и грустно говорит: «Нина, это все неправда». Я не ответила. Какая там неправда, когда любому видно. У него от этого неба борода порозовела. Думаю, ну и у меня глаза, наверное, красные, как у кролика. А он говорит: «Нина, это неправда, потому что есть пурпур Ольхина». Я помалкиваю. Что такое пурпур знаю, а об этом Ольхине век не слыхала. Тогда он спросил: «Нина, вы хотели бы увидеть пурпур Ольхина?» Я ответила в том смысле, что какой же дурак не хочет увидеть пурпур Ольхина. Ну... Вот про сумочку и все.
– А дальше?
– А дальше уже не про сумочку.
– А про что?
– Дальше вас не касается.
– Почему же?
– Послушайте, я думала, что вы наркоманов ищете. Потом стала думать, что проверяете всякие кражи. Вот и сообщаю: сумку потеряла, мне ее вернули. Все, вопросов нет.
– Нина Максимовна, вопросы есть. Этот Валерий...