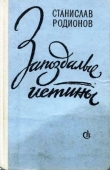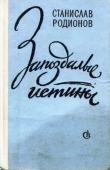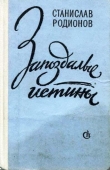Текст книги "Прозрачная женщина (сборник)"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Лифт шел неспешно. Запах духов...
Меня вдруг задело необъяснимое беспокойство, которое набегало скорее хода лифта. Я оглядел пластиковые стены, точно хотел увидеть, откуда оно, это беспокойство. Но в лифте ничего, кроме запаха духов, не было. Духи, женщина...
Женщина была в белой песцовой шапке.
Я нажал на «стоп», а затем на кнопку первого этажа. Мне показалось, что лифт сперва постоял и подумал. По крайней мере, когда я выскочил из парадной, женщина в песцовой шапке была уже далеко и выходила на проспект.
Бежать мне казалось неудобным. Возраст, портфель, очки... Я зашагал с предельной скоростью, благо ходьбой уже был разогрет. На проспекте мешали люди, иногда закрывая женщину. Все-таки песцовая шапка приближалась. Я уже прикидывал, что сделаю, догнав женщину...
Но песцовая шапка пропала, напоследок мелькнув слишком бело, как последняя вспышка упавшей звезды. Сперва я не понял, куда она делась. Отошедший от поребрика автобус все объяснил.
Я огляделся, видимо, с некоторой досадой. Еще бы: бросил лифт, спешил, прикидывал... Глупо припускать за первой увиденной песцовой шапкой. Теперь почти все женщины в мехах. Нельзя же придавать значение тому, что женщина в песцовой шапке вышла из дома, где жил тунеядец Устькакин?
Мое секундное топтание у поребрика было замечено. Возле меня вкрадчиво остановился «Москвич» и, по-моему, спросил сам, без помощи человека:
– Шеф, куда?
Я влез. Человек в машине оказался веселым разбитным парнишкой в очках.
– Мастер, жми вон за тем автобусом.
– Догнать, что ли?
– Догнать, но не перегнать.
– А как?
– Держаться сзади.
Парнишка усмехнулся, но машину повел ловко и скоро. Через одну-две минуты мы уже ехали впритык к автобусу. На остановках я таращил глаза и прижимал стекла очков к глазам, боясь упустить женщину. Уже стало сумеречно, а фонари еще не зажгли. Белая шапка могла стать не белой, поскольку в темноте, как известно, все кошки серы; наверное, и песцы.
– Шеф, автобус будет ходить кругами.
– Человек выйдет, – нехотя сказал я.
– Кого-то ловим?
И тогда я догадался использовать его зоркие глаза. Коли нанял.
– Мастер, смотри выходящую женщину в белой меховой шапке.
– Украла?
– Что украла?
– Шапку-то меховую.
– Ну да. Почему и гонюсь.
«Москвич» сразу заурчал, словно овчарка, и пошел напористее; мне даже казалось, что он пригибается по-человечески. Мы уже неслись вровень с автобусом. Парнишка бросал взгляды на его стекла, высматривая белую шапку.
– Детективы люблю, – плотоядно поделился он.
Автомобиль вздрогнул, упершись в асфальт заклиненными колесами. Парень жал на тормоза, видимо, изо всех сил – иначе бы мы клюнули автобус. Но я уже ни на что не обращал внимания, потому что из передней двери вышла женщина в песцовой шапке. Сунув водителю пятерку, отложенную на книги, я покинул машину и осторожно пошел за ней.
Но тут произошло непредвиденное...
Сперва за моей спиной агрессивно хлопнула дверь. Потом мимо прогарцевал водитель, оказавшийся длинноногим и скорым. Он настиг женщину в считанные мгновения и заступил ей дорогу. Позабыв про портфель и солидные очки, я тоже припустил. На мой бег ушло больше мгновений, поэтому начала разговора я не услышал.
– Снимай шапку! – радостно требовал водитель.
– Ты пьяный или на учете? – возмущалась женщина.
– Сейчас органы подойдут, – пообещал парень.
– Пропусти! – взвизгнула женщина.
Органы, то есть я, уже подошли, вернее, подбежали.
– Заметает следы, – сказал мне водитель.
– Помогите избавиться от хулигана, – сказала тоже мне женщина.
– Молодой человек, отстаньте от гражданки! – сурово прикрикнул я, опасаясь, что шапку он сдернет с ее головы.
Очки водителя изумленно нависли над моими очками. Его глаза, плохо различаемые в сумерках, диковато чернели под стеклами. И тогда я подмигнул ему. Парень ответил смекалистым кивком.
– Дожили, что психи по улицам шляются, – бросила женщина мне как спасителю и пошла плывущей походкой; по крайней мере, ее белая шапка льдиной плыла в темном людском потоке.
– Расходимся по одному, – гнусаво шепнул я и поспешил за женщиной.
Она свернула в переулок. И тут же пропала. Ей было некуда деться, кроме как исчезнуть в обнаруженной мною проходной какого-то предприятия. Я заглянул: окошко бюро пропусков, турникет, охранница... Следовало выяснить название предприятия, дабы знать, где работает песцовая шапка.
– Как вы называетесь? – спросил я охранницу.
– А зачем вам? – хмуро насторожилась она.
Ни за что не скажет. В целях сохранения тайны. Я сообразил выйти из проходной и глянуть на фасад. Стеклянная доска мне сообщила, что это объединение «Прибор».
То есть как «Прибор»? На «Приборе» десять лет назад работал Анищин.
6
Думаю, что лица всех стариков одинаковы, на манер модных шапочек или сапожек. Потому что все наши лица выражают одно стариковское недоумение – куда она ушла, жизнь-то?
В молодости, лет в тридцать-сорок, я свое здоровье соблюдал строже. И не курил, и не переедал, и водицей холодной обливался. А теперь, когда, казалось бы, надо тем более следить за ним, я к здоровью равнодушен. А почему? Потому что мысли растопили мои убеждения молодости. Какая важность, сколько я проживу. Не сколько, а как?
Старики, между прочим, разные бывают. В том числе и старушки. Знавал я одну, семидесятилетнюю. С двумя внуками запросто сидела. На лыжах бегала километры. Раз в неделю уходила на ночь играть в покер. Шляпки носила моднейшие, отчего все оглядывались, поскольку ей по возрастному рангу положено было носить не шляпку, а платок оренбургский. А когда она вышла в юбочке по колено, то старухи наши плевали ей вслед, как ведьме.
Господи, давно ли я оттуда, из природы взялся? А уже пора туда, в природу, возвращаться.
Шел я из булочной с одним старичком моих лет. Разговорились. Он меня спрашивает: «Слыхал новость?» – «Какую?» – «Последнюю». – «Так теперь этих новостей больше, чем баранок в магазине». – «Родился пятимиллиардный человек!» – «Ну так поприветствуем его». – «Поприветствуем? Да теперь нам с тобой помирать надо». – «Почему же?» – «Освобождать место для шестого миллиарда...»
Чем больше живу, тем больше удивляюсь однообразию человеческой жизни. Люди делают одно и то же и решают одни и те же проблемы. И так поколение за поколением, человек за человеком.
Вот какое дело... Жил я себе, жил, и ниоткуда меня не исключали и не выгоняли. Не выгоняли ни с каких работ, ни из квартиры, даже из гостей никогда не выгоняли; не исключали ни из профсоюза, ни из школы, ни из техникума... И вдруг исключили из жизни: сразу, насовсем и ни за что. Хотя есть за что – за старость.
Пошел сегодня в магазин. Сметанки взять. То ли руки тряслись, то ли банка скользкая, но она, уже со сметаной, как щука, из рук вильнула и на пол. Вроде взрыва бомбы, стекла и сметана в разные стороны. Продавщица мне выдала: «Дед, дрыхнешь, что ли, на ходу?» Женщина, на которую попали сметанные брызги: «Если руки не держат, надо сидеть дома». Уборщица, пришедшая с ведром и тряпкой: «Гони, старый, рубль за уборку». Потом каждая еще добавила и повторила. Когда уходил, уборщица напомнила: «Тебе еще и от твоей бабки попадет».
А молодой бы кокнул банку? Посмеялись бы, и только.
Молодость ищет сложности, а старость – простоты.
Есть в исполкоме такая комиссия – по делам несовершеннолетних. А нужна и другая комиссия – комиссия по делам престарелых.
Вопрос самому себе: чего можно в моем возрасте ждать? А ведь поджидаю. Конечно, телефонного звоночка, внезапного письмеца или заблудшего гостя. Но ведь жду иного, серьезного и весьма переменчивого для моей судьбы. Ходил-ходил по комнате да и сообразил, чего я, старый мякиш, ожидаю...
Позвонят, я открою дверь, и войдет ко мне комиссия государственная, в очках и с портфелями. «Вы Иван Никандрович Анищин?» – «Я как таковой». – «Это вы прожили семьдесят лет на нашей земле?» – «Я, а то кто же». – «Это вы жили и при культе, и при волюнтаризме, и при застое?» – «Так точно, все пережил». – «Это вы накопили столь ценный житейский опыт?» – «Накопил полные закрома». – «Посему, Иван Никандрович, мы будем вас записывать три месяца и три дня...»
Слышу частенько, что старики охотно работают и надо их к труду привлекать. Да не работать они должны и не молодым помогать, а учить жизни и делиться опытом. Ибо каждый старик есть кладезь. Только умейте черпать.
Пусть все берет, но только не книги.
7
В плане – расследование даже маленьких дел я планировал – была строчка: «Позвонить на „Прибор“». Но коли я тут...
Охранница так кондово облапила мое удостоверение, что я затревожился: вернет ли? Сжимая его одной рукой, второй она сняла трубку и громко кого-то спросила:
– Тут следователь пришел. Пускать?
Я вобрал голову в плечи и попробовал стать незаметным и тонким, как столбик турникета. Но все, кто здесь был, – группка парней, две девушки, женщина у окошка пропусков – уже повернули голову и уставились на меня. Еще бы – следователь. Почему я сжался?
Люди, насмотревшись телефильмов, ожидали увидеть энергичного, поджарого и обаятельного молодого человека. У турникета же стояло нечто противоположное: невысокое, пожилое, очкастое и слегка грязное; да еще в шапке с козырьком – почему-то этот козырек меня угнетал неуместностью на зимней шапке, хотя Лида утверждала, что так модно и мех тюлений. Я сжался, потому что охранница, в сущности, меня унижала. Что это за следователь, которого можно не пустить? А если бы я гнался за преступником?
Пальцы распрямились, вернули удостоверение и показали, что путь свободен. Я скоренько нашел отдел кадров. Молодой человек долго названивал, выясняя, работает ли кто-нибудь, знавший Анищина. Одного нашел.
Кадровик уступил свой кабинет: я не оперативник, мне протокол писать, поэтому нужен стол. Минут через пять пришел старичок, светлый, точно его спрессовали из сахара. Белые волосы, белая кожа и белый халат. Василий Игнатьевич Курятников.
– Жаль Ивана Никандровича, – вздохнул он, ибо весть о самоубийстве уже просочилась.
– Когда виделись в последний раз?
– Э-э, лет десять назад.
– Значит, вы не дружили?
– Нет, но последние годы работали бок о бок.
Столь давняя информация большой ценности не имела. Впрочем, случалось, что мотивы преступления, или того же самоубийства, уходили в прошлое далеко, в самое детство.
– Что Анищин был за человек?
– Стеклодувом он был первосортным.
– А разве не мастером?
– Мастером в своем деле. Видели когда-нибудь работу стеклодува?
– Приходилось.
– Это же сказка! Но тяжело. Жарко, легкие работают, как мехи в кузне, и опять-таки искусство. Ивану Никандровичу поручали делать приборы редкие, соединяющие механику со стеклодувным делом. Расскажу историю...
Чем глубже в годы погружалась его память, тем сильнее он оживлялся. Туманные глаза посветлели; скулы, обтянутые тонкой и белой, как его халат, кожей, розово залоснились; равнодушные руки начали жестами помогать словам.
– Занимался отдел одной штучкой, назовем ее изделием. Не важно какое. Приходит Иван Никандрович к начальнику отдела и говорит вполне серьезно: мол, давайте это изделие я один разработаю. Начальник похихикал: у него над изделием двадцать научных работников корпят. С тем Иван Никандрович и отбыл. Прошел некий срок, и все происходит в обратном порядке. Начальник отдела является к Анищину и слезно просит помочь, сделать прибор, поскольку двадцать сотрудников с диссертациями весь срок упустили, а прибора нет как нет. Прибор для дела, поэтому Анищин ломаться не стал. Но и покуражиться стоило за промашку начальника. Поставил Иван Никандрович такое условие: деньги за изделие, между прочим, солидные, принесет сам начальник на квартиру и лично вручит жене Анищина. Так все и вышло: изделие сделал, и деньги начальник отдела принес.
Я помолчал, обдумывая, как рассказанная история объясняет характер человека и может ли все это иметь какое-то отношение к причинам самоубийства. У Анищина были золотые руки. Такие люди частенько начинали пить, в чем я не раз убеждался, и даже имел свою объясняющую теорию. Но мой опыт ничего не говорил о связи квалификации человека с самоубийством. Похоже, что Анищин был самолюбив. Но и самолюбие само по себе не могло подвигнуть на смерть.
– Василий Игнатьевич, какая у него была семья?
– Я только видел жену-покойницу.
– А родственники, друзья?..
– Иван Никандрович распахиваться не любил.
Если Анищин не любил распахиваться, то одиноким он был уже тогда. Одиночество, как и все на свете, бывает разным. Вся суть в том, почему человек одинок. Не может ужиться с людьми из-за паршивого характера, мешает стеснительность, занят всепоглощающим делом, или душит эгоизм? Но есть одиночество почти святое, идущее от самобытных убеждений и самостоятельности натуры. Я пока не знал причины одиночества Анищина и не был уверен, что именно оно привело его к самоубийству. Мне вспомнились одно-два дела, когда женщины покончили с собой от пустоты в жизни; правда, их покинули мужчины, что можно посчитать мотивом любовным.
– Дома у него бывали?
– Один раз, когда он только что въехал в однокомнатную квартиру.
– А после того, как Анищин ушел на пенсию?
– Не встречались. Правда, год назад он звонил, в гости приглашал, да я отказался.
– Что так?
– Да не по-людски приглашал. Не виделись мы с ним лет девять. И вдруг зовет, чтобы шел я тотчас. А ведь дело...
Иногда на меня накатывает жутчайшая философская хандра, когда мир кажется набором случайностей и, в сущности, хаосом. Эти случайности все незначительны и необязательны, но их так много и они так густо сплетены, что кажется, на судьбу влияет не только расположение звезд на небе, а и пылинка, севшая невзначай на волосок ресницы. Тогда – в жгучайшую хандру – допускаю, что я, сядь вторая пылинка на ресницу судьбы, мог бы не встретиться с Лидой и прожить жизнь с другой женщиной; что родился бы у нас сын, а не дочь Иринка; работал бы я библиотекарем, а не следователем...
Кто знает, как повернулась бы судьба Ивана Никандровича Анищина, сходи к нему в гости Василий Игнатьевич Курятников?
– Как считаете, почему Анищин решился на самоубийство?
– От несоответствия.
– То есть?
– Человек должен либо работать, либо помирать. Иван Никандрович – трудяга, вышел на пенсию и десять лет прожил втуне. Вот и заскок.
– От безделья, значит?
– Определенно.
Я с сомнением улыбнулся, ибо знаю людей, коим несть числа, которые не работали, а похаживали на работу, и жили себе, не умирая. Наверняка Анищин чем-то занимался, коли он золоторук...
Моя мысль споткнулась и замерла. Так с ней бывало перед новым поворотом или каким-то открытием. Тут важно не упустить того, на чем она споткнулась. Квалификация Анищина...
– Василий Игнатьевич, он был хорошим специалистом?
– Классным.
– Выходит, и зарабатывал прилично?
– Побольше другого начальника.
– Почему же существовал в бедности?
– Как это в бедности? – изумился Курятников и вскинул голову, отчего розовая шея стала длинной, как у птицы.
– Еды не было...
– Наверное, все съел.
– Холодильник крохотный...
– У него стоял громадный ЗИЛ.
– Убогая мебель...
– Как убогая? Красное дерево, инкрустация, ручная работа.
– Такая была у Анищина мебель?
– Ему за резной шкаф знатоки четыре тысячи давали! А старинная бронза? Какие шандалы и подсвечники! А часы с кукушкой? Причем птичка не просто куковала, а выскакивала, отряхивалась, а потом уж и ку-ку. А бокалы с княжескими гербами? Иван Никандрович любил старинные вещи и денег на них не жалел. Музей был, а не квартира.
– Где же все это, Василий Игнатьевич?
– Мне неведомо.
– Странно...
Мы помолчали. Я переваривал информацию; Курятников, видимо, вспоминал квартиру Анищина.
– А Сокальская что говорит? – спросил он с непоколебимой уверенностью, что я с ней встречался.
– Еще не вызывал.
Эта его уверенность глупейшим образом лишила меня сил признаться, что я не знаю, кто такая Сокальская.
– Она в двадцать первом кабинете сидит.
8
При больном здоровьем не похваляются. Почему же у нас песни про молодых и для молодых, в коих восхищаются здоровьем и силой. Передачи о молодых и для молодых, кино для них же и о них, товары, встречи, дискуссии, круизы и всякое другое, включая черта в стуле. Я не прошу такого же для стариков, ибо все одно не дадут и не сделают. Я только хочу сказать, что нехорошо то и дело напоминать старым о молодости.
В нашем сквере, под елочкой, нашел свинушку. Как занесло и откуда?.. Люди обсуждают, комсомольцы спорят, девицы щебечут об одном вопросе: что есть счастье? Меня бы спросили. Счастье – это взять корзинку и пойти в лес за грибами. На своих ногах, на весь день, на холмы и просторы. Между прочим, каждый человек похож на какой-нибудь гриб.
Одиночество одиночеству рознь. Я не про то, что некому сходить за хлебом, вызвать врача или подать стакан воды. А вот чихнешь, так «Будь здоров!» некому сказать.
Непонятное это явление, именуемое старостью. Умственно крепок, даже покрепче, чем в молодости, поскольку опыту прибавилось. Морально вырос, ибо освободился от самодовольной нетерпимости и молодежной жеребятинки. И физически еще, допустим, самостоятелен. В специальности никто не превзошел. Все вроде бы есть и все при тебе. А из общества исключен. Стал человеком второго сорта, вроде какого туземца.
Весной и летом я не один. Деревья в сквере листочками мне знак подают. Солнышко в кухню заглянет. Синее небо свежестью дохнет в форточку. Птичка какая сядет на подоконник да и отряхнется. Бывает, что и бабочка-капустница залетит... Все они как бы со мной. А зима придет с осенью... Никого.
Со мной происходит интересный эпизод. Аппетит есть, силенка еще теплится, ничего не болит... А неинтересно. Все, что в книгах, газетах, по телевизору или на улице, – уже было и было. Для старика это всего лишь варианты. Посему нет во мне любопытства. Выходит, что помирать надо не тогда, когда тебя едят болезни или нету сил, а когда иссякло любопытство.
Вспомнил я Василия Игнатьевича Курятникова, с которым когда-то вместе трудились. Он и теперь еще там подвизается, бумажки перебирает. Позвонил ему, в результате чего меж нами произошел нижеследующий разговор: «Василий Игнатьевич, ты придешь на мои похороны?» – «Типун тебе на язык, Иван Никандрович». – «Нет, ты ответь, мне к концу жизни знать надо». – «Иван Никандрович, конечно, приду». – «Василий Игнатьевич, а ты не жди». – «Чего не жди?» – «Смерти-то моей». – «Да разве я жду?» – «Не жди, когда я помру, а приходи теперь, к живому. Смотришь, я и проживу дольше...»
Какую слышу от стариков хитрость... Мол, не могу помереть, некогда, еще дела не кончены. Наивная уловка. Как будто дела можно когда-нибудь переделать? Но у меня и такой уловки нет. Делать мне нечего. Могу помирать.
В сквере гуляет молоденькая старушка лет шестидесяти. А вокруг нее прямо-таки клубятся шавки в количестве трех штук. Беленькие и пронырливые, с красными язычками. Меня собачки, конечно, обнюхали как своего. Подошла хозяйка. Я не удержался от любопытства: «Любите тварей земных?» – «И люблю, и смысл в них есть». – «Какой же смысл?» – «Умру, стану веществом, потом перейду, допустим, в собачку. Так ведь хочется к хорошему хозяину попасть».
Говорят, яблоко от яблоньки недалеко падает. Господи, почему же это налитое яблочко так далеко упало от меня?
Видать, есть на земле райский уголочек по адресу Морской проспект, дом десять, квартира два.
9
Курятников порывался проводить до двадцать первого кабинета, но я счел неудобным затруднять старика. Расспросив, пошел самостоятельно. И заблудился.
Коридоры огненными фантастическими туннелями уходили в бесконечность. Потолки, перекрещенные трубками ламп, казались какими-то раскаленными системами. Слепящий свет, отражаясь от пластика стен, казалось, просвечивал людей, как рентген. Миновав километра полтора этих коридоров, поднявшись по металлическим лестницам, пройдя переходы и перекрытия, я уперся прямо-таки в фантастическую картину, куда и должны были привести фантастические туннели...
Посреди безлюдного зала стояли, как мне сперва показалось, громадные клювастые птицы и вертели крепкими белыми шеями. Мягко жужжали моторы. Роботы трудились самозабвенно. В их плавных и расчетливых движениях была почти человеческая грация, поэтому хотелось им сказать, чтобы отдохнули, посидели, покурили.
Я смотрел, не в силах оторваться.
В таких случаях меня задевает противнейшее чувство собственной никчемности. Когда я вижу чудеса техники – самонастраивающийся станок, взлетевший самолет, уходящую под воду субмарину, огнекипящую доменную печь, какой-нибудь пончикоделательный автомат – то всякая работа за столом с бумажками начинает казаться сущей безделицей. В каждом мужчине сидит тоска по работе мускулами и руками. Кстати, я знаю верный тест, определяющий настоящего мужчину безошибочно: покажите ему молоток либо какую-нибудь дрель, и если сердце его не ёкнет – он не мужчина. Кстати, я – мужчина, хотя не умею толком работать ни молотком, ни тем более дрелью, но сердце мое от них ёкает.
Оторвавшись от созерцания цапель-роботов, я побродил еще по коридорам, пока добрый человек не подвел меня к двери под номером двадцать один. Табличка оповещала, что там находится экономист. Постучав, я вошел,
В объединении «Прибор» не берегли электричества. Я будто в фонарь вступил. В небольшом кабинете не только пылали лампы дневного света, но и отраженно светились гладкие стены, лакированные столы, вычислительные приборы и даже белая бумага. Впрочем, сильно близоруким, вроде меня, свет не помеха.
За главным, за большим столом, сидела женщина, мне знакомая.
– Здравствуйте, – сказал я, глянув в угол на деревянную вешалку, представлявшую оленьи рога, насаженные на полированный шест.
Песцовая шапка, донельзя выбеленная ярым светом, походила на снежный сугробик, повисший на сучьях. Женщина перехватила мой взгляд и усмехнулась:
– Я вас еще у лифтов приметила.
– Вы Сокальская?
– Да, Галина Ивановна Сокальская. И что?
– Хочу поговорить...
– Мало того, что следите за мной, так еще и агента подослали.
– Какого агента?
– Дурачка, хотевшего снять с меня шапку. Хотя бы предлог выдумали поостроумнее.
– Никакой это не агент.
– Ага, случайный знакомый.
Не думал, что предстоит обороняться. Тот, кто оправдывается, заведомо виноват. Я еще ничего не понял и ни о чем не догадался, но был уверен, что нападать следовало мне. Однако я мешкал. Хотя бы потому, что Сокальская не предложила ни раздеться, ни сесть. Мое переминание посреди кабинета вызвало у нее новую, ничуть не стеснительную усмешку.
Вместо того чтобы сообразить, кто она такая, я разозлился и потерял всякую остроту мысли. Потому что передо мной сидело живое воплощение спеси, ненавидимой мною всегда и сильно.
Суть не в ее импортном костюме с модными плечиками и не в серьгах, поблескивающих бриллиантно; не в сахарно-белых руках с рубиновыми ногтями, казалось, вонзенными в пространство; и даже не в благородной белизне округлых щек, начинавшихся, по-моему, прямо от висков; и даже не в изумленном изгибе бровей и насмешливом дрожании губ... И не во взгляде, способном своей силой отворять двери. Суть в том, что все это соединялось в нечто чрезмерное, сверхвеликое и надземное; нечто суперголливудское, случайно попавшее в кресло экономиста.
Кто сказал, что форма выражает содержание? Форма отражает спесь, ибо вся спесь уходит в форму. У них зависимость, как у массы и скорости или, скажем, как у материи и времени, ибо не будь формы, спеси не в чем было бы выражаться.
– Вы следователь? – спросила Сокальская.
Злая кровь ударила мне виски. Не потому, что она догадалась, а потому, что я до сих пор не догадался. Казалось бы, есть показания о женщине в песцовой шапке; эта женщина трижды попадается на моем пути – у лифтов, на улице и здесь; работает она на «Приборе», где работал и погибший; отчество у нее Ивановна.
Передо мной была дочь Анищина.
– Следователь, – признался я и самовольно сел перед ее столом; даже расселся, потому что снял шапку и расстегнул куртку.
– С какой стати вы меня преследуете? – спросила Сокальская гортанно.
– Конечно, зря.
– Вот именно.
– Надо бы поручить уголовному розыску.
– На каком же основании? – повысила она голос и, по-моему, сережки недовольно тренькнули, потому что бриллианты не терпят грубости.
– На основании уголовно-процессуального кодекса.
– Не пугайте, время не то...
– По-моему, вы и в то время жили вольготно, – не удержался я, и уж поскольку не удержался, то и добавил: – По-моему, такие, как вы, во все времена живут неплохо.
– Какие такие? – тихо спросила она.
Но я уже не боялся этой полушепотливой тишины, я уже закусил удила:
– Которые бросают отцов.
– Откуда вам известно, что его бросили?
– Которые бросают трупы отцов, – добавил я то, что было известно доподлинно.
– Я сегодня была в морге!
– А почему не идете ко мне?
– Зачем?
Я осекся. Действительно, зачем? Можно было бы назвать формальный повод: за разрешением на захоронение. Но зачем идут к следователю все родственники погибших?
– Хотя бы затем, чтобы объяснить, почему отец удавился.
– Я не знаю, – отрезала она.
– Тогда спросить следователя, почему.
– Меня это не интересует.
– Не интересует, почему отец наложил на себя руки?
– Представьте!
– Государство интересует, а родную дочь – нет?
Сокальская вдруг глянула на часики и поднялась:
– Извините, я ухожу.
– Но мне нужно с вами поговорить...
– Рабочий день кончился. До свидания.
– Ах, так... Гражданка Сокальская, попрошу вас завтра явиться в прокуратуру района.
– И не подумаю.
– Почему?
– А я не преступница.
– Тогда вручу вам повесточку, – почти пропел я, стараясь смягчить злость в голосе.
Теперь в газетах обилие статей, клеймящих милицию и следственные органы. Попадаются среди нас уроды разных степеней, с которыми я схлестывался задолго до газетной моды. Схлестывался так, что наживал себе врагов, коллектив меня пробовал отринуть, как тело инородное, прокурор города разносил... Правильно пишут в газетах. И все-таки иногда усомнюсь, правильно ли? Истина многозначна. Пишут о плохом. А где же статьи про порезанных и убитых милиционеров, про оскорбленных и побитых следователей, про измочаленных и про испсиховавшихся сотрудников, живущих одной работой и не доживающих своего века? Будет ли статья про то, как сейчас мои руки сперва никак не могли расстегнуть портфель, потом не могли достать повестку, а теперь никак не могут четко, без сейсмической дрожи, вписать фамилию и часы явки?
– Вот вам повесточка, – опять пропел я.
Сокальская с минуту ее рассматривала, но там значилось все: и адрес, и номер кабинета, и штамп прокуратуры.
– А если не пойду? – спросила она, брезгливо держа повестку двумя пальцами.
– Вас приведут.
– Кто, вы?
– Милиция.
– На каком основании?
– Я вынесу постановление, передам в райотдел, в этот кабинет войдет милиционер, отведет вас в «газик» и привезет ко мне.
Все это выложил я с улыбкой, спрятав руки в карманы. Чтобы Сокальская не заметила их сейсмической дрожи.
10
Я не знаю, что такое время. Но я знаю, что время послано человеку в наказание.
Когда ходил в детский садик, мне говорили, что скоро пойду в школу. Когда ходил в школу, говорили, что скоро пойду в техникум. В техникуме говорили, что впереди работа. На работе что-нибудь да было впереди: повышение квалификации, новое дело или должность, новые люди, встречи или собрания. Потом на работе стали говорить, что впереди пенсия. Пришла, я на пенсии. Теперь-то что впереди? Хочу знать, что будет у меня после пенсии.
О сущности времени я начал задумываться лет в полсотни. Почему? Да потому что старики – хранители времени.
Кого вспомню, тому и позвоню. Кто помер, кто в больнице, кто неизвестно где... Костю вспомнил, одно время был начальником цеха, где теперь роботы стараются. Он молодой, ему лет шестьдесят. Позвонил. Ответила женщина, с которой вышел такой разговор: «Здравствуйте. Мне бы Константина Петровича». – «Подобных здесь нет». – «Это номер такой-то?» – «Да, но Константин Петрович не проживает». – «Когда-то он сам дал мне этот номер». – «Не проживает и никогда не проживал». – «И вы его не знаете?» – «Не знаю и такого подлеца знать не хочу».
Для старости ничего нет правильного. Она может все оспорить, все поправить и на все возразить.
Все ушедшее кажется важным, необходимым и хорошим. Все приходящее кажется сомнительным и не тем.
Все это считают правильным, а мне невдомек... Родитель лет двадцать растит ребенка. Само собой, ничего не жалея. И любой родитель тешит себя надеждой: вырастет чадо, станет помощником, изменится в доме жизнь, придет счастье... Но чадо вырастает – и привет. Уезжает далече либо разменивается. Бросают стариков. Неужели это нормально? Бросать друга в беде полагаю предательством. А родитель-то больше, чем друг. И он в беде, в старости.
Говорят про царство теней, куда мы попадаем якобы после смерти. Так вот старики попадают в это царство тут, на земле. И то: друзья его, сослуживцы и родственники все померли. Но он их помнит, поэтому они всегда с ним. А что это такое, как не царство теней?
Стар я до того, что уже не все понимаю. Видел по телевизору, как девицы в курточках валяют друг друга не хуже солдат на учениях. Дзюдо называется. Скажут, что мои стариковские ворчалки... Ну, а замуж их берут? Да они не только все отобьют у себя во чреве, но и нежность своей фигуры исказят. Это дзюдо физическое, а после него пойдет дзюдо и душевное, поскольку скажется. Упаси бог.
Старики обидчивы. Потому что брошены и забыты. Вот и я. Из-за своей старости обиделся на всех людей.
Всю жизнь я работал руками. А теперь вот сижу, хотя, конечно, никаких мастеров для ремонта никогда не приглашаю. Но и сам ничего не произвожу. Для чего? Не могу я работать лишь для самого себя.
Сегодня в универсаме со мной приключилась история. Взял я два плавленых сырка и пачку чая грузинского. Отошел к окну и достал деньжата из внутреннего кармана пиджака, который на всякий случай зашпиливаю булавкой. Подхожу к кассе. Вдруг передо мной вырастают две особы. Одна молодая в белом халате с резкими повадками, видать, директорша. Вторая женщина сильно пожилая, в темном халате, скорее всего уборщица. Директорша говорит: «Гражданин, пройдемте с нами...» Удивился, но пошел. Очередишка, конечно, меня оглядывает. Завели в соседний отсек, и директорша говорит: «Гражданин, покажите свои карманы...» Весь остаток моей старческой крови ударил в мозги. Говорю: «Не имеете права». – «Не имеем, поэтому прошу самому показать». – «Да на каком основании?!» – «Гражданин, видели, как вы что-то прятали в карманы». – «Кто видел?..» Тут уборщица вошла в разговор: «Я видела...» Что же, вывернул я карманы и английскую булавку показал, как виновницу подозрений. А стенка-то в отсеке стеклянная, и народ видит, как старика обыскивают. Тут кровь вторично ударила в мои мозги, да так, что испугался внезапного инсульта. Директорша, вникнув, дает задний ход. Не умею рявкать, а тут вышло: «Подать мне жалобную книгу!..» Директорша меня уговаривает. Уборщица сперва извинялась, потом о себе заговорила, про худое здоровье, подорванное в блокаду; про детей, выращенных без мужа; про эти обширные залы, на уборку которых здоровья уже не хватает. Заплакала уборщица, все это суммировав. И я, дурень, заплакал... Потом весь день думал: почему же один хороший человек обидел другого хорошего человека?