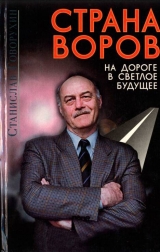
Текст книги "Страна воров на дороге в светлое будущее"
Автор книги: Станислав Говорухин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Как-то в «Неделе» было опубликовано интервью с ведущим криминологом страны доктором наук И. Карпецом. Среди прочего профессор указал: «Усиливая борьбу с преступностью, ни в коем случае нельзя… идти по легкому пути, вылавливая «мелкую рыбешку»».
«– Профессор! – сказал бы Маяковский. – Снимите очки-велосипед!». О чем вы говорите? Неужели вы не понимаете, что как раз «мелкая рыбешка» – вор, хулиган, пьяница – отравляют жизнь гражданам, делают ее невыносимой!
Я выхожу из гостиницы маленького провинциального городка и вижу такую картину. С нового, только что купленного «Москвича» снято лобовое стекло, изрезан уплотнитель. Рядом поник головой хозяин – из «бардачка» украдены деньги, документы на машину, права, нет и магнитофона.
Воры, обокравшие машину, по мнению профессионала-юриста – «мелкая рыбешка». А для пострадавшего – злейшие, ненавистные преступники. Ну что ему теперь делать? Парень – слесарь из Магнитогорска, два года вкалывал на Севере, заработал деньги на машину и право купить ее вне очереди. Еще вчера был счастлив. А сегодня… Лобовое стекло с уплотнителем стоит на черном рынке полторы тысячи рублей ($150). Еще попробуй достать…
Говорят, истории войн известно сражение, в котором был убит один-единственный солдат. Но для него, для погибшего, это была величайшая война в мире.
Нет, не бывает значительных и незначительных преступлений. Все они одинаково опасны для общества. Не бывает воров маленьких и больших, мелкой рыбешки и крупных хищников. Вор есть вор. «И он должен сидеть в тюрьме!» – говорил мой любимый Глеб Жеглов.
Какую статью, какое исследование о преступности ни возьмешь – везде цифры. Уголовную статистику наконец открыли и теперь ею охотно пользуются, делают научные выводы. Но можно ли пользоваться нашей статистикой? Тем более для научных целей?
Специалисты говорят, что официальную цифру они обычно умножают на четыре – таким образом учитывается латентная (скрытая) преступность. Не знаю, не знаю… Кабы так – жить бы еще можно было.
Как-то в еженедельнике «Новое время» была напечатана статья Александра Изюмова, где утверждалось, что уровень преступности у нас гораздо выше, чем в большинстве стран Запада. В вышедшем следом номере «Аргументов и фактов» сотрудник пресс-центра МВД в пух и прах разбил доводы Изюмова. Но «разбил» не очень убедительно.
То, что в Англии, Франции, не говоря уж о каком-нибудь Кувейте, уровень преступности значительно ниже, чем у нас, сотрудник МВД не стал отрицать. Что очевидно, то очевидно. Но зато в США…
Нужно сказать, что миф «Америка – страна преступности» у нас в стране долгое время был очень популярен. Он крайне вреден, этот миф. Мы так устроены: пока знаем, что где-то, тем более в стране прогресса и цивилизации, преступность выше нашей, сами и не почешемся.
Между тем поверхностного взгляда на эту заокеанскую страну достаточно, чтобы понять: от преступности она не задыхается. Во всяком случае она отнюдь не парализована. Все функционирует: работают кондиционеры, движется транспорт, магазины нараспашку, в парках целуются, в ресторанах едят, а не стреляют, счастливые дети гуляют по Диснейленду. Вряд ли какому-нибудь российскому туристу посчастливилось видеть не то чтобы драку, но хотя бы пьяного на улице. Бомжей – выражаясь по-нашенски – сколько угодно, но пьяных – нет. Коренное население вообще чуть ли не поголовно бросает пить и курить.
Существуют, правда, города (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон), где статистика удручающая. Есть кварталы, куда белым ходить не рекомендуется – например, Гарлем. Впрочем, автор этих строк там был (гулял, слушал уличный негритянский оркестр), и ничего с ним не случилось. Возможно, просто повезло. Один из самых страшных районов Нью-Йорка – это Южный Бронкс, печальная слава которого превзошла славу Гарлема. Грязь, мусор, запустение, наркобизнес… Неисчерпаемый кладезь, из которого черпали материал для своих репортажей поколения советских журналистов. Но при нас тоже никто ни в кого не стрелял.
Преступность в Нью-Йорке сосредоточена в двух районах, где живут негры и эмигранты из Латинской Америки. 90 % преступников в Америке – цветные. Как это случилось – отдельный разговор. Корни далеко-далеко в истории. Когда-то африканских рабов привезли сюда в кандалах. Теперь Белая Америка расплачивается за давние грехи.
Но вернемся к статистике и к статье Изюмова, в которой тот утверждает, что мы перегнали Запад. Разбивая доводы Изюмова, пресс-центр МВД приводит цифры, в итоге которых оказывается, что преступность у нас (из расчета на 100 000 человек) в семь раз выше, чем в США.
В семь раз выше! Не шутка. Далее приводятся такие данные. У нас отбывают наказание 800 тысяч осужденных. По этому показателю в расчете на сто тысяч человек населения мы примерно сравнялись с США.
Значит, в тюрьмах у них сидит столько же, сколько у нас. Но преступлений в семь раз больше. По логике, и преступников должно быть в семь раз больше. А сидит столько же.
Какой получается вывод?
Американская полиция работает в семь раз хуже нашей милиции. Чувствую, что читатель поперхнулся.
Сколько ни дурили ему голову, сколько ни рассказывали баек про плохую Америку, но что такое американский полицейский, он знает. Хотя бы по фильмам.
Рассказывать об американском капе можно долго (кап – от слова «капор», каска; раньше полицейские носили каски). Давайте, ради интереса, я опишу вам, что висит у него на поясе. На широком кожаном поясе, чуть пониже брючного ремня.
Итак: «Смит и Вессон». Элегантное, легкое, точное, надежное оружие. В открытой кобуре, чтобы вытащить пистолет за секунду. Если же за рукоятку дернет преступник, вытащить пистолет из гнезда ему не удастся – внутри есть замок с секретом. Полицейские специально тренируют это движение.
Пойдем дальше: две запасные обоймы с патронами, газовый пистолет или баллон с крепким газом, фонарик с узким сильным лучом, швейцарский перочинный нож в кожаном чехле, портативная рация, записная книжка в кожаной сумке, короткая (не как у наших) дубинка, наручники (кстати, страшный дефицит у наших милиционеров).
Экипирован американский кап неплохо. Если сюда добавить внушительный рост, отличную спортивную подготовку (найдите-ка курящего полицейского!), если добавить его машину, оборудованную современной техникой, включая компьютер, если учесть, как дорожит полицейский своей работой (зарплата 44 тысячи долларов в год, плюс всевозможные льготы, плюс бесплатное медицинское обслуживание), то трудно поверить, будто американская полиция хуже нашей.
О том, как действуют американские полицейские в серьезной переделке, нам еще предстоит как-нибудь рассказать читателю, а пока вспомним наших бедолаг.
Как-то по телевидению демонстрировался эпизод о героическом противоборстве милиционера с опаснейшим преступником-убийцей. Помните эти кадры? Убийца приставил пистолет к груди милиционера и спустил курок. Пистолет дал осечку. Потом он выстрелил в милиционера дважды, но не попал – тот спрятался за столбом. И только тут страж порядка вытащил свое оружие и стал стрелять. По ногам!
Обратите внимание: скрывающийся от возмездия преступник – в упор, в грудь, а его преследователь – издалека, по ногам.
Каким-то чудом милиционеру удалось попасть в машину и ранить успевшего в нее заскочить преступника. Через день-два, после обращения к врачу, преступник был задержан. Повезло. А могло бы – что более вероятно – не повезти. И жестокий садист-убийца гулял бы на свободе.
Как-то в Красноярске произошел такой случай. Двое сотрудников МВД преследовали машину с угонщиками. На их глазах преступники сбили постового милиционера, старшего сержанта Мурашова. Удар был столь силен, что несчастному оторвало ногу. Лишь после этого убийства преследователи вспомнили об оружии. Они связались по рации с начальством и запросили разрешения стрелять. Стрелять им разрешили. По колесам.
Мы были на похоронах погибшего. Молодой симпатичный парень. Стала вдовой жена, сиротами – дети… Как она будет кормить их на нищенскую пенсию – неизвестно.
Увы, живая практика работы нашей милиции мало убеждает нас в том, что она работает в семь раз лучше американской. Скорее наоборот: американская полиция действует в семь раз эффективнее.
Но если с этим согласиться, то надо признать и что итоговая цифра нашей уголовной статистики приуменьшена в четырнадцать раз!
Что тут еще можно добавить? Надеюсь, у читателя не возникло подозрения, что автор против борьбы с организованной преступностью, что он подкуплен мафией? А вообще с ней бороться надо? Представляет она опасность для общества?
Надо. Представляет.
Делается что-нибудь для этого?
Безусловно. Создаются даже специальные службы, подразделения, во главе которых ставятся решительные, энергичные люди. Готовятся кадры, набираются опытные рядовые бойцы. Пожелаем им успеха на их трудном поприще!
Но квартиры все-таки грабит не мафия. И машины «раздевает» не мафия. И насилуют – в лифте, в подъезде, в подземном переходе – не организованные группы уголовников. И нож к горлу в темном углу приставляет не атаман банды. Что уж говорить о миллионах преступлений, совершаемых по пьянке или из озорства, чтобы себя показать, по праву сильного.
Отъевшееся в идеальных условиях, мурло хулигана, сквернослова, пьяницы имеет миллионы рож. Они смотрят нам в глаза на каждом перекрестке, из-под арки каждого двора, у входа на стадион, в парк, на станцию автообслуживания. Как фреоны пожирают озон, прожигая дыры в атмосфере, так эти ненасытные твари глотают кислород, которым дышат здоровые люди. Уже нечем дышать! Атмосфера на улицах наших больших городов, в наших маленьких поселках становится невыносимой для честных людей. Просто выживать им становится все труднее.
Что делать с преступностью таких неслыханных масштабов?
Ну, во-первых, надо признать ее за преступность. Признать юридически. Она, эта преступность, и жива-то ощущением своей безнаказанности.
Во-вторых, бороться с ней профессионально. Повышая профессионализм работника милиции, его компетентность, общий уровень его развития. Нужно чтобы каждый участковый, постовой усвоил: не бывает мелкой преступности – и «мелкая рыбешка», и убийцы-насильники одинаково опасны для общества. Первые – по тенденции, вторые – по факту содеянного.
И еще: если в руках у преступника нож, кастет, обрез, милиционер должен не бояться – обязан стрелять первым. Иначе мы долго будем совершать печальные обряды по героически погибшим на посту{К моменту выхода этой книги из печати милиции было даровано право стрелять первой. В случае явной угрозы жизни для стража порядка. То есть без предупреждения и злополучного выстрела в воздух, который подчас оказывался последним в жизни буквально следовавшего инструкциям милиционера.}.
Вот такой ракурс рассмотрения проблемы мы хотели бы предложить. И так, только таким образом у нас есть шанс оздоровить атмосферу в стране. Правда, при этом придется распроститься с ласкающей взор обывателя статистикой. А от умиротворения общества высосанной из пальца цифирью перейти к умиротворению другого рода, но уже лишь части общества, с обществом в целом не очень «ладящей».
Но мы из всех возможных путей выбираем самый трудный. Так нас учили, слишком долго учили, чтобы сразу от этого отказаться: жизнь – борьба. Вместо выработки профессионализма мы то и дело встаем на путь бесшабашного дилетантизма. Во многих городах страны время от времени начинают создавать рабочие отряды. К борьбе с опаснейшим врагом подключаются десятки тысяч дилетантов. Интересное решение проблемы! И совершенно в нашем, советских времен, стиле: путь неясный, безумно трудный, но зато по нему никто не ходил. Опять – первооткрыватели.
Добровольцы-дилетанты, которым предстоит бороться с преступностью, работать не будут. Но средства на них уйдут немалые. И это вместо того, чтобы повысить зарплату работникам милиции в два-три раза, оснастить милицию всем необходимым, бросить туда лучшие достижения отечественной и западной техники!
Н-да…
Попрошу читателя вспомнить известное полотно художника Брейгеля: группа слепцов под руководством вожака-слепца бодрым шагом идет… к пропасти.
Теперь должен признаться читателю, что рассказа-то я не начинал. Это все было только вступление к нему. Сам рассказ, ради которого я отставил в сторону неотложные дела и сел к пишущей машинке, – еще впереди.
В предыдущей главе я высказал такую нехитрую мысль: мол, для изучения преступности не надо нынче никуда ехать – окружающая жизнь сама в избытке поставляет криминальный материал. Но мы все-таки поехали. Куда – для нас особого значения не имело. Криминальная обстановка сегодня везде примерно одинакова. Взяли географическую карту, ткнули наугад пальцем и попали… в Пермь.
Об этой интересной поездке мы и поговорим дальше.
Жуть
Право, разница между Москвой и Вашингтоном гораздо меньше, чем между Москвой и русской провинцией. На Западе между столицами и провинциальными городами тоже есть коренные отличия, но они, как правило, в пользу провинции (там и с жильем получше, и с экологией в порядке, и преступность почти отсутствует). У нас – все наоборот. Архитектура в провинции ужасная, культурных возможностей никаких, жить негде, заводы дымят, с преступностью все напряженнее. В магазинах, правда, товаров сейчас поприбавилось, но тоже – как где, да и до гумовского разнообразия – как до Луны. Дифферент, как говорят моряки, становится угрожающим и вот-вот достигнет критического угла.
Москва, благодаря воздушным мостам тесно-тесно приблизившаяся к Западу, все дальше отодвигается от родной, патронируемой ею провинции, от терзающих ее проблем. А та с нарастающим отчуждением посматривает на Москву. Враждебность к москвичам чувствовалась в Верховном Совете, есть она и в нынешнем парламенте. Мол, сытый голодного не разумеет. А наше кино? Чем объяснить то, что отечественные фильмы перестали волновать зрителя? А тем, что большинство кинематографистов прописано в столицах и вряд ли знает, как живет народ, чем он дышит и в какой духовной пище нуждается.
Как-то не так давно наша съемочная группа, работающая над фильмом о проблемах преступности, выехала в Пермь. Можно сказать, что город мы выбрали «удачно».
Не успели расположиться в гостинице – звонок:
– Срочно приезжайте! Два убийства!
Два убийства в одну ночь, совершенно однотипных: почти в один и тот же час, на соседних улицах, одним и тем же орудием (кухонный нож), по схожим мотивам (по пьянке), и трупы, как два близнеца – мужчины за сорок с ножевыми ранами в груди. Даже обстановка, в которой произошли убийства, и там и здесь одинаковая: грязная коммунальная квартира в пятиэтажке, маленькая комнатка, поразительная бедность. Да что там бедность – нищета!
Разговариваю с убийцей. Молодая наглая рожа, ни капли раскаяния в глазах. А ведь только что лишил человека жизни!
– Ну че зыришь? Не видал таких? – смеется. – Нравлюсь?!
Обратно едем всемером в тесном милицейском «Уазике». Кинокамера, штатив – на коленях. Сопровождающий нас капитан посмеивается:
– Привыкайте. Мы и ввосьмером, и вдесятером ездим, на головах друг у друга сидим. А то – пешком.
– На происшествие?
– Ну а куда же…
Сидим в дежурной части, ждем звонков. Дежурный по городу спрашивает:
– А что вам хотелось бы снять?
– Нас все интересует. Предположим, квартирную кражу.
Дежурный посмотрел на часы:
– Кражи уже кончились. Сейчас грабят и убивают.
Оглядываю убогое помещение, примитивную аппаратуру. Спрашиваю:
– А компьютеры у вас есть?
Дежурный смотрит на меня, как на Иванушку-дурачка. Вмешивается другой милиционер, следователь прокуратуры:
– У нас машинок пишущих нет, не хватает. А вы – компьютеры!.. Бывает, приедешь с «убийства», до чего только не дотрагивался там, а руки вымыть нечем – нет мыла!
В следственном изоляторе познакомился с женщиной, молодой матерью.
– Ой, не снимайте меня, – кокетничает она перед камерой. – Я сегодня плохо выгляжу…
Двоих своих крошечных ребятишек она решила убить самым «простым» способом. Перестала их кормить и поить. Дети плакали, кричали, пока были силы. К несчастью, никто их не услышал. Соседи неладное заподозрили поздно.
Один ребенок умер, второй был похож на узника концентрационного лагеря.
…Нет, не согласимся мы с утверждением покойного Ламброзо, что в физиономии человека есть характерные признаки, обличающие садиста и убийцу. Ни один физиономист не угадал бы в этом милом рыжем мальчике убийцу. Хорошее лицо, чистый взгляд. Коренаст, плотен, подвижен. Шутит, посмеивается, подает руку «жертве». Идет следственный эксперимент. Преступник (Смирнов, 21 года) показывает, как они с товарищем, Инсаровым, убили девушку. Сначала ее изнасиловали – вчетвером. Потом отвезли на мотоцикле в лес и там убили. Причем вырывали друг у друга нож – ударить хотелось каждому.
Девочка была с их улицы, они ее знали с детства. Смотрю на фотографию погибшей: прелестное личико, семнадцать лет… И никакой печати смерти во взгляде.
– Как вы себя чувствовали после того, как убили ее? – спрашивает следователь.
– Нормально, – отвечает юный убийца. – Как обычно.
– А что вы делали потом, когда приехали домой?
– Купили на Пролетарке две бутылки вина. Выпили. И поехали кататься на мотоцикле.
Для тех, кто видит корень зла в отечественной организованной преступности – доморощенных рэкетирах, коррупции на уровне директоров предприятий, – хочу еще раз повторить: вот она, настоящая преступность! Страшная и неостановимая.
Вспоминаю еще одно подобное преступление – этим же летом в городе Енисейске. Цитата из записи допроса:
«– Как у вас возникло намерение совершить убийство?
– Мы посмотрели видеофильм. Вышли из зала, и нам захотелось кого-нибудь убить…».
Два мальчика сели в попутную машину, выехали за город и нанесли водителю пятьдесят восемь ножевых ран. Агонизирующая жертва укусила одного из них за палец. За это они выкололи умирающему глаза.
На встречах со зрителями меня иногда спрашивают:
– А не виновато ли во всем, что происходит на наших улицах, кино? Нет ли здесь «заслуги» кинематографа?
Раньше я оправдывался: мол, у них, на Западе, такого «кина», где есть и секс и насилие, гораздо больше, а ничего… не задыхаются от уличной преступности.
Но теперь чувствую: был не прав.
Может быть, действительно хватит? Нам не удалось обогнать Америку по мясу и молоку. Но по количеству секса и насилия на экране мы ее обогнали мгновенно. За год-полтора, едва нам все разрешили.
Не пора ли остановиться? Все же у нас, в нашей стране, ситуация другая. И мы не ощущаем всей глубины той нравственной пропасти, в которую опустились. И того, что при больших допущениях можно Там, но нельзя Здесь? Среди нас, оказавшихся в нижней точке столь горького и бесславного падения, должны действовать более строгие нравственные законы. И всем нам вместе предстоит длительный нелегкий путь наверх.
Не пора ли поэтому начать говорить – неустанно, не боясь наскучить – о понятиях, до сих пор невостребованных: чести и благородстве, достоинстве и мужестве?! О том мужестве, когда мужчина бросается на выручку ребенку или женщине, не думая о последствиях. А то у нас скоро будут насиловать среди бела дня на Манежной площади и никто не отважится на защиту.
Мы пробыли в Перми недолго. Рядом, всего в двухстах километрах вверх по Каме – город Березники. Я там родился. Но жил недолго, вскоре был увезен родителями на Волгу: И сейчас захотелось посмотреть родные места.
Разбитая грейдерная дорога связывает два крупных промышленных города. Она вьется по левому берегу реки, иногда взмахивает на пригорок, и оттуда виден всхолмленный горизонт, зеркальные извивы Камы, голубые бескрайние леса. Огромная страна.
Огромная богатая страна! Леса, воды, пушнина, рыба, чуть не семьдесят процентов мировых черноземов, колоссальные минеральные богатства – нефть, газ, редкие металлы, золото… И нищета! Удручающая, лишающая достоинства нищета.
– И сколько же вас живет в деревне, бабушки?
– Три человека.
– А молодые есть?
– Нету молодых.
– Чем же вы питаетесь? Магазина-то нет.
– В Пермскую ходим.
– Это сколько километров?
– Пять.
– А огород есть?
– Есть. Как же без огорода…
– Что у вас в огороде растет?
– Морковочка, лук, картошки.
– А молоко где берете?
– Нету молока.
– Как жизнь, бабуси? Хуже, лучше – в последнее время?
– Ой, лучше!.. В десять раз хуже.
– Про перестройку-то слышали?
– Перестройка-то и настроила, что покушать нечего.
– Сахарку-то нет? Чайку попить не с чем?
– Перестроила перестройка. Это не перестройка, а… Сказала бы, да рот после этого крестить надо.
– А мыло-то есть?
– Ни у кого ничего нету. Ничего нету, миленькие! Плохая жизнь стала…
– Совсем никудышная.
– А раньше все было. Покушать-то было чё. Пойдешь сахарок купишь… Квасок сделаешь, попьешь, пьяненькой напьешься. Раньше конфетки купишь, прянички, а сейчас ничего нету.
– А откуда про перестройку слышали?
– Радио-то говорит.
– Что говорят?
– Хвалятся. Заседание идет… Говорят, пенсию добавить хочут…
– Ну и на что же ее сейчас хватает?
– На что – на хлеб! Картошку я сама сажу…
– Дай вам Бог долгой жизни, бабушки! Может быть, жизнь к лучшему изменится.
– Нет, хуже еще будет.
– Думаете, хуже?
– Хуже. День ото дня все хуже и хуже… Вот такой у нас состоялся разговор с двумя старушками по дороге. Когда садились в автобус, одна из бабушек спросила:
– Президент-то, он в Москве правит?
– Почему в Москве? В стране.
– Вы уж скажите ему, что чайку-то не с чем попить.
– Неладная, мол, жизнь-то стала. Скажете?
– Обязательно скажу, бабуси. Обязательно!
Магазин, о котором мечтали-тосковали эти две милые уральские старушки, мы встретили буквально на следующее утро. Там было все то, чего они так долго не видели в своем магазине, расположенном в пяти километрах от их деревни. Пряники, конфеты, мед, варенье, мясные консервы, хозяйственное мыло. К сожалению, старушкам нашим вход туда воспрещен. И не потому, что далеко – не за тридевять земель от них. А потому, что – ворота туда железные и часовой стоит у входа.
Магазин расположен на территории женской колонии строгого режима.
– Давно вы здесь?
– У-у, я старая каторжанка. Что такое свобода, и не знаю.
– Сколько же вы сидите?
– Сорок пять лет.
– Сорок пять?!
Разные сидят в колонии люди. С тяжелыми статьями, с более легкими. С тремя-четырьмя судимостями. С десятком и поболее. Есть и убийцы. Но основной контингент – за воровство.
Красть начинали по-разному. Но толкало на воровство одно и то же: нищета, убогий быт, бездушие окружающих.
– Сколько тебе было лет, Нел я, когда ты села?
– Девятнадцать.
– А сейчас?
– Тридцать три.
– Шесть лет тебе осталось сидеть? В сорок выйдешь на свободу… Между сроками ты была на свободе?
– Почти нет.
– Детишки-то есть?
– А зачем они мне? Вот еще морока. Зачем они мне?
– Ты из детдома, Неля? А почему мать отдала тебя в детдом? Она что, пила?
– От горя кто не запьет. Нас девять человек у нее было. Как муравьев. Надо всех и одеть, и обуть. Она одна тянула. Отец сидел…
Неля выйдет отсюда в сорок лет. Через месяц-два вернется обратно. Большинство снова возвращается в колонию. Трудно с судимостью устроиться на работу. Трудно привыкнуть к честной жизни. Да и не намного слаще на воле, чем здесь. Тут хоть трехразовое питание и чистые крахмальные простыни. А как живут наши знакомые старушки неподалеку, мы видели.
Тюрьма, какой бы она ни была, калечит людей. Неля на свободе между отсидками не была. Отбывая один отмеренный срок, совершала лагерное преступление, ей добавляли новый. Вряд ли она выйдет отсюда и к сорока годам.
Нет, не имеет права это учреждение называться исправительным. Никого тюрьма не исправила. В ней отбывают наказание. Для этого она и создана. И незачем приклеивать к ее названию благопристойные словечки, присваивать не свойственные ей функции.
Начальник лагеря показывает мне на осужденную с татуировкой на руках и на груди – в вырезе халата.
– Я ей говорю: «Ну что ты грустишь, Тамара! Вот выйдешь отсюда, наладишь нормальную жизнь, встретишь хорошего человека, полюбите друг друга». А она смеется: «Да ты что, начальник! Как только я разденусь, как только он увидит меня голую – в окно выскочит и раму на ушах унесет!».
– Гражданин начальник, гражданин начальник! – женщина лет шестидесяти тянет меня за рукав. – Выслушайте, пожалуйста, меня!
Рассказывает свою грустную историю. Сидит с 1947 года. Ленинградка, детдомовка. Из блокадного, осажденного города ушла на фронт. После войны прижила ребенка. Одна оказалась с дитятей на руках. Ребенка пристроить некуда. Однажды не вышла на работу. Прогул. Судили по Указу – дали год. Через четыре месяца освободилась. Родных нет, жить негде. Мыкалась по городу. Дали еще год – за «чердак», то есть жизнь без прописки. Вышла – уже две судимости. На работу не берут. Решила уехать из Ленинграда – иначе опять посадят. Села с ребенком на товарняк, на тормоз, поехала, куда глаза глядят. На станции Бузулук ее сняла военизированная охрана. По указу от 41-го года (а шел уже 48-ой) дали снова год.
Таким образом набралось у нее пять судимостей. И вот однажды она познакомилась с хорошим человеком.
– Такой благородный был мужчина. Катаемся мы с ним на поездах, денег у него много, одевает меня хорошо. Спрашиваю: «Толик, ты где работаешь?». Он отвечает: «Я инженер карманной тяги». Клянусь, я не понимала – думала, такая специальность есть. Потом увидела, что он ворует. Говорю: «Научи меня, мне неудобно на твоем иждивении сидеть». А он: «Не положено. Ты жена вора, ты не должна этим заниматься». Тогда я стала потихоньку учиться сама… С тех пор пошло… Сейчас тринадцатая судимость уже… А ему я благодарна по сей день. В то время ни один коммунист не подал мне руки…
В колонии, конечно, несладко. Но смотря с чем сравнивать. Если с жизнью двух старушек, которых мы встретили по дороге… Вот бы их сюда завезти! Они бы решили, что попали в дом отдыха. Работой их не напугаешь – всю жизнь горбатились от зари до зари. А если показать им расположенный в зоне магазин? Да посмотреть при этом на их лица? «Как же так? – скажут они. – Мы всю жизнь работали, а эти всю жизнь воровали!»
В последние годы наша общественность была озабочена улучшением жизни в тюрьме, в колонии. Приятно. Милосердие постепенно находит себе место в общественном сознании. Добавим: в искалеченном сознании. Поэтому любое благородное начинание приобретает у нас уродливые формы. Даже милосердие. Посудите сами.
Преступность росла, а тюрьмы пустели. Было полтора миллиона заключенных, а к 1989 году, когда преступность резко возросла, осталось 800 тысяч.
Характер преступлений становится все более жестоким. В обществе же не на шутку развернулась кампания за гуманизацию методов борьбы с преступностью. Преступления ужесточаются, а методы борьбы с преступностью становятся все гуманнее.
Серьезная опасность нависла над страной, над каждым домом. Нет ни одного родителя, сердце которого было бы спокойно за своего ребенка. Что делает общественность, главным образом творческая интеллигенция? Поднимает широкую кампанию в прессе: ах, как плохо живется преступникам!
Я не за то, чтобы сделать жизнь в колонии невыносимой, как прежде. Ее можно даже улучшить. Но все должно сообразовываться с ситуацией на воле. Не должно быть на свободе хуже, чем в тюрьме!
Но вернемся к нашим старушкам. Почему же они, честно трудившиеся всю жизнь, пережившие голод, коллективизацию, вытащившие войну на своих плечах, оказались на старости лет забыты и колхозом и государством? Вывод напрашивается очевидный: старушки государству больше не нужны!
От тех, кто сидит в колониях, – польза. Они что-то производят, валят лес, выполняют трудоемкие земляные работы. С переходом к рынку кое-где заключенные оказались не у дел, но, думается, это временные трудности – «была бы шея – хомут найдется». Тем более, что платить этой «шее» можно гроши. Известно, что система исправительно-трудовых учреждений вкупе – одно из самых крупных министерств в стране. Многие предприятия ведь планируются и строятся из расчета на колонию, из соображения, что у них всегда будет избыток дешевой рабочей силы. У нас давний и богатый опыт по использованию дешевого рабского труда – труда заключенных.
А какая польза от старушек? Умрут на год-два раньше – только экономия. А если взять всех старушек по стране, суммировать их пенсию? Огромные деньги!
Город Березники – столица химиков. Родина отечественной соды, аммиака. Центр калийной промышленности. Производства – душегубки. От химических отравлений страдают не только рабочие, но и все население. Особенно дети. Развлечений в городе нет, с жильем плохо. Вообще-то здесь жить нельзя.
Но люди живут.
Жил и я когда-то. Родился здесь, пошел в школу, вступил в пионеры. И был счастлив.
Нет-нет да ловил, помню, себя на мысли: как хорошо, что родился я в советской стране, а не где-нибудь в Америке!
Жили мы в двухэтажном деревянном бараке. Мать работала за двоих. Отца не было. Жили впроголодь.
– А где наш папа? – спросил я у мамы, когда начал чуть-чуть соображать.
– Отстань от матери, – сказала бабушка, – не приставай к ней. Отец нас бросил.
– А где фотографии папы? – не унимался я. – Все фотографии есть, даже дальних родственников, а папиной нету?
– Мать все порвала. Забудь о нем. Он был плохой человек. И не лезь к матери!
Я и забыл. Писал в анкетах, когда оформлялся за границу: «Отец бросил нас до моего рождения…».
Умерли мама, бабушка – унесли с собой тайну. Однажды меня словно что-то стукнуло. Попросил сестру написать в КГБ. Пришел ответ: «Репрессирован в 1936 году…». И фотографию прислали – такого, каким он был 23 лет от роду. Я же раньше никогда не видел ни самого отца, ни его снимка. Теперь знаю, как он выглядел. Простое русское лицо… Мог стать учителем или инженером, военным…
Убили человека дважды. Сначала – самого, потом – память о нем.
Я не в обиде на маму с бабушкой. Они значительно облегчили нам с сестрой жизнь.
Но больно! И боль эта не утихает, наоборот – все крепче сжимает сердце.
«Человек! Это звучит гордо!»
Как мы, дети войны, голодные и обездоленные, любили повторять эту фразу!
Десятки миллионов этих «гордо звучащих человеков» свалены в ямы по российским необъятным просторам. Как хорошо должна бы рождать наша земля, насыщенная таким количеством органических удобрений!
Но она не рожает. И не родит ничего. В землю зарыты настоящие хозяева этой земли, любившие ее, умевшие с ней обращаться.
Страна тюрем и лагерей. Кого ни спросишь в этой стране – сидел, кого ни вспомнишь – погиб. В тюрьме, в лагере, в подвалах ЧК, в бесчисленных войнах. И над каждым, буквально над каждым живым, как дамоклов меч, висела угроза неправедного суда и заточения. Страх смерти двигал поступками людей.








