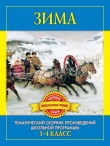Текст книги "Советская литература: Побежденные победители"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Кем-то было замечено: наш потомок, взявшись читать нынешний постмодернистский текст, чтобы понять, о чем в нем речь, каков контекст и чему-кому адресована «заведомая пародийность», вынужден будет обложиться подшивками газеты Правда и томами «сталинских романов». Всем тем, что содержит советский новояз, духовные стереотипы и стилистические шаблоны эпох Сталина-Хрущева-Брежнева.
Это, положим, шутка. Однако серьезно то, что, опираясь исключительно на «вторую реальность», созданную соцреализмом, и устранившись от нравственных оценок ее самой и того, что она по-своему «отражала», то бишь – искажала, доморощенный постмодернизм в представленных и иных образцах продолжает жизнь умершей советской литературы. Реанимирует социалистический реализм – его систему, долго шедшую к своему тупику. Воспроизводит, стало быть, и саму по себе тупиковость, отчего из всех терминов, определяющих вышеозначенное явление, уместней всего: постсоцреализм.
Любопытно, что это воспроизводство – как обычно, с особой наглядностью – проявляется и на поверхности литературного быта. В условиях, когда не то что незапамятный РАПП, но и Союз советских писателей с его культом единого коллектива как распределителя лавров и определителя критериев кажутся невозвратным анахронизмом, заменясь, впрочем, тем, что получило хлесткое имя «тусовка».
В чем различие – или сходство – коллектива и тусовки?
Первый – это уверенность, что режим, которому ты присягнул, вечен. Вторая – нервное опасение не уловить момента. Венец коллектива – парт– или профсобрание, где само неприсутствие – вызов единодушию (отчего, конечно, не героическими, однако и не смешными были уловки тех, кто не пришел на судилище над Пастернаком или иную подобную акцию). Венец тусовки – пресловутая презентация, хотя тут как раз проступает и общность: та же стадность, тот же страх, что в следующий раз не позовут, не назовут, не запечатлеют.
Но пуще того. Коллектив – во всяком случае говоря об области творчества – был фантомом, от имени коего вещало начальство, как его единогласие было фантомной имитацией единомыслия. Стадо, подгоняемое кнутом, – да, но никак не воплощение коллективного разума. Самоорганизующаяся тусовка сделала то, что не было под силу властям. Появилась возможность говорить о некоем действительно коллективном сообществе, даже если и разделенном на ряд квазиобособленных групп. Возник обезличенно-обобществленный стиль (или стёб), обнаружилась общая боязнь быть уличенным, допустим, в старомодности вкусов, и все это тем заразительнее, что, в отличие от коллектива, тусовка – происхождения словно бы благородного. Словно бы диссидентского.
В самом деле! Сплачивались – в андеграунде, в подполье, локоть к локтю сбитые-скученные враждебным давлением официоза; там, где не до счетов, кто талантлив, а кто и не слишком. Теперь же, на поверхности, когда пора, если не размежеваться, то разобраться, кто чего стоит, продолжается имитация «школы», «группы». И вот Тимур Юрьевич Кибиров (р. 1955), едва ли не самый общепризнанно яркий из поэтов «другой литературы», вспомнив с естественной благодарностью к общему прошлому литературное единомыслие с тем же Приговым, стыдливо выдавливает из себя: «Пожалуй, вот мое желание: чтобы кто-то читал мои стихи ровно так, как я читал в свое время Тютчева, чтоб это было событием для человека, чтоб это помогало жить, в конце концов. Все это страшно сейчас проговорить, потому что сразу найдутся люди, которые посмеются над проблемой „искусство – жизнь“, напомнят, что искусство – это „игра“».
Словом: «Я хочу попытаться остаться традиционным поэтом и „чувства добрые лирой пробуждать“. (Я рискую свою репутацию авангардиста свести совсем на нет.)».
«Я рискую… Страшно…». Страшно – не очутиться в том длинном ряду, в котором среди головных – Тютчев, а перестать быть в одном ряду с Приговым.
Что ж, тем, значит, неотвратимее тяга на простор, открытый русской литературной традицией. Тем невыносимее сознавать исчерпанность поэтики, замешанной исключительно на «нарочитой эклектике», на «игре с кичем и масскультурой», на «заведомой пародийности любых утверждений»…
Но в том-то и дело, что она – не исчерпана! Сама эстетика, достаточно условно именуемая постмодернистской, не может быть в ответе за тех, кто использует ее слишком прямолинейно. Проще сказать, она не высосана из пальца, являясь порождением эпохи кризиса общества и его искусства.
В 90-е годы и ближе к новому рубежу веков появилась – в частности, как доказательство этого – поздняя проза исторического романиста Юрия Владимировича Давыдова (1924–2002). Настолько отчетливо игровая, насыщенная пародийностью и каламбуристикой, что не зря тут же было отмечено энтузиастами влияние на нее именно постмодернизма. Мол, нешего полку прибыло! И в самом деле…
В Зоровавеле (1993), повести о Вильгельме Кюхельбекере, из чьей судьбы, не в пример тыняновскому Кюхле (1925), выбран период заточения в крепости, сам стиль экспериментально сгущен до степени метафорической эссенции, которая больше пристала бы поэзии, но и реальность событий подменяется метафорой, – так, тюремным товарищем поэта и декабриста оказывается крыса Пасюк, понимающая по-английски: прежние постояльцы-масоны выучили. В Заговоре сионистов (тот же 1993-й) тон с первых страниц задают «цитаты, как подлинные, так и мнимые» или во всяком случае воспроизводимые вольно: «Цезарь путешествовал… Одной любви музыка уступает… где золото роют в горах… прост, как правда… Он так ошибся, мы так наказаны…». А последняя книга Давыдова, Бестселлер (2001), отлична всем этим в степени наивысшей, заставляя вспомнить первый из названных признаков постмодернизма, «нарочитую эклектику», и спросить: кто в центре романа? Владимир ли Львович Бурцев, гроза провокаторов, ненавистник большевиков? Или сам Юрий Давыдов, не отстающий от Бурцева ни на шаг, но не расставшийся и со своею судьбой, своей биографией? Вообще – разделимы ли сущая жизнь, добротно документированная (вплоть до того, что: «Свобода мне надоела, прискучила», – скажет Давыдов, давши портрет своего Пегаса: не цирковая лошадь, не аргамак, пышущий жаром, а «сивый мерин, терпеливый, двужильный»), и все-таки неизбежный в художестве вымысел-домысел, игра – цитатами, каламбурами, ассоциациями, кажется, почти произвольными?
Вторжение самой личности прозаика, некогда прославившегося романом о российской провокации Глухая пора листопада (1968–1970) и утвердившего свой авторитет чем-то вроде исторической антиутопии Судьба Усольцева (1973) и романом Соломенная сторожка (1986), в котором главенствует фигура «Ильи Муромца русской революции» Германа Лопатина, – вторжение этой личности, обросшей житейскими привязанностями и свободно ассоциирующей историю и современность, в текст его поздней прозы придает тексту форму причудливости, чуть не капризности… Может быть, и сознания относительности наших возможностей хоть в какой-то мере восстановить исторический факт?
В конце концов, давний и авторитетнейший предшественник Давыдова в области исторической романистики Юрий Тынянов говорил: «Там, где кончается документ, там я начинаю». И еще: документы подчас «врут, как люди», – что по-своему выражало принадлежность Тынянова его времени. Послереволюционному, эпохе пересмотра и перетряски всего на свете, политических привязанностей, нравственных ценностей, но прежде всего – истории самой по себе.
Однако между Тыняновым и Давыдовым – расстояние не меньшее, чем между их эпохами.
«У Тынянова героями выступают идеи, идеи борются и сталкиваются и вообще на первом месте – идеология», – скажет Корней Чуковский (отчасти ради сопоставления с другим классиком советского исторического романа: «А у Ал. Толстого – плоть»). Именно так. Может быть, только в неоконченном и даже не вполне оформившемся романе Пушкин, начатом в 1935 году и писавшемся до самой смерти автора, приключившейся в 1943-м, Тынянов нетенденциозен. И дело не только в незавершенности: выстроить «концепцию» мешала всепоглощающая любовь к герою и его неохватность. Во всяком случае, тот же Чуковский рассказывал, как Тынянов, когда-то спрошенный им: «Ну, сколько Пушкину теперь?», то есть до какой возрастной ступеньки роман успел сопроводить его жизнь, «виновато ответил: – Одиннадцать». Вот мера художественной объективности: следить за тем, как Пушкин растет, не мешая его росту тенденциозным вмешательством, «идеологией».
А Смерть Вазир-Мухтара (1928), главная книга Тынянова, – в сущности, прежде и больше всего о горькой судьбе интеллигента, решившегося на сотрудничество с чуждой и деспотической властью, о его предательстве по отношению к самому себе (поскольку речь о писателе – к собственному творчеству). Отчего сам Грибоедов, написанный очень сильно, – иллюстрация к этому размышлению. «На груди его орден. / Но, почестями опечален, / В спину ткнув ямщика, / Подбородок он прячет в фуляр. / Полно в прятки играть. / Чацкий он или только Молчалин – / Сей воитель в очках, / Прожектер, / Литератор, / Фигляр?». Так поэт Дмитрий Борисович Кедрин (1907–1945) в стихах 1936 года, сочиненных явно под влиянием концепции и тенденции тыняновского романа, изложил, конечно, с неминуемым упрощением, взгляд автора на своего героя.
Взгляд в свою очередь упрощающий, выпрямляющий, что, понятно, не может быть элементарным упреком в области литературы, знающей, скажем, окарикатуренного Наполеона в Войне и мире. «Грибоедов – замечателен», – писал Тынянову Горький, сознаваясь, что «не ожидал его встретить таким». И добавлял: впрочем, если даже таким «и не был – теперь будет».
Стал ли – тем более навсегда? Сомнительно. Скорей воплотил самосознание советского интеллигента Ю. Н. Тынянова, выразил драму близкой ему среды, очертил характер его времени, оставив другим писателям, другим поколениям право воспринять грибоедовскую личность иначе. Как, допустим, и личность императора Павла, героя уже поминавшегося рассказа Подпоручик Киже.
В основе его, снова напомним, анекдот эпохи павловского правления о писарской оплошке, из-за которой слова приказа о присвоении чинов: «Прапорщики ж такие-то в подпоручики» преобразились в «Прапорщик Киж…». А уж Павел по внезапной прихоти начал повышать несуществующего Кижа – у Тынянова Киже – в поручики, в капитаны, вплоть до полковника. Когда же захотел повидать столь обласканного им офицера, подчиненные, не посмевшие открыть правду, доложили, «что полковник Киж умер. – Жаль, – сказал Павел, – был хороший офицер».
В рассказе: «У меня умирают лучшие люди».
Рассказ – о страхе, который при тиране-царе истребил все, помимо себя самого: способность Павлова окружения говорить царю правду, способность самого Павла отличать реальность от нереальности, способность самой реальности жить по своим законам. Сходство со все ужесточавшимся к началу 30-х большевистским режимом очевидно – даже если и не для всех, что дало рассказу возможность пройти сквозь цензуру, – и не зря автор книги о Тынянове Аркадий Беликов, считавший себя не критиком и литературоведом, а «политическим писателем», воспользовался Подпоручиком Киже, дабы вывести «формулу самовластия», в которой читатели 60-х годов угадывали групповой портрет современного им режима и тех, на ком режим держится: «…Для самодержца… „лучшие люди“ – это такие, которые лишены личных, характерных человеческих свойств, лишены своеобразия, индивидуальности, характера. Такие люди делают быструю карьеру и становятся генералами Киже».
Вероятно, тайный тыняновский замысел тут понят верно, тем более в свете устоявшейся традиции видеть в краткой эпохе Павла исключительно безумие, самодурство, абсурд. Однако разве сомнение в существовании единой, конечной, непререкаемой истины (на каковом сомнении настаивает и постмодернизм, пусть договариваясь до крайности, до «заведомой пародийности любых утверждений») не способно предложить и другой вариант сюжета?
Если учесть, что тот же Павел, к своему восшествию на престол, несомненно уже полубезумный, был тем не менее незаурядно умен и, взойдя на трон, принял немало разумных, даже мудрых решений, отчего бы не истолковать анекдот иначе? Например: вся ситуация создана императором намеренно.
Да, он не может не знать о своей репутации, как о нраве своих подданных, правда, не предвидя в них своих будущих убийц, и вот – предположим – решил проверить их честность и прямоту. Повышает и повышает в чинах нуль, пустое место, описку и ждет, когда же иссякнет холопская терпеливость. Когда наконец сознаются, что нет никакого Кижа.
Не сознаются. Тогда наступает долгожданный момент разоблачения: «Вызвать сейчас ко мне». Теперь, то есть, не вывернутся, принесут свою повинную голову… Выворачиваются! И: «Жаль, был хороший офицер», – говорит Павел, прямо глядя в светлые глаза лгущего. Возможно, произносит с нажимом: «был»: дескать, он-то был лучше вас, потому что хотя бы не имел возможности лгать.
Конечно, дело совсем не в том, что все обстояло именно так. Хотя, с другой стороны, в рассказе есть эпизод, когда двое часовых сопровождают в ссылку пустое место (несуществующий Киже успел побывать и в немилости), а в Смерти Вазир-Мухтара престарелый солдат долгие годы бессмысленно сторожит опять-таки пустоту, дорогу: когда-то здесь был пост, но пост убрали, про часового забыв. Для Тынянова и для его толкователя Белинкова это еще одно проявление формалистики самовластья, достойное лишь обличения, – но совершенно противоположным образом по схожему поводу высказался умнейший государственник Бисмарк.
Пребывая в России послом и гуляя по Летнему саду, он увидел – опять! – часового, охраняющего неведомо что. Оказалось, еще Екатерина Великая, заприметив на этом месте ранний подснежник, повелела следить, дабы ничья грубая рука на него не покусилась. И что ж? Будущий железный канцлер нашел, что в этом отразилась «примитивная мощь, устойчивость и постоянство, на которых зиждется сила того, что составляет сущность России в противовес остальной Европе». Сущность союзника – или противника – загадочного и мощного…
Тыняновым такой вариант, разумеется, не рассматривался – прежде всего и именно как вариант, как допуск, что мог быть не такой Павел, другой Грибоедов (вот и Горького переубедила тыняновская уверенность). В этом его художественная индивидуальность. В этом веление его безвариантного времени, так отличающееся от веления или, лучше сказать, разрешения, данного временем либерализации. Что способствовало появлению новой прозы Юрия Давыдова, к которой он постепенно шел сам, ведомый энергией восстановления, приближения к полноте исторического знания – при понимании, что она недостижима.
Коли так, возможно ли было обойтись без всего, что составляет отличку Бестселлера или Заговора сионистов и что – хотя бы по внешним признакам, может быть, только по ним – напоминает о принципах постмодернизма, в первую очередь об отсутствии самоуважительной серьезности?..
Конечно, у тенденциозности (вершины ее – Лев Толстой, Достоевский, не говоря о Солженицыне) столько же преимуществ и опасностей, сколько у непредвзятости, чья крайность – легкомысленная самодостаточность. Отчего речь уж никак не может идти о некоем пути вверх, «от Тынянова к Давыдову». Но само меняющееся время толкает иначе глядеть на роль и возможности писателя в постижении пресловутой «первой реальности», как и «второй», к которой относится и история, подобно искусству, не существующая без вымыслов, слухов, догадок.
То, что движение времени и литературы незагаданно запечатлелось в противостоянии двух типов исторической романистики, – наша удача: такая словесность лишена необходимости утопать в злобе дня, по природе своей поднимаясь над ней, отстраняясь от нее. Даже когда – да и бывает ли иначе? – связана с современностью, приникая к ней или полемически отталкиваясь от нее.
Не случайность, а закономерность – то, что Юрий Давыдов в Зоровавеле из всей биографии Кюхельбекера выбрал, как сказано, вынужденный перерыв, заточение, вдруг осознаваемое как передышка. Да ею и ставшее: герой переводит не дух в физическом смысле, а Дух как сознание, как co-знание, со-общение с высшим смыслом, недоступным ему прежде в годы активной деятельности. Переводит из сфер действия в сферу внутренней свободы, в сферу самопознания, каковой путь совершал у Давыдова и Глеб Успенский (Вечера в Колмове, 1988), особо заинтересовавший писателя в безысходном одиночестве, в предсмертной «психушке». И даже богатырь-революционер Герман Лопатин, чем дальше, тем более углубляющийся в самопознание.
Можно сказать, что эта, такая передышка – нечаянный образ того состояния, которое само время предложило выбрать и предпочесть российской словесности 90-х годов XX века и начальных лет XXI, – чтобы она, словесность, могла обрести новое качество, не топчась на освоенной некогда и навсегда оставленной территории. Но разве же и эстетика так называемого постмодернизма, как-никак вызванная к жизни именно временем, – и она, освободившись из тупика самоцельности-самоценности, не может способствовать созданию новой литературы?
Тем более, такое – бывало. Случалось, что система новой, нарождавшейся поэтики «нуждалась в контрастах и сама их создавала… Литература, стремящаяся к строгой нормализации, нуждается в отверженной неофициальной словесности и сама ее создает».
Это – не о Кибирове, Пригове и Сорокине; это Юрий Лотман вспоминает начало XIX века, когда сталкивались «архаисты» и «новаторы», «шишковисты» и «карамзинисты». Шло или готовилось обновление литературы, что привело, ни много, ни мало, к появлению Пушкина: «Если литературные враги давали карамзинистам образцы „варварского слога“, „дурного вкуса“, „бедных мыслей“ (как „сталинский роман“ все это дает Владимиру Сорокину. – Ст. Р.), то „галиматью“, игру с фантазией, непечатную фривольность и не предназначенное для печати вольномыслие карамзинисты создавали сами».
Среди различий меж тем, что было тогда, и тем, что – сегодня, главное таково. Творимая карамзинистами, молодым Пушкиным – в их числе, «неофициальная словесность», «галиматья» имела характер не то чтоб подсобный (такой прагматизм претил литературному сознанию той счастливой поры), но была, если представить оптический нонсенс, веселой, узорчатой, шаловливой тенью «серьезной» словесности. Спасая ее от педантизма. Той «неофициальной словесности» не было смысла говорить словами из пьесы Евгения Шварца: «Тень! Знай свое место». Та «галиматья» не собиралась занимать собой все пространство, будучи и оставаясь важнейшим симптомом рождения литературы, которую нынче называем великой.
Когда подобное произойдет и сегодня, вот тогда в самом деле наступит конец того, что зовется «советской литературой» – со всем замечательным и плохим, что в ней было. Родится такая литература, чьи просторы пока еще недоступны современному взору. Можем только гадать и надеяться.
Библиография
АННЕНКОВ Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. В двух томах. – М., 1991.
БЕЛКИНА М. И. Скрещение судеб. Попытка Цветаевой. Попытка сына ее Мура, дочери Али. Встречи и невстречи. – М., 1999.
БОЛЬШАЯ ЦЕНЗУРА. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956. Документы. Составитель Л. В. Максименков. – М., 2005
БОРЩАГОВСКИЙ А. М. Записки баловня судьбы. – М., 1991.
БРОДСКИЙ И. А. Большая книга интервью. – М., 2000.
В. Маяковский в воспоминаниях современников. – М., 1963.
ВИЛЬМОНТ Н. Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. – М., 1989.
Воспоминания о Бабеле. – М., 1989.
Воспоминания об А. Н. Толстом. – М., 1982.
Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. – М., 1963.
Воспоминания о Корнее Чуковском. – М., 1977.
Воспоминания о Михаиле Булгакове. – М., 1988.
Воспоминания о Михаиле Зощенко. – СПб, 1995.
Воспоминания о Николае Глазкове. – М., 1989.
Воспоминания о Юрии Олеше. – М., 1975.
Воспоминания о Ю. Тынянове. – М., 1983.
ГАЛИЧ А. А. Генеральная репетиция. – М., 1991.
ГЕРШТЕЙН Э. Г. Мемуары. – СПб, 1998.
ГЛАДКОВ А. К. Встречи с Пастернаком. – М., 1990.
Горький и советские писатели. Неизданная переписка. – М., 1963.
ДАНИН Д. С. Время стыда. – М., 1996.
Дневник Елены Булгаковой. – М., 1990.
Евгений Винокуров. Жизнь, творчество, архив. – М., 2000.
ЕВТУШЕНКО Е. А. Строфы века. Антология русской поэзии. – М., 1994.
Житие сказочника. Евгений Шварц. Из автобиографической прозы. Письма. Воспоминания о писателе. – М., 1991.
ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. Огонь, мерцающий в сосуде… Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. – М., 1995.
Заклинание добра и зла. (Александр Галич. О его творчестве, жизни и судьбе рассказывают статьи и воспоминания друзей и современников, а также истории и стихи, которые сочинил он сам.) – М., 1992.
КАВЕРИН В. А. Эпилог. – М., 1989.
КАРАБЧИЕВСКИЙ Ю. А. Воскресение Маяковского. – М., 1990.
КОНЕЦКИЙ В. В. Эхо. Вокруг и около писем читателей. – СПб, 1998.
КУДРОВА И. В. Путь комет. Жизнь Марины Цветаевой. – СПб, 2002.
ЛАЗАРЕВ Л. И. Память трудной годины. Великая Отечественная война в русской литературе. – М., 2000.
ЛАЗАРЕВ Л. И. Шестой этаж, или Перебирая наши даты. Книга воспоминаний. – М., 1999.
ЛАКШИН В. Я. Новый мир во времена Хрущева. Дневник и попутное (1953-64). – М., 1991.
ЛИБЕДИНСКАЯ Л. Б. Зеленая лампа и многое другое. – М., 2000.
ЛИПКИН С. И. Квадрига. Повесть. Мемуары. – М., 1997.
ЛИТВИНОВ В. М. Вокруг Шолохова. – М., 1991.
Лицо и маска Михаила Зощенко. – М., 1994.
МАНДЕЛЬШТАМ Н. Я. Воспоминания. – М., 1989.
МАНДЕЛЬШТАМ Н. Я. Вторая книга. – М., 1990.
МАНДЕЛЬШТАМ О. Э. Слово и культура. – М., 1987.
МАРИЕНГОФ А. Б. Роман без вранья. Циники. Моя молодость. – Л., 1988.
МЕТТЕР И. М. Воспоминания / В кн.: Не порастет быльем. – Л., 1989.
МИХАЛКОВ С. В. Я был советским писателем. – М., 1995.
НАГИБИН Ю. М. Дневник. – М., 1996.
Об Анне Ахматовой. Стихи. Эссе. Воспоминания. Письма. – Л., 1990.
ОЛЕША Ю. К. Книга прощания. – М., 1999.
ОЛЕША Ю. К. Ни дня без строчки. Из записных книжек. – М., 1965.
ПАСТЕРНАК Е. Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. – М., 1989.
Первый Всесоюзный съезд Союза советских писателей. 1934. Стенографический отчет. – М., 1990.
РАССАДИН С. Б. Булат Окуджава. – М., 1999.
РАССАДИН С. Б. Очень простой Мандельштам. – М., 1994.
РАССАДИН С. Б. Самоубийцы. – М., 2002.
Русские писатели 20 века. Биографический словарь. – М., 2000.
РЫБАКОВ А. Н. Роман-воспоминание. – М., 1997.
САМОЙЛОВ Д. С. Памятные записки. – М., 1995.
САРНОВ Б. М. Случай Эренбурга. – М., 2004
Сергей Есенин в стихах и в жизни. Воспоминания современников. – М., 1995.
СИМОНОВ К. М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. – М., 1988.
СМЕЛЯНСКИЙ А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. – М., 1989.
СОЛЖЕНИЦЫН А. И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. – М., 1996.
С разных точек зрения: Жизнь и судьба Василия Гроссмана. – М., 1991.
СТРУВЕ Н. А. Осип Мандельштам. – Лондон, 1990.
ХОДАСЕВИЧ В. Ф. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. – М., 1996.
Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. Сборник текстов и материалов. – М., 1989.
ЧУДАКОВА М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. – М., 1988.
ЧУКОВСКАЯ Л. К. Записки об Анне Ахматовой. В трех томах. – М., 1997.
ЧУКОВСКАЯ Л. К. Процесс исключения. – М., 1990.
ЧУКОВСКИЙ К. И. Дневник 1901–1929. – М., 1997.
ЧУКОВСКИЙ К. И. Дневник 1930–1969. – М., 1997.
ЧУКОВСКИЙ К. И. Современники. Портреты и этюды. – М., 1967.
ЧУКОВСКИЙ Н. К. Литературные воспоминания. – М., 1989.
ЧУПРИНИН С. И. Крупным планом. Поэзия наших дней: проблемы и характеристики. – М., 1983.
ШВАРЦ Е. Л. Телефонная книжка. – М., 1997.
ШЕНТАЛИНСКИЙ В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. – М., 1995.
ШЕШУКОВ С. И. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов. – М., 1984.
ШКЛОВСКИЙ В. Б. Гамбургский счет. Статьи – воспоминания – эссе. – М., 1990.
Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. – М., 1973.
ЭРДМАН Н. Р. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. – М., 1990.
ЭРЕНБУРГ И. Г. Люди. Годы. Жизнь. В трех томах. – М., 1990.