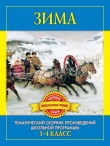Текст книги "Советская литература: Побежденные победители"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Впрочем, ведь и трезвейший Липкин, оставивший о Мандельштаме обстоятельные воспоминания, предпочел миф, воспроизводящий один из слухов о его лагерной судьбе, – о нем, читавшем (прямо сцена из Шиллера! Из Гюго!) блатным сонеты Петрарки по-итальянски: «За последнюю ложку баланды, / За окурок от чьих-то щедрот / Представителям каторжной банды / Политический что-то поет. / Он поет, этот новый Овидий, / Гениальный болтун-чародей / О бессмысленном апартеиде / В резервацьи воров и блядей» (Молдавский язык (1962)). Не чересчур ли красиво по сравнению с тем, что вспомнил солагерник Мандельштама? «…Я заметил, что бьют какого-то щуплого маленького человека… Спрашиваю: „За что бьют?“. В ответ: „Он тяпнул пайку“. Я спросил, зачем он украл хлеб. Он ответил, что точно знает, что его хотят отравить… Кто-то сказал: „Да это сумасшедший Мандельштам!“». Но, как видно, не зря в своей прозе, в повести Декада (1983), Липкин скажет: «Врут учебники, врут газеты, только миф – правда». Поэт хочет воспринимать поэта лишь в области мифа, на уровне мифа, синоним которого – искусство.
Итак, «не всегда мне ясные», – сказал тот же Липкин об опорах поэтики Мандельштама, тут же, однако, невольно предложив ключик к «шифру». Вспомнив и прокомментировав строки из Камня: «У Чарльза Диккенса спросите, / Что было в Лондоне тогда: / Контора Домби в старом Сити / И Темзы желтая вода». «…Дальнейшие строки этого раннего стихотворения, – таков комментарий, – вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса… но все стихотворение в целом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию…».
Так и есть. «Скорее… восприятие», – но важно, чье именно. Покуда – «наше». Не сугубо индивидуальное, а соборное, что вообще характерно для Камня, книги, конечно, уже отмеченной мандельштамовским своеобразием, но населенной образами русской истории, архитектуры, литературы, в той или иной степени зримыми для всех, внятными всем. Но далее Мандельштам, уходя от своей – нет, повторим: «нашей» – смысловой ясности, заберется в дебри и кущи, из которых не всегда сыщешь выход. Что не означает, будто его нет.
Возьмем Ласточку, стихотворение из Tristia, содержащее самую, пожалуй, невнятную из процитированных нами строк. «Я слово позабыл, что я хотел сказать. / Слепая ласточка в чертог теней вернется / На крыльях срезанных, с прозрачными играть. / В беспамятстве ночная песнь поется». И – то самое: «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, / И выпуклую радость узнаванья. / Я так боюсь рыданья Аонид, / Тумана, звона и зиянья». «Аониды» ничуть не загадочны; это – музы. Но что означают три последних слова в стихах, полных ужаса неуслышанности, непонятости, невоплощенности, где и Стикс, река в царстве мертвых, и загробная тишина («Не слышно птиц. Бессмертник не цветет»)?
«Туман» (начинаем догадываться) – то, что застилает взор? Возможно. Или туман забвенья, предсмертный туман – в любом случае то, чьи эмоциональные границы достаточно определены. «Зиянье»? Но уж это образ, с детства мучивший Мандельштама: «Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья и между мною и веком провал, ров…». Наконец, «звон». Погребальный? Может быть. Но дело в том, что все эти догадки необязательны.
Соображаем, дочитав стихи и продолжая в них вслушиваться. Это самое слово, «звон», по звучанию своему – как бы срединное, связующее «туман» с «зияньем». В его «з» и «н» еще откликается «туман»[4]4
Подчеркнутые буквы выделены болдом (прим. верстальщика).
[Закрыть] и уже нарождается «зиянье». И вдруг оказывается, что именно это слово, логическое обоснование которого в данном контексте наиболее зыбко, предположительно, – оно и завладевает строкой. Череда согласных, не считая, понятно, глухого начального «т», создает словно бы физически ощутимую иллюзию звона: м-н-з-в-н-з-н… Мы слышим, почти осязаем, как этот неясный для нас «звон», слово, которое вместе с эмоционально значимыми словами «туман» и «зиянье» вправлено, вплавлено в неразделимый, только в этом соединении и существующий ряд, – это слово тем самым ушло, отключилось от своего прежнего словарного значения. А мы начисто избавлены от необходимости гадать, что ж это, наконец, за звон, погребальный или благовествующий. Важно одно: слово обрело особую жизнь внутри стиха.
А дальше… Дальше Мандельштам, оставив позади поэтику Камня, открытую всем или многим, обретя в книге Tristia способность создавать, как сказал о нем Юрий Тынянов, «новый смысл», идет и приходит в конце концов к ясности. К гармоничности. Даже – к простоте. Но уже не к «нашим», а опять-таки только и исключительно к своим. Приходит к Ламарку. К Щеглу. К Батюшкову (1932), где набросан несомненный автопортрет, – недаром Н. Я. Мандельштам говорила автору этой книги, что, если б нашла «Оськину» могилу, то написала бы на надгробной плите две строки из этого стихотворения: «Только стихов виноградное мясо / Мне освежило случайно язык».
Хотя значимы – именно в смысле косвенного выражения собственной сущности – и другие строки из Батюшкова, о Батюшкове: «Наше мученье и наше богатство, / Косноязычный, с собой он принес / Шум стихотворства и колокол братства / И гармонический проливень слез».
Колокол братства!..
Не должно показаться чрезмерно назойливым замечание, что помянутый демократизм как решительное отсутствие снобизма, как стыдливость от сознания своей элитарности и стремление быть непременно понятым («Читателя! советчика! врача! / На лестнице колючей разговора б!» – не просьба, а вопль Мандельштама) вообще природное свойство русской словесности.
Правда, у Марины Цветаевой сам образ ее одиночества и бездомности, навеянный пока что еще безмятежным зрелищем еврейского квартала в Праге («Гетто избранничеств! Вал и ров… / В сем христианнейшем из миров / Поэты – жиды!») будет до очевидности горделив. Ведь гетто – «избранничеств», а не «изгнанничеств», такое, на которое – даже притом, что избранность часто приводит к изгойству, – жаловаться столь же бессмысленно, как на само по себе поэтическое призвание. Потому соборный портрет неизбранных, тех, кто за валом и рвом, может быть исступленно презрительным: «Кто – чтец? Старик? Атлет? / Солдат? – Ни черт, ни лиц, / Ни лет. Скелет – раз нет / Лица: газетный лист! / Которым – весь Париж / С лба до пупа одет. / Брось, девушка! / Родишь – / Читателя газет» (Читатели газет, 1935). И за что это презрение? К кому? К людям, у которых нет сил и потребности поднять глаза выше газетного листа? Только за это?..
Дурной тон – умиляться простоте и демократизму великих, как несправедливо видеть и в цветаевской инвективе «обывателю» одно лишь высокомерие, а не боль. И все же когда Ахматова с удовольствием рассказывает, как больничная санитарка сказала ей: «Ты, говорят, хорошо стихи пишешь», пояснив, откуда такие сведения: «Даша, буфетчица, говорила», это не оторвать от строк 1961 года, взятых эпиграфом к Реквиему (1935–1940): «Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл, / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».
Общеизвестно: Цветаева и Ахматова – антитезы. Даже как бы предводительницы двух лагерей, сгруппировавшихся вокруг их мощных фигур, и Цветаева с неменьшим, чем Ахматова, правом (даже и большим, учитывая преобладание поэтесс-цветаевок, зараженных ее наркотическим влиянием) могла бы сказать словами ахматовской Эпиграммы (1958): «Я научила женщин говорить… / Но, Боже, как их замолчать заставить!».
Сказано – хотя бы наполовину – в шутку, и заставить замолчать хочется, понятно, не всех. Уж не Марию Сергеевну Петровых (1908–1979), одну из муз Мандельштама, вдохновившую его на создание, как считала ее подруга Ахматова, «лучшего любовного стихотворения 20 века» – Мастерица виноватых взоров… (1934). Впрочем, по суждению той же Ахматовой, и автора одного из шедевров лирики нашего времени: «Назначь мне свиданье на этом свете, / Назначь мне свиданье в двадцатом столетье» (1953). Не Наталью Васильевну Крандиевскую (1888–1963), к сожалению, – хотя кто, кроме нее, способен решить, надо ли тут сожалеть или радоваться, – за годы семейной жизни с Алексеем Толстым почти забросившую свой кроткий лирический дар. Правда, воспрянувший в результате разлуки. Не Ксению Александровну Некрасову (1912–1958), «Хлебникова в юбке», ни на кого не похожую ни в поэзии, ни в быту, где ее принимали за юродивую.
И т. д. – не обойдя Инны Львовны Лиснянской (р. 1928), поэтессы уникальной именно в том смысле, что она будто бы вознамерилась заполнить явственную пропасть между Цветаевой и Ахматовой. Цветаевка по открытости темперамента, имеющая право повторить за Цветаевой: «Я любовь узнаю по боли», Лиснянская прошла путь к Ахматовой как антиподу Марины Ивановны в отношении сдержанности в изъявлении чувств. Ушла от дисгармоничности, от безмерности к мере, к гармонии, не утратив внутреннего – до страсти, до дрожи – накала: «Я и время – мы так похожи! / Мы похожи, как близнецы, / Разноглазы и тонкокожи… / Ну, скажи, не одно и то же / Конвоиры и беглецы?! / …Преимущества никакого / Ни ему не дано, ни мне, / Лишены очага и крова, / Мы бежим, как за словом слово / В обезумевшей тишине» (1971).
Что касается «меры» и «безмерности», выглядящих как главные опознавательные знаки Ахматовой и Цветаевой, то это, во-первых, из цветаевской декларации Поэт (1923): «Что же мне делать, певцу и первенцу, / В мире, где наичернейший – сер? / Где вдохновенье хранят, как в термосе! / С этой безмерностью / В мире мер?!». Во-вторых, из комментария дочери Марины Ивановны Ариадны Эфрон, как раз и использовавшей стихи для контрастного сопоставления: «…М. Ц. была безмерна, А. А. – гармонична; отсюда разница их (творческого) отношения друг к другу. Безмерность одной принимала (и любила) гармоничность другой, ну, а гармоничность не способна воспринимать безмерность…».
Не совсем так. «Безмерность» как раз ревновала: посвятив в 1916 году Ахматовой сразу одиннадцать (!) восторженных стихотворений, после Цветаева охладевала и морщилась: «Старо, слабо». И куда точнее диагноз, поставленный цветаевской «безмерности» мужем Марины и отцом Ариадны Сергеем Эфроном (пусть он-то ведет речь о житейском, сетуя на измены жены): «М. – человек страстей… Отдаваться с головой своему урагану – для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни… Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда… вернее, всегда, все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживается скоро, М. предается ураганному же отчаянию».
Такая зависимость от своих гиперболических чувств, невыносимая для других, но прежде всего для себя, – суть цветаевской поэзии. «Воздух ее жизни», говорит Сергей Эфрон, хотя тут, скорее, его трагическая нехватка. «О черная гора, / Затмившая – весь свет! / Пора – пора – пора / Творцу вернуть билет. / Отказываюсь – быть. / В Бедламе нелюдей / Отказываюсь – жить. / С волками площадей / Отказываюсь – выть».
Повод для отчаяния конкретен: немецкая оккупация Чехословакии в 1939 году. Но готовность к отчаянию постоянна. Цветаева – истинная отказница, в которой всегда перевешивают страдание, отрицание, действительно безмерные. Вплоть до того, что двустишие, которое венчает собою стихотворение 1934 года Тоска по родине!..: «Но если по дороге куст / Встает, особенно – рябина…», – это потрясающее душу двустишие предварено тридцатью восемью строками, яростно отрицающими возможность тоски. Доказывающими, что она – «морока», да еще «давно разоблаченная»: «Не обольщусь и языком / Родным, его призывом млечным. / Мне безразлично, на каком / Непонимаемой быть встречным! /…Так край меня не уберег / Мой, что и самый зоркий сыщик / Вдоль всей души, всей – поперек! – / Родимого пятна не сыщет! / Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, / И все – равно, и все – едино…».
Лишь после этого: «Но если по дороге куст…».
Такая странная мысль: а если бы, не приведи Бог, сердце остановилось на тридцать восьмой строке, если бы рука не успела вывести тридцать девятую, – что бы тогда мы. сказали об этих стихах? Что они – утверждение бездомности и безродности?
Не сказали бы. Отрекаясь от родного языка, взять да и назвать его «млечным» (детское, сладкое воспоминание!) – значит явить тоску самым убедительным образом. И все же написанное до – воплощено, пережито. Даже и пережато, сгущено, сублимировано. Основная – не только по объему, по страстности – часть стихотворения посвящена отталкиванию, отторжению, дисгармонии.
Гармония, чтобы ее оценили, нуждается в контрасте – так Пушкин оттенялся трагическим Баратынским, скептическим Вяземским, буйным Денисом Давыдовым (не Дельвигом же, своей светлой тенью). Корней Чуковский, сказавший в статье 1921 года о «неумолимом аскетическом вкусе» Ахматовой, сделал это в сопоставлении с Маяковским. Мог бы – и с Цветаевой.
Больше того. Многолетняя недооценка поэзии Ахматовой имеет одной из причин (не главной, учитывая такую малость, как существование советской власти, но все же одной из них) как раз «гармоничность» и «меру»; опять-таки можно вспомнить позднего Пушкина, укачавшего «гладкостью» своих современников, каковые воспрянули с приходом искрометного Бенедиктова. Ведь не только же негодяй-критик Виктор Перцов сказал об Ахматовой уже в 1925-м: «Мы не можем сочувствовать женщине, которая забыла вовремя умереть». Двумя годами позже не кто-нибудь, а Евгений Замятин заявлял на пике собственного успеха, что если она «когда-то писала какие-то там стишки, то разве это настоящее, писательское? …Разве можно принимать ее всерьез?». Так что хамство Жданова и Постановление 1946 года Ахматову ударило, но не могло удивить.
Между прочим, Чуковский долго каялся, что помянутая статья Ахматова и Маяковский по его неосторожности – что, правда, в 1921-м предполагаться еще не могло – навредила Анне Андреевне. «Кому надо» запали в память слова критика:
«Похоже, что вся Россия раскололась теперь на Ахматовых и Маяковских. Между этими людьми тысячелетия. И одни ненавидят других.
Ахматова и Маяковский столь же враждебны друг другу, сколь враждебны эпохи, породившие их».
Разумеется, речь не шла о враждебности личной. Ахматова в 1940-м посвятила «горлану-главарю» почтительное стихотворение, правда, названием – Маяковский в 1913 году – подчеркнув, что имеет в виду его досоветского. «Владим Владимыч» любил в быту повторять ахматовские строки, хотя и маскировался иронией. Тем не менее – да, раскол очевиден, и в некотором, учитывая дальнейшее – не в политическом смысле, Ахматова по одну сторону пропасти, Маяковский и Цветаева – по другую.
В 1956 году, предваряя публикацию стихов Цветаевой в сборнике Литературная Москва и соблюдая тактическую осторожность, Эренбург объяснял причину ее эмиграции: «Ее восхищала вольница Степана Разина, но, встретившись с потомками своего любимого героя, она их не узнала».
Скорее, наоборот: узнала. Ужаснулась. И лишь потом, за границей, лишившись возможности узнавать, видеть в лицо, опять принялась фантазировать. Впрочем, «вторая реальность» у нее всегда подменяла первую – в точности как с возлюбленными, когда «все строилось на самообмане». Например, приключившаяся в 1934 году гибель ледокола Челюскин и спасение челюскинцев, катастрофа, вызванная советским шапкозакидательством, но превращенная пропагандой в триумф социализма, – даже это выглядело для Цветаевой доказательством, что на родине, вот где кипит настоящая жизнь: «На льдине (не то / что – черт его – Нобиле!) / Родили дитё / И псов не угробили… / И спасши (мечта / Для младшего возраста!) / И псов и дитя / Умчали по воздуху».
А потому: «Сегодня – да здравствует / Советский Союз!».
Стихи не по-цветаевски плохие, но «младший возраст», не могущий жить без лубочной романтики, – замечательная проговорка.
Ахматова всегда была взрослой. А «мера» и «гармония» – понятия, далеко выходящие за пределы одной лишь поэтики. Даже – за пределы одного лишь искусства.
Питерский прозаик и мемуарист, мастер рассказа Израиль Моисеевич Меттер (1909–1996) сравнил Ахматову, так много и так многих терявшую, с королем Лиром, отметив ее способность «все потерять – и остаться королевой». «Неторопливое величие духа», – формулирует он, вот чем она «заслонилась от оскорбительной беды». Да она сама в Реквиеме, словно легитимно-монаршим вердиктом, определяет место своего возможного памятника: «А если когда-нибудь в этой стране / Воздвигнуть задумают памятник мне, / Согласье на это даю торжество…».
Не королевский ли жест?
«…Но только с условьем – не ставить его / Ни около моря, где я родилась: / Последняя с морем разорвана связь, / Ни в царском саду у заветного пня, / Где тень безутешная ищет меня, / А здесь, где стояла я триста часов / И где для меня не открыли засов. / Затем, что и в смерти блаженной боюсь / Забыть громыхание черных марусь. / Забыть, как постылая хлопала дверь / И выла старуха, как раненый зверь».
Природная пушкинианка, поистине дитя гармонии, на которое дисгармония жизни навалилась в той степени, что и в страшном сне не могла привидеться ни Баратынскому-трагику, ни ипохондрику Вяземскому, Ахматова до конца осталась верна светоносной гармонии. И мало того.
Парадоксальным образом… Хотя что ж здесь за парадокс? Напротив, естественным образом для поэта – для такого поэта – сама бедственная судьба, сама трагическая реальность общего ада не перенастроили ее лиру, а обогатили нотами сострадания и сопричастности. Не сужая, а расширяя область любви. «Из-под каких развалин говорю, / Из-под какого я кричу обвала, / Как в негашеной извести горю / Под сводами зловонного подвала. / Я притворюсь беззвучною зимой / И вечные навек захлопну двери. / И все-таки узнают голос мой. / И все-таки опять ему поверят» (Надпись на книге, 1959).
Без кого народ не полный
В чем следует обвинить писателя, рассчитывая его уничтожить?
«Таких героев, которые были бы типичны, несли в себе основные черты характера советского народа, наиболее полно выражали сущность его, нет в романе За правое дело… Образы советских людей в романе За правое дело обеднены, принижены, обесцвечены». Цитата из статьи Михаила Бубеннова, как помним, не только одобренной, но практически заказанной Сталиным.
Советский народ – как многомиллионноголовое божество, которое никто не видел воочию, но каждый обязан воспринимать как нечто реальное и идеальное в то же время. Божество, чем невидимее, тем материальнее, – до такой степени, что его именем можно непосредственно миловать и карать: «Советский народ принял и полюбил такие произведения, как… Советский народ с гневом отверг…». И Гроссман, может быть, как никто, показавший человека на войне, подвергается гражданской казни, по случайности избежав физической, а его хулитель, бездарнейший романист Бубеннов читает о себе в день своего юбилея: «Его книги – художественная летопись истории борьбы и побед нашего народа».
Но вот что писал Мандельштам в своей уникальной, отчаянно-бешеной Четвертой прозе (1930): «У нас есть библия труда, но мы ее не ценим».
О чем речь? Понятно, что Мандельштам не мог иметь в виду ни гладковского Цемента, ни шагиняновской Гидроцентрали, вообще ни одного из производственных романов, и существовавших, дабы воспевать труд как главную функцию строителя коммунизма. А все же неожиданно: «Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова в Летнем саду».
Говоря о грязи, предвидел ли такую Осип Эмильевич? «Кто такой Зощенко?.. Пошляк… Его произведения – рвотный порошок… Возмутительная хулиганская повесть… Отщепенец и выродок… Пакостник, мусорщик, слякоть… Человек без морали, без совести». Тезисы доклада Жданова на собрании ленинградских писателей, где и Ахматова, как известно, была объявлена помесью «монахини» и «блудницы».
Сталин, чьи слова в адрес Зощенко, как утверждают, всего лишь воспроизвел его подручный, в 1931 году не столь экспрессивно, но отчетливо отозвался и о комедии Николая Эрдмана Самоубийца, совсем не случайно вспомнившейся в связи с Зощенко. «Пустовата и даже вредна», – в письме к Станиславскому (что, возможно, определило сдержанность тона) оценил комедию вождь. Впрочем, арест автора показал, что скорее – вредна.
Первая из двух знаменитых эрдмановских пьес, Мандат, была, как водилось тогда, антимещанской. То есть там было обо что уколоться бдительному цензору, – например, о реакцию на намерение героя вступить в большевистскую партию: «– А вдруг, мамаша, меня не примут? – Ну что ты, Павлуша, туда всякую шваль принимают», – но, в общем, звучал уверенный смех победителей. Как в комедиях Маяковского.
А Самоубийца… Вот небывалый случай, когда в пределах одного произведения происходит не просто преображение замысла (для творческого процесса – дело естественное), даже не кардинальный его пересмотр (тоже бывает, но, как правило, на уровне черновиков). Происходит постепенное восхождение автора на принципиально иной уровень миропонимания.
Семен Подсекальников, безработный обыватель, в начале – истерик, зануда, из-за куска ливерной колбасы выматывающий из жены душу; ничтожество, почти настаивающее на своем ничтожестве. И когда возникает идея как бы самоубийства, она – именно «как бы», фарсово почудившаяся перепуганной супруге. Да и фарс-то – фи! – грубоват. Подсекальников отправляется на кухню за вожделенной колбасой, а его стерегут у запертой двери коммунальной уборной, опасаясь, что он там стреляется, и тревожно прислушиваясь к звукам совсем иного характера.
Даже когда все повернется серьезней, когда затюканный мещанин допустит всамделишную возможность ухода из жизни, балаган не закончится. Разве что сарказм будет переадресован. Начнется огульное осмеяние тех, кто вознамерился заработать на смерти героя, самоутвердясь за его счет или надеясь получить политическую выгоду, – так называемых «бывших». Попа. Мясника-черносотенца. Писателя. «Гнилого интеллигента». И т. д. Не сказать, будто они прямо сошли с агитплакатов РОСТА (Российского телеграфного агентства), но – близко к тому. Когда в начале 80-х Сергей Михалков возьмется «оцензурить» комедию, дабы дать ей возможность появиться на сцене брежневского СССР, он, в согласии с собственной идеологией, но без чрезмерных насилий над текстом – в том-то и штука! – превратит эрдмановского писателя в подобие диссидента.
И вдруг начинает расти Подсекальников.
Сперва лишь в своих глазах: окруженный непривычным вниманием, он стремительно эволюционирует от самоуничижения к самоутверждению, оставаясь ничтожеством. Триумф – его телефонный звонок в Кремль: «Я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился». Но затем дорастает до монолога, который могла бы хором произнести вся русская литература, озабоченная сочувствием к «маленькому человеку»:
«Вот я стою перед вами, в массу разжалованный человек… Почему же меня обделили, товарищи? Даже тогда, когда наше правительство расклеивает воззвания „Всем. Всем. Всем“, даже тогда не читаю я этого, потому что знаю – всем, но не мне. А прошу я немногого. Все строительство ваше, все достижения, мировые пожары, завоевания – все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалованье… Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: „Нам трудно жить“. …Дайте нам право на шепот. Вы за стройкой даже его не услышите».
Смех побежденного… Не о Подсекальникове речь – ему вообще не до смеха, а о писателе, сполна, хотя и не сразу, вопреки собственному авангардно-революционному мировоззрению, осознавшем трагизм бытия. Но имеющем силу смеяться.
Словом, пьеса (где, кстати сказать, в момент, когда, кажется, уже невозможно взять нотою выше этого человеческого вопля, нота будет-таки взята и чистейший из интеллигентов покончит с собой: «Подсекальников прав. Действительно, жить не стоит»), – эта невероятная пьеса ухитрилась проделать такой путь. Сперва – водевиль с запахом балагана. Затем – трагифарс. В финале – трагедия. Созвучная, кстати, самоубийству Есенина: «…Но и жить, конечно, не новей». Значит, не стоит.
Имел ли этот обывательский бунт шанс пробиться на советскую сцену, даже если того добивался не один Мейерхольд, при всей своей революционной экзальтации всегда находившийся в подозрении, но и Станиславский, чья традиционность была формой политической респектабельности?
«Страшнее Врангеля обывательский быт», – сказал Маяковский. И в самом деле, Врангеля оказалось достаточным разбить единожды, а обывателю надо было постоянно обеспечивать «приличное жалованье». И то, чем жалованье можно отоварить: «Когда ему выдали сахар и мыло, / Он стал добиваться селедок с крупой. /…Типичная пошлость царила / В его голове небольшой».
Неблагодарный пайщик (1932) – называется четверостишие Николай Олейникова, и действительно, что за черная неблагодарность! Власть предоставляет «среднему человеку» паи в том, чем сама вправе гордиться: «строительство… достижения… завоевания», а он канючит про крупу и селедку. Являя преступную непеременчивость с тех времен, когда парижский плебс горланил накануне бонапартистского переворота: «Хотим режима, при котором едят!».
Неугомонный желудок обывателя не менее враждебен тоталитаризму, чем взыскующий дух интеллигента. И если невольный союз Духа и Брюха давно зафиксирован мировой литературой (как уравновешивающие друг друга, нуждающиеся друг в друге Дон Кихот и Санчо Панса, Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак), то в советских условиях этот союз, далеко не всегда осознаваемый, тем более со стороны Брюха, оказался сцементирован равным недоверием «пролетарского» государства. Чью неприязнь поспешили разделить и выразить писатели – чаще своекорыстно, но, случалось, и вполне искренне.
Как, к сожалению, Горький.
«Уже десятки раз, – писал он в статье 30-х годов, словно бы возражая Олейникову, о котором, конечно, был ни сном, ни духом, – воскрес в новых книгах старый знакомый Макар Девушкин и множество прочих „униженных и оскорбленных“, но страдающих не столько по Достоевскому, сколько потому, что „патоки – мало, яиц – мало, масла – мало“».
Такое пренебрежение к «обывателю» и «обывательщине» не было для Горького чем-то новым.
Да, конечно: «Человек – это звучит гордо». Или как в поэме Человек (1904): «Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений… вперед! и – выше! все – вперед! и – выше!». Человек, а точнее, сверхчеловек, по Ницше, чье могучее влияние испытал молодой Горький. Человек, а не люди. Свободная воля, свободный разум. Свободные – от чего?..
Вероятно, со времен Просвещения XVIII века в России не было столь исступленной веры в преображающую силу разума, стало быть, и в интеллигенцию (что так естественно для самоучки, ставшего едва ли не самым образованным или по крайней мере самым начитанным из литераторов своего времени). В антибольшевистских, антиленинских Несвоевременных мыслях (1917–1918) Горький пуще всего заступался именно за интеллигенцию, да и в некрологическом очерке В. И. Ленин (1924) еще продолжал воспевать ее, называя чуть не единственной движущей силой истории. Ее «ломовой лошадью».
И вот в 1932 году из-под его пера выходят строки: «Работа интеллигенции всегда сводилась – главным образом – к делу украшения бытия буржуазии… Нянька капиталистов – интеллигенция…» – и т. д., так что неудивительно было прочесть год спустя: «Мы знаем, как быстро она покрылась мещанской ржавчиной. Процесс Промпартии показал нам, как глубоко эта ржавчина разъела инженеров… То же случилось и с литераторами…».
«Вы арестованы», – скажет в финале пьесы Сомов и другие (1931) агент ГПУ кучке интеллигентов. При полном одобрении автора.
«Работа интеллигенции всегда сводилась…» – утверждает Горький, словно утратив память. Но в чем он был последователен, так это в неприязни к мужику: «Я плохо верю в разум масс вообще… Меня всю жизнь угнетал… зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций…». Это из того же очерка о Ленине, где интеллигенции покуда возносилась хвала, что ж до крестьян, то тут в самом деле – «всю жизнь». Например, когда в 1895 году, в рассказе Челкаш увидал мужика Гаврилу (чья жадность противна как всякая жадность, но рождена естественной крестьянской мечтой вложить деньги в хозяйство, отвоевав свою независимость) презрительным взором люмпена Челкаша, в котором, как в обитателях «дна», ему примерещилась сила свободного человека.
Такая, что и аморализм показался несущественным, неопасным, – и не та ли самая сила, освобожденная от «буржуазной морали», почудилась Горькому в Сталине? Даже если Алексей Максимович именовал Иосифа Виссарионовича «могучим человеком», «мощным вождем», а то и «великим теоретиком» не совсем искренне.
Хотя и искренность можно в себе искусственно возбудить.
Михаил Пришвин в 1941 году написал в дневнике, подытоживая судьбу Горького (и, заметим, это пишет тот, кому знакома мука компромисса): он «должен был представить собой народную совесть в согласии с государственным делом, как было это во время Дмитрия Донского с преподобным Сергием». Но «в отношении к государству литература стала совершенно бессовестной, готовой на все, что закажут и прикажут… Что же, спрашивается, после того, если подсчитать все, что сделал Горький, с точки зрения народной совести, герой он и мученик или же самозванец, получивший себе естественный конец?».
Ставя вопрос по-другому: «если подсчитать все, что сделал Горький» как писатель, то он все же «герой». Во всяком случае уж никак не «самозванец». Что же касается «точки зрения народной совести», то трагическая эволюция Горького не обошлась без воздействия его нелюбви к самому массовому человеку страны. К человеку, всецелую предназначенность для которого ощущал русский интеллигент, потому-то и оставаясь интеллигентом. Гневаясь на него, презирая – все-таки ощущал. Как Толстой. Как Некрасов. Как Чехов.
И – как Михаил Зощенко, которого, кстати, Горький нежно любил: значит, художник, влюбленный в искусство, на этот раз побеждал в нем идеолога? Да. Хотя ведь и Зощенко, казалось, уж так насмешничал над своими «средними людьми», еще называя их: «прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством». А «поступки» очень часто дрянные, и «беспокойство» – постыдное.