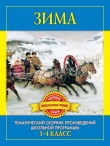Текст книги "Советская литература: Побежденные победители"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Поколение, которого не было
Для историков литературы естественно находить в каждой эпохе прежде всего нечто общее, не принимая во внимание ту малую малость, что пережить эту эпоху, не завязнув в ней навсегда, удается как раз тем литераторам, что и прежде вписывались в нее слабо. Пребывая будто бы на обочине.
Как, например, Олег Чухонцев. И дело не только в том или даже совсем не в том, что ему с трудом удавалось печататься, а первая книга, выразительно озаглавленная Из трех тетрадей, вышла лишь в 1976 году и действительно представляла собою наиболее приемлемые для цензуры отсевки трех жестоко просеянных книг. (Вдобавок Чухонцева на несколько лет вышвырнула из «литпроцесса» реакция на его Повествование о Курбском, напечатанное в 1968-м: бдительные надсмотрщики углядели в стихах поэта, вовсе не склонного к аллюзионности, сочувствие генералу Власову.)
Само литературное существование Олега Чухонцева было, хоть не подчеркнуто – самоутверждение не его грех, – но явно «штучным», и если тут неприменима метафора другого поэта, сказавшего о себе, что он – кактус, но с шипами, растущими внутрь, то лишь потому, что для Чухонцева кактус чересчур экзотичен. Его цветок – ваня мокрый, знакомый с павлово-посадского детства, и, главное сам он далек от демонстрации стихотворческих мук. Описав в стихотворении южного чистильщика сапог, маниакально поддерживающего свое природное сходство со Сталиным, и попытавшись проникнуть в его двоящееся сознание, он вдруг обнаруживает в комичном двойнике Генералиссимуса, странно сказать, собственного двойника: «Как непосильно быть самим собой. / И он, и я – мы, в сущности, в подполье, / но ведь нельзя же лепестками внутрь / цвести – или плоды носить в бутоне! / Как непосильно жить. Мы двойники / убийц и жертв». Но душа, пугливо прячущаяся в подполье, в то же время ищет выхода, воплощаясь во многих и многих, из которых, быть может, самое родственное воплощение – «питух и байбак» Дельвиг из ранних стихов: «Сидит мой двойник в полуночной тоске. / Холодная трубка в холодной руке. / И рад бы стараться – да нечем помочь, / уж больно долга петербургская ночь».
Незачем спрашивать, вписывается ли поэт, так выясняющий – в 1967 году – свои отношения с родиной: «Прости мне, родная страна, / за то, что ты так ненавистна. / Прости мне, родная чужбина, / за то, что прикушен язык. / Покуда подлы времена, / я твой поперечник, отчизна. / И все же прости, если мимо / пройду, приподняв воротник», – вписывается ли он, один из лучших поэтов своей эпохи, в ее общую картину, представленную книгой Петра Вайля и Александра Гениса 60-е. Мир советского человека (1996). Такую: «Целое поколение советских людей твердило как заклинание: „Ты спрашивала шепотом: „А что потом? А что потом?“ (Скандально нашумевшее в те целомудренные времени стихотворение Евтушенко.) Или: „Шестидесятники топили себя в бескрайнем море Романтики“, как, добавляют остроумные авторы, мигрирующие стадами грызуны-лемминги. „…Шестидесятники не окали и не акали, а объяснялись на усредненном говоре, восходящем если не к Хемингуэю, то к Гладилину…““».
Понятно: историкам близок закон больших чисел, особенно когда они пишут о малознакомом времени. Но и поэт, еще не вполне сознательно живший в 60-е годы, Евгений Иванович Блажеевский (1947–1999), склонен их мифологизировать, талантливо и лестно: «Веселое время!.. Ордынка… Таганка… / Страна отдыхала, как пьяный шахтер, / И голубь садился на вывеску банка, / И был безмятежен имперский шатер. / …А что еще надо для нищей свободы? – / Бутылка вина, разговор до утра… / И помнятся шестидесятые годы – / Железной страны золотая пора». Однако скорее приходится согласиться с кинодраматургом Анатолием Гребневым: «Кто пустил в оборот эту байку про либеральные 60-е годы?».
Действительно, кто? Кто отсеял как несущественное и нехарактерное судьбу и сознание «подпольщика» Олега Чухонцева? Или – Фазиля Искандера, на долгие годы отлучавшегося от печати и впервые издавшего свой лучший роман Сандро из Чегема в неурезанном виде в США (1979)? Тоже как бы подпольно. Или – Андрея Битова, чей роман Пушкинский дом смог появиться лишь там же – годом раньше искандеровского Сандро. Наконец, Владимира Максимова, эмигрировавшего во Францию в 1974-м и основавшего непримиримо антисоветский журнал Континент…
Это как раз тот перечень имен, который сразу опровергает представление о «шестидесятниках» как о некоей тесной общности. Хотя бы – или тем более – эстетической.
Максимов… Вот уж фигура, вообще не располагающая ни к включению ее хоть в какой-то единый и общий ряд, ни просто к мирно-спокойному к ней отношению. Например: «Дорогой Владимир Емельянович, – мягко увещевал его протопресвитер отец Александр Шмеман, выдающийся проповедник и богослов русского зарубежья. – …У Вас нет, очевидно, ни малейшего интереса к тому, кто мы, к нашему опыту, нашим мнениям да и просто к нашей жизни. Вы приехали нас учить… А так как Вы имеете дело главным образом с людьми, Вам поддакивающими… то Вы очень быстро и легко приходите к заключению, что учить, судить и рядить – не только Ваше право, но и священный долг. …За границей Вы делаете Ваши выборы моментально. Вы выбираете, конечно, тот лагерь, те группы, которые Вам кажутся наиболее „стойкими“, „прямолинейными“, „морально твердыми“, „бескомпромиссными“ и т. д. Все остальные тем самым оказываются слабыми, половинчатыми, изменническими…» А вот суждение куда более резкое: «Конфликт Максимова с Эткиндом – это не конфликт авторитариста с либералом, а конфликт жлоба с профессором, конфронтация Максимова с Синявским – это не конфронтация почвенника с западником, а конфронтация скучного писателя с не очень скучным. Разлад Максимова с Михайловым (Михайло Михайлов, югославский диссидент. – Ст. Р.) – это не разлад патриота с „планетаристом“, а разлад бывшего уголовника с бывшим политическим».
Даже не очень важно, в чем прав, в чем не прав (а, разумеется, есть и это) Сергей Довлатов, хотя здесь явственна как атмосфера дрязг, увы, свойственная нашей литэмиграции (и сам Максимов по характеру своему сеял их неутомимо), так и резкая личная неприязнь. В любом случае понятен и неизбежен эмоциональный накал разговора о максимовской личности, ей адекватный, ею органически провоцируемый. Личности контрастов и перепадов, какой была и судьба – сына репрессированного отца, беспризорника, ради неуловимости поменявшего имя, отчество и фамилию на ныне известные всем, обитателя колоний для малолетних преступников – и автора более чем советской книги стихов Поколение на часах (1956). Прозаика, ободренного Константином Паустовским, – и члена редколлегии в одиозно-официозном Октябре Всеволода Кочетова. Эмигранта, редактора Континента – и, с наступлением горбачевской перестройки, публициста, печатающегося в коммунистических и «патриотических» изданиях, грубо ругающего недавних близких друзей, например, Окуджаву. И – писателя, чей стиль часто надрывен, а уровень – вопиюще неровен: с одной стороны, драматургия и проза, слепленные неряшливо, будто наспех, но, с другой, роман Семь дней творения (1971), драматическая история крестьянского рода, многообразно испытавшего на себе все перипетии строительства социализма; роман, также эстетически неоднородный, в котором ярко выделяется одна из частей, Двор посреди неба.
Короче говоря, воплощенная дисгармония; воля, активизирующаяся не ради христианской любви, которая декларировалась Максимовым, сколько ради проклятия, обличения, отлучения, – чего стоит нашумевшая Сага о носорогах (1979), памфлет, если не пасквиль, чуть не на всех кумиров западной демократии. И какой же выходит наглядный контраст, притом, как нарочно, с писателем, которого неуемный Максимов не переставал чтить. С Фазилем Искандером.
В главе Пиры Валтасара из романа об абхазском лукавце дяде Сандро – впервые она появилась в отечественной печати лишь в перестроечную пору – Сталин слушает любимую с детства грузинскую песню, и она, фантазирует Искандер, сказочным образом освобождает душу бывшего Сосо Джугашвили. Он видит себя едущим на арбе, груженой корзинами с виноградом, и слышит крестьянский разговор о себе самом: «– Слушай, кто этот человек? – …Это тот самый Джугашвили… – Неужели тот самый? – …Да, тот самый Джугашвили, который не захотел стать властелином России под именем Сталина».
Почему не захотел? «…Крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить».
Пленительный искандеровский юмор. Его парадоксы, не являющиеся, как бывает, вывернутыми наизнанку общими местами, а гримасы жизни и человеческого сознания, словно всего лишь подсмотренные простодушным писателем. Его сарказм: черта с два «он» откажется от такой перспективы. Но прежде всего – островок гармонии, не искаженной даже сознанием свирепого персонажа.
Одной главой раньше отец Сандро, идеальный крестьянин Хабуг, затоскует перед неизбежностью вступления в «кумхоз» и вообразит невозможное: как он прорвется в кабинет к самому Большеусому – чегемская кличка Сталина – и расскажет ему о мужицких своих упованиях и несчастьях (совсем как Моргунок в Стране Муравии). «И тогда задумается Большеусый и скажет:
– Пожалуй, набедокурили мы с этим делом…
Только бы сказал такое Большеусый, уж мы бы для него постарались, уж мы бы его завалили нашим добром до самых усов».
Безумная, утопическая надежда? Утопическая – о да, но что же безумного в том, что народ творит свои легенды по своему же образу и подобию? В том, что он не имеет сил допустить, будто в самой страшной душе не осталось ничего человеческого? (Задавая эти вопросы, автор книги прекрасно помнит разделяемые им сомнения Льва Толстого насчет содержательности понятия «народ», да ведь и у Искандера – свой собственный, индивидуально-собирательный образ, олицетворенный Хабугом.) И потому воображенное погружение Сталина в гармонический мир крестьянствования, то, что в ином случае отыграло бы всего лишь роль язвительного контраста, – поэтично. Серьезно. Нормально.
Начав с обаятельных «черноморских» стихов, Искандер, только достигнув тридцати лет, стал записным прозаиком. Сразу обратил на себя внимание рассказами. Прославился повестью Созвездие Козлотура (1966), потом удивил, выступив в жанре притчи-антиутопии Кролики и удавы (первая публикация в США, в 1982-м), не переставая долгие годы писать – почастно, поглавно – свою вершинную книгу, абхазский эпос Сандро из Чегема, о частично реальной, частично полуреальной стране Утопии. Из-за чего его можно признать писателем уникальным – что не комплимент, но констатация очевидного факта.
Если в своей истории XX век – век разломов и революций, за которыми, как правило, следует разочарование в революционном пути, то в литературе он – век антиутопий. Того рода словесности, который изображает, а по сути – сулит человеку и человечеству наихудшую из перспектив. Безысходную деградацию. Вспомним замятинский роман Мы, Чевенгур и Котлован Андрея Платонова, Роковые яйца Булгакова. Но и в мировой литературе: Машина времени Уэллса, Железная пята Джека Лондона, Война с саламандрами Чапека, 1984 Оруэлла… Список почти бесконечен.
А Искандер создает сразу две утопии.
Первая, как сказано, роман о Сандро, горный Чегем, ныне исчезнувший, как Атлантида, да, впрочем, и вообще такой же миф или полумиф, как помянутый загадочный континент. Причем Утопия здесь – не синоним чего-то безоблачно-благостного. Напротив: если в отдельных главах Сандро мир еще целен, юмор – прекраснодушен, то в других он сдвинут, искажен, обезображен войной, враждой, «кумхозом», новейшими бедами, а в романе Человек и его окрестности (1992) и повести Софичка (1995) вовсе лежит в развалинах. Словом, как Искандер скажет в стихах: «Я улыбаться учил страну, но лишь разучился сам» (правда, отчасти возведя на себя напраслину: не разучился, коли уж «антиутопические» Кролики и удавы искрятся юмором). Но видно, как формы народной жизни, корежась, словно в огне пожара, все же сохраняют свои очертания, противостоят насилию над собой.
Вторая утопия – рассказы о мальчике Чике, о собственном детстве, периоде не менее преходящем, чем мир патриархального Чегема; можно сказать, и не менее мифологизированном.
Мальчик, Который Не Хотел Расти – таков самый известный в мире символ несдающегося детства, полуангел Питер Пэн, придуманный англичанином Джеймсом Барри. Чик, топчущий босыми ногами твердую почву своей родины, не только хочет расти, как всякий нормальный ребенок, но у него, в чем ему подобен и его автор, нет демаркационной линии между детским и взрослым в их представлении о мироустройстве. Он, чьи приключения бесхитростно обыденны (завоевание лидерства в дворовой компании, страхи, удачи, соблазны любого нормального детства), – выражаясь тяжеловесно, словно целое производство по гармонизации мира. Точно так же как крестьянин Хабуг. Обоими разно, но равно руководит инстинкт духовного самосохранения, то, что если не выше ума – разумеется, нет, – но основательнее, первоначальнее его…
Последнюю оговорку тем более стоило сделать, дабы в попытках определять своеобразие того или иного писателя избегать идентификации по внешним признакам. Так, к примеру, об Андрее Битове говорят то, чего не скажут об Искандере: «самый интеллектуальный писатель поколения», что как оценочность несправедливо по отношению к иным из коллег-сверстников и, главное, смазывает характеристику самого Битова.
В одной из его лучших книг, Уроки Армении (1969), есть эпизод: автор сообщает, что пишет читаемые нами строки в библиотеке, «чтобы заполнить пустое место» в своей рукописи. В руках у него книга, «в ней пятьсот страниц, у меня два часа времени…».
Строки, способные и шокировать: эта книга, Геноцид армян в Османской империи, – одна из самых страшных в мире, что подтверждают две леденящих сердце выписки, сделанные Битовым. А тут: «пустое место… два часа времени…». В другой ситуации следовало бы спросить: куда он спешит? И нужно время, чтобы понять: являясь в конкретнейшем случае, возможно, душевной неуклюжестью, в то же время это и проявление характерной черты Битова. В его прозе важен не столько материал сам по себе, сколько структура вещи. Ее формообразование. Ее, так сказать, самострой – не зря жив тот раз, пробыв в Армении всего несколько дней, Битов сочинил объемистую книгу, насытив ее своими ассоциациями.
Начинал он, впрочем, достаточно традиционно (сборник рассказов Большой шар, 1963), разве что, как говорят, выделялся среди сверстников «экзистенциальностью», – в данном случае понимай: асоциальной устремленностью во внутренние переживания героев. Хотя, что касается утверждения: «выделялся», это опять-таки не совсем так. А Фридрих Наумович Горенштейн (1932–2002)? А тот же Фазиль Искандер? Но затем Битов постепенно и прочно обретал и обрел свое истинное своеобразие.
Битов – комментатор себя самого, своих фабул; в его книгах интеллектуализм перестал восприниматься и быть одним из свойств прозы (отчего до нелепости странно звучит «самый интеллектуальный» – самый умный?). Он стал самодостаточен, иногда самоделен; эрудиция Битова, его несомненный личностный ум и иные превосходные качества стали выявляться более непосредственно, порою вовсе и не притворяясь «художественной прозой». Скажем, примерно так же, как у любимого Битовым – и влиявшего на него – Набокова, в романе Дар одна из глав представляет собой биографию Чернышевского, хоть и приписанную авторству персонажа, но такую, какую написал бы от своего лица сам Набоков, – так в Пушкинском доме герой романа Лева Одоевцев пишет исследование о Тютчеве, которое Битов опубликовал в журнале Вопросы литературы.
Смесь собственно прозы с культурологией, приправленная литературной игрой, – это дало возможность двум литературоведам, уже цитированным в этой книге, написать на своем профессиональном жаргоне: Битов «задолго до философов постмодерна… выявил симулятивный характер советской ментальности, симулятивность советской культуры, то есть доминирование фантомных конструкций». Хотя, возможно, проще и вернее сказать: не зараженный теми иллюзиями, что приписываются всем «шестидесятникам» сплошь (как и Искандер, как – с определенного момента – Максимов), Битов по-своему продолжает ту традицию русского эссеизма, которая в прежние времена была явлена Герценом и Достоевским в его Дневнике писателя, Розановым и Константином Леонтьевым, а в советские блестяще продолжена Цветаевой, Пастернаком, Шкловским, Олешей…
Слегка подытожим: уже обращение к трем прозаикам, близким по возрасту и тем паче по времени их вхождения в литературу, свидетельствует о следующем. Само понятие «шестидесятники», невзначай пошедшее в ход от заглавия одноименной статьи автора этой книги (журнал Юность, декабрь 1960 года, точно перед наступлением 60-х), лишь по ошибке трактуется как обозначение определенного, да еще и единого, поколения. Как раз в этом смысле «шестидесятников» – не было. «Шестидесятники» – это псевдоним самого по себе времени, объединявшего своими надеждами, допустим, и старика Паустовского, и фронтовика Окуджаву, и дитя войны Евтушенко.
Объединившего временно и некрепко: эйфория – материал ненадежный.
Речь, естественно, не о бытовых ссорах и личных разрывах, а о невозможности составить собою эстетическую целостность. «Нас много. Нас, может быть, четверо…» – переиначивал Вознесенский строку Пастернака: «Нас мало. Нас, может быть, трое…», тем самым, по выражению критика Ирины Винокуровой, «находчиво манифестируя новоявленное содружество поэтов, названных „поэтами эстрады“». Однако сам состав этой четверки понимается то так, то этак: что первые трое – сам Вознесенский, Ахмадулина и Евтушенко, сомнения не вызывает, но кто четвертый? Рождественский? Окуджава?
Так или иначе, «именно в этой связке, – говорит тот же критик, – …входила в литературу Ахмадулина, хотя, кроме врожденного артистизма, антисталинистских убеждений и, разумеется, молодости – общего между ею и тремя остальными поэтами по сути и не было». Но его не было и между остальными тремя, какие имена тут ни подставляй.
Что касается Ахмадулиной, то в одной из недоброжелательных рецензий на ее книгу в качестве улики – притом самообличительной – была предъявлена строчка: «…Привычка ставить слово после слова». Однако, не говоря уж о том, что в строке явственна самоирония, достойна ли осмеяния сама по себе раз навсегда выбранная поэтическая манера?
«О ряд от единицы до пяти! / Во мне ты вновь сомнения заронишь. / Мой мальчик, мой царевич, мой звереныш, / не доверяйся этому пути! / Душа твоя звериная чиста. / Она наивна и несовременна. / Длина твоих ушей несоразмерна / внезапной лаконичности хвоста»… Не сразу и сообразишь, что это вовсе не стихотворение Ахмадулиной, а пародия на Ахмадулину, сочиненная Юрием Левитанским с опорой на известный стишок: «Раз, два, три, четыре, пять! / Вышел зайчик погулять». Пародия, но не содержащая сатирического запала, сама словно попавшая в плен к обаянию поэтессы. Поистине дружеский шарж, не слишком и отличимый от того, чему приходилось-таки выходить из-под ахмадулинского пера: «Хвораю, что ли, – третий день дрожу, / как лошадь, ожидающая бега. / Надменный мой сосед по этажу / и тот вскричал: / – Как вы дрожите, Белла! / Но образумьтесь! Странный ваш недуг / колеблет стены и сквозит повсюду. / Моих детей он воспаляет дух / и по ночам звонит в мою посуду». Или – тем более: «Благоволите, сестра и сестра, / дочери Елизавета и Анна, / не шелохнуться! / О, как еще рано, / как неподвижен канун волшебства!».
Принимай или нет ахмадулинский способ изъяснения, но дело не в нем самом, а в том, идет ли здесь «игра в игру» (цитата из той же пародии), и тогда – да, манера оборачивается манерностью. Или же причудливая до того, что ее легко пародировать, витиеватость слога опирается на реальность переживания, и тогда рождаются лучшие строки Ахмадулиной: «Впадает бабка то в болезнь, то в лихость. / Она, пожалуй, крепче прочих пьет. / В Калуге мы, но вскрикивает Липецк / из недр ее, коль песню запоет. / Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною. / Кромешность пряток. Лампа ждет меня. / Но что мне делать? Слушай: „Буря мглою…“ / Теперь садись. Пиши: эМ – А – эМ – А. / Зачем все это? Правильно ли? Надо ль? / И так над Пашкой – небо, буря, мгла. / Но как доверчив Пашка, как понятлив. / Как грустно пишет он: эМ – А – эМ – А»…
В любом случае душевные движения Беллы Ахмадулиной устремлены к бережному созерцанию и сосредоточенному переживанию ее внутреннего состояния, к уединенности и подчеркнутой скромности: «Плоть от плоти сограждан усталых, / хорошо, что в их длинном строю / в магазинах, в кино, на вокзалах / я последнею в кассу стою…». И, совсем напротив, Андрей Вознесенский, вызывая тем самым равно эмоциональное неприятие и приятие, весь – авангардно и агрессивно – направлен вовне, демонстрируя не столько эстетическое освоение, сколько завоевание мира. И, разумеется, публики. Весьма и весьма характерно, что именно установку на эффектность и броскость, рационально рассчитанную, отметили как его ровесник-соперник Евгений Евтушенко, кажется, напрягший для этого всю свою способность к великодушной непредвзятости, так и критически настроенный Давид Самойлов.
Первый: «Он не вошел в поэзию, а взорвался в ней, как салютная гроздь, рассыпаясь разноцветными метафорами. …Генезис его поэтики – синкопы американского джаза, смешанные с русским переплясом, цветаевские ритмы и кирсановские рифмы, логически-конструктивное мышление архитектора-профессионала: коктейль, казалось бы, несовместимый. Но все это вместе и стало уникальным поэтическим явлением, которое мы называем одним словом: „Вознесенский“».
И второй: Вознесенский «тщательно избегает ясности, может быть, зная про себя, что чем он ясней, тем менее интересен. …Он искусно имитирует экстаз. Это экстаз рациональный. Вознесенский – соглядатай, притворяющийся пьяным. У него броня под пиджаком, он имитирует незащищенность. Одна из его книг называется Ахиллесово сердце. Наиболее уязвимое у Вознесенского – ум. Ахиллесов ум. Ибо весь этот экстаз прикрывает банальность мысли. …Он оглушает шумом. Он имитирует власть личности над грохотом цивилизации, имитирует свободу. Когда-то купцы били в ресторанах зеркала, предварительно спросив цену. Вознесенский разбивает строки, ломает грамматику. Это мистификация».
В отличие от Ахмадулиной, Вознесенский, в общем, соответствует именно тому представлению о «шестидесятниках» и «шестидесятничестве», которое, особенно по прошествии времени, нафантазировало единый стереотип человека, уверовавшего в «социализм с человеческим лицом» и в «ленинские нормы» как идеал демократии. И дело даже не в поэме Лонжюмо, тем более что в ее создании весьма мало участвовала вера во что бы то ни было, преобладал, как мы говорили, тактически-бытовой расчет; не в призыве: «Уберите Ленина с денег», поскольку «цена его высока». Сам общий контекст 60-х с их надеждой на возможность легального, то есть применившегося к сущей реальности, протеста, который к тому же может помочь «делу партии», очеловечивая ее; с их воинственно атеистическим культом рукотворного мастерства, – этот контекст оказался по нраву музе-технократке Андрея Вознесенского. Он действительно сын, а не пасынок, кровное дитя 60-х – как и талантливейший Василий Павлович Аксенов (р. 1932), в чьей поздней прозе они ностальгически всплывают, как град Китеж.