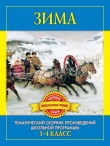Текст книги "Советская литература: Побежденные победители"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Побежденные победители
А 17 августа 1934 года пространным докладом Горького – даже не «от Ромула до наших дней», но начиная «ролью трудовых процессов, которые превратили вертикальное животное в человека», – открылся Первый и учредительный всесоюзный съезд советских писателей.
«Я… готовился к съезду советских писателей, как девушка к первому балу. – Отметим: вспоминает Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967), как считается, само олицетворение скепсиса, кому вроде бы не пристало волнение Наташи Ростовой. – …Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. К трем часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались».
Ну и т. п.: «пионеры дули в трубы; колхозницы приносили огромные корзины с фруктами, с овощами; узбеки привезли Горькому халат и тюбетейку…».
Иронизировать – несправедливо. Неисторично. Энтузиазм, подобный тому, что обуял молоденького «Мишу Слонимского», нередко и впрямь проявлялся «задушевно и очень интимно». Все тот же Корней Чуковский записывал по свежему следу, с каким ликованием Пастернак и он сам глазели на Сталина, объявившегося в президиуме (неважно, что на сей раз другого, комсомольского съезда, на писательском было то же самое): «…ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. …Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему…». Иные, даже многие съездовские выступления выглядели нерасчетливым излиянием самого сокровенного, продолжением художественного творчества, лирической исповедью.
Правда, лукавый умница Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940), талантливо смеша аудиторию, знал, что и зачем делает, когда он, общепризнанный мастер стиля, призвал вдруг коллег учиться этому стилю у Сталина, чьи «немногочисленные слова» будто бы кованы и «полны мускулатуры». Чем, кстати, себе не помог – и речь не только о трагической судьбе Бабеля, не пощаженного вождем, но и о конкретнейшей ситуации. Сразу же вслед ему на трибуну взошел критик Аросев и оспорил «предыдущего оратора», заявив: у товарища Сталина надо учиться не только стилю, но и умению создавать художественные образы. (Расстреляли потом, впрочем, и этого, уж вовсе безудержного льстеца.)
Но Олеша-то действительно поразил слушателей исповедальностью, откровенной до отчаянности. Страсть и стилистический блеск, с каким он прилюдно выворачивал душу, отвлекли большинство внимавших ему от смысла его покаяния, граничащего с самоуничижением. «Грустно, серьезно, со скрытым отчаяньем Олеша каялся в том, что он – Олеша», – вспомнит Вениамин Александрович Каверин (1902–1989). И в самом деле: «…Во мне хватает гордости (гордости, не чего-то иного! – Ст. Р.) сказать, что, несмотря на то, что я родился в старом мире, во мне, в моей душе, в моем воображении, в моей жизни, в моих мечтах есть много такого, что ставит меня на один уровень и с рабочим и с комсомольцем». Гордость паче уничижения.
На съезде радостно повторялась (в том числе Горьким) ставшая отныне крылатой фраза Леонида Сергеевича Соболева (1898–1971), прозаика, в ту пору, казалось, подававшего некие надежды, а впоследствии превратившегося в бесплодное, напыщенное начальственное ничтожество: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно – право плохо писать». Это выглядело как формула ответственности, – но кто выразил самую сущность ее, так это не по-бабелевски наивный, искренний в своей советской лояльности Пастернак. Сказав ненароком крамолу и предугадав страшное превращение многих тогдашних энтузиастов, в частности, того же Соболева:
«Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными, но да минует нас опустошающее человека богатство. „Не отрывайтесь от масс“, – говорит в таких случаях партия. Я ничем не завоевал права пользоваться ее выражениями. „Не жертвуйте лицом ради положения“, – скажу я совершенно в том же, как она, смысле. При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим ее людям».
Заметил ли Борис Леонидович, что почти повторял предостережение из гоголевского Невского проспекта? «Далее, ради Бога далее от фонаря!.. Он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом». То есть – не отмоешься…
Как бы то ни было, в целом писательский съезд выглядел как съезд победителей – аналогия с именно так называвшимся съездом ВКП(б) того же 1934 года тем более обоснованна, что делегаты партийного были почти поголовно уничтожены Сталиным, а из делегатов писательского многие пошли в лагеря или под расстрел. Но победный настрой действительно был, тем паче, что образование Союза писателей знаменовало, казалось, конец осточертевшей групповой борьбы, где главенствовала, по существу, одна группа. РАПП, то бишь Российская ассоциация пролетарских писателей, ликвидированная приказом партии лишь в 1932 году, как раз в предвидении образования Союза. До того же отличавшаяся наглым нахрапом, принимаемым, как водится, за могущество.
Хотя и само могущество – было, особо учитывая коммунистический радикализм и приоритетность лозунгов, узурпированных рапповцами. «Мы, мол, единственные, / мы пролетарские… – / А я, по-вашему, что – / валютчик?» – защищался и огрызался Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930), впрочем, незаметно для себя самого тут же принимаясь оправдываться: «Я / по существу / мастеровой, братцы…». В точности как Юрий Олеша, выражающий надежду, что он не хуже рабочего и комсомольца. А потом «Владим Владимыч» и вовсе спасовал перед пугающей силой РАППа и вступил в его ряды, разгневав свое футуристическое, «левое» окружение. Частью и потеряв его, причем, кажется, пуще всех оскорблял мэтра совсем молоденький «Семка Корчик», Семен Исаакович Кирсанов (1906–1972).
Еще недавно, в 1925-м, он ликовал и гордился: «Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос, / я радостью скручен, как вьюгой, / что мне с командиром таким довелось / шаландаться по морю юнгой». Речь, понятно, шла о Маяковском – «командире» или Командоре, как позже назовет его в романе Алмазный мой венец (1978) Валентин Петрович Катаев (1897–1986). Понятна и страстность кирсановского разочарования – вернее, была бы понятна, если бы речь шла о чем-то более существенном, сущностном, чем проблемы авангардизма, понимаемого сугубо внешне. А так… Ну, читаем у того же Кирсанова: «У реки Кубань, / где коней купань, / где дудел чабан в дуду, – / где в хлеву кабан, / у реки Кубань / я по злакам комбайн / веду». Либо: «По шоссе, / мимо скал, / шла дорога по-над морем. / Лил ливень, / ливень лил, / был бурливым пад вод. / Был извилистым путь, / и шофер машину повер – / нул (нул-повер) и ныр-нул в поворот. / Ехали мы по Крыму / мокрому…». В таком роде.
Занятно? Наверняка. Ритмически заразительно? Вероятно. Но не отделаться от слов Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), исчерпывающе, хотя, может быть, все-таки слишком лестно, охарактеризовавшей Кирсанова и его ресурсы: «Мощный мотор придан игрушечному автомобильчику».
Но далее. Итак, состоялся съезд победителей, – а победителям свойственно «считаться славою», выяснять, кому из них победа обязана больше всего, и, само собой, делить трофеи. И вот чего тот же Маяковский не мог себе представить – что и он окажется в роли трофея.
«Были две знаменитые фразы о времени, – писал Пастернак в очерке Люди и положения (1957). – Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Союза писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в дополнительной позолоте».
Помянутая пастернаковская наивность явлена здесь во всей своей девственности: как будто Сталин мог отдать роль «лучшего и талантливейшего поэта нашей (! – Ст. R), советской (! – Ст. Р.) эпохи» ему, Пастернаку. (Между прочим, говоря об авторстве этих слов, «небожитель», как иронически назвал его Сталин, не подозревал, что истинный «автор» – Лиля Юрьевна Брик, которая, жалуясь в письме к вождю на недооцененность Маяковского, почти подсказала своему высочайшему адресату знаменитую формулу. Маяковский, писала она, «как был, так и остается крупнейшим поэтом нашей революции». Адресат всего лишь доформулировал.)
Но формула родится несколько позже, а пока, на Первом съезде советских писателей, имя Маяковского, еще не канонизированное, тащат в разные стороны. Затеяв передел и приватизацию этой собственности.
Началось с доклада о поэзии, который сделал Бухарин – уже опальный, лишившийся титула Любимец Партии, но еще партийный функционер и редактор Известий. Сделал, особенно выделяя среди поэтов Тихонова, Сельвинского и Пастернака…
Стоп. Разве не странно сегодня выглядит в качестве «первачей» именно эта троица, семью годами раньше избранная и Эдуардом Багрицким? В Разговоре с комсомольцем Николаем Дементьевым он, никогда не воевавший, тем не менее вообразит себя самого неким «военспецем», заодно обозначив свои поэтические пристрастия: «А в походной сумке – / Спички да табак, / Тихонов, / Сельвинский, / Пастернак…». И поскольку смешно думать, будто Николай Иванович Бухарин решил ученически вторить поэту Багрицкому, то вот, значит, каковы были приоритеты, пусть не всеобщие, зато существовавшие по крайней мере с 1927-го по 1934-й.
О Сельвинском – говорено. Что же до Николая Семеновича Тихонова (1896–1979)…
Многие годы спустя Иосиф Бродский скажет: «Поздний Тихонов – это полный конец света, но тем он и интересен: полная монструозность как логический конец. Ранний Тихонов (с его, отметит Бродский, „постгумилевскими делами“. – Ст. Р.) вполне недурен». Первое, увы, справедливо, второе же, «недурен», даже высказано слишком сдержанно. Ибо «ранний Тихонов» сборников Орда и Брага (оба вышли в 1922 году) с их отчетливым следованием Гумилеву и Киплингу, чей пафос мужественного действия был ему близок, действительно обещал вырасти в крупного поэта. «Праздничный, веселый, бесноватый, / С марсианской жаждою творить, / Вижу я, что небо небогато, / Но про землю стоит говорить». «Мы разучились нищим подавать, / Дышать над морем высотой соленой, / Встречать зарю и в лавках покупать / За медный мусор золото лимонов». И т. п., вплоть до зацитированной апологии мужества – как такового, самого по себе, независимо от того, ради чего это мужество явлено: «Гвозди бы делать из этих людей: / Крепче б не было в мире гвоздей».
Так можно славить кого угодно – большевика или белогвардейца, державника или анархиста; последний не просто пришелся к слову, потому что сам Тихонов в том же 1922 году характеризовал себя так: «Закваска у меня – анархистская, и за нее меня когда-нибудь повесят». И, кстати, нечто подобное чуть не свершилось: после разгрома бухаринской оппозиции НКВД затеяло дело преступной группы ленинградских писателей, чьею главой и был назначен Николай Тихонов. Не вышло – или вышло не совсем так, как замышлялось. Арестовали несколько литераторов, выбили из них нужные показания, но, как видно, сверху был отдан приказ: Тихонова не трогать. Под расстрел и в ГУЛаг пошли его, так сказать, подельники-подчиненные; среди них – Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958), который, уверенный, что уж Тихонов-то, за связь с коим его осудили, всенепременно погиб, лишь случайно узнал в лагере о награждении «главы заговора» орденом Ленина. И, говорят, едва не помешался.
Так или иначе, за орденом Ленина последовали иные награды и звания, включая звезду Героя Социалистического Труда, международную Ленинскую премию За укрепление мира между народами, «просто» Ленинскую, парочку Сталинских, должность председателя Советского комитета защиты мира… И – нищета стихотворства, поразительная даже на фоне среднего советского уровня.
Судьба далеко не единичная, если говорить о людях, обладавших талантом (а о прочих практически и не говорим). И если впоследствии не найдется повода упомянуть Константина Александровича Федина (1892–1977), – а похоже, что не найдется, – то вот еще нагляднейший из примеров подобного рода. Сила и своеобразие романов Города и годы (1924), Братья (1928), быть может, были изрядно преувеличены в пору их появления на свет («…Настоящий, отлично родившийся человек», – восхищался Фединым Горький[2]2
Горьковские оценки и предпочтения – особая тема, которую в рамках этой книги не развернуть. Тем не менее скажем, что, всецело поддерживая, например, Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958) и тем являя прозорливость и вкус, Горький мог написать и такое: «О Зильбере. Вот увидите, этот чудотворец весьма далеко пойдет, – его фантастика уже и сейчас интереснее и тоньше Гоголевых подражаний Гофману».
Можно не комментировать, так как Зильбер – родовая фамилия Вениамина Каверина, автора популярнейшего романа Два капитана (1936–1944), мемуаров – содержательных, умных, но… Что ж, таков был горьковский пафос – пафос строителя новой, небывалой советской литературы.
[Закрыть]), но и они кажутся снежными вершинами по сравнению с тем, что писал Федин в последние годы, например, с романом Костер (1961). Плюс то, что трудно забыть: трусливейший конформизм на посту первого секретаря Союза писателей; подлейшее, продиктованное бессильной завистью отношение к гонимому Александру Исаевичу Солженицыну (р. 1918); непочтительная кличка «чучело орла»…
И – хватит (пока) о таких. Вернемся на съезд, к докладу Бухарина, к избранной им поэтической троице. Вернее, к тому, что и кого противопоставил Бухарин этим поэтам, в которых видел именно поэтический прорыв в новое качество – при всех идеологических претензиях к ним, без чего старый партиец все же не мог. Фигурой противостояния был Маяковский, чья агитационная поэзия «уже не может удовлетворить… она стала слишком элементарной… сейчас требуется больше многообразия, больше обобщения… даже самое понятие актуальности становится уже иным».
Что началось!
На Бухарина навалился безмерной тушей Демьян Бедный, в миру – Ефим Алексеевич Придворов (1883–1945), чьи агитки докладчик тем паче списал в невозвратное прошлое; впрочем, Демьян, ненавидевший Маяковского, заодно обвинил Бухарина и в преувеличении его роли (Николай Иванович, критикуя, отвел как-никак Маяковскому роль советского классика). Но, казалось бы, неожиданней было выступление поэта Александра Алексеевича Жарова (1904–1987).
Этот комсомольский кумир, по своей популярности многократно превосходивший Маяковского, был презираем тем до такой степени, что он называл его не иначе как Жуткин, создав таким образом парную кличку для Жарова и Иосифа Павловича Уткина (1903–1944), двух будто бы неразличимых «комсомольцев». «Будто бы» – потому что Уткин при всей своей, как сказали бы нынче, «попсовости», был неизмеримо талантливее своего приятеля-близнеца. И вот Жаров, которому в бухаринском докладе досталось за примитивность, заступается перед ругателем нынешним за ругателя покойного. Заявляет, что «время лучших так называемых агиток Маяковского еще не прошло и пройдет не скоро», заодно намекнув, что троим любимцам докладчика далеко до популярности этих «агиток». А выступивший следом Алексей Александрович Сурков (1899–1983), Маяковского также не жаловавший, расшифровывает намек: «Для большой группы наших поэтов, для большой группы людей, растущих в нашей литературе, творчество Б. Л. Пастернака – неподходящая точка ориентации в их росте».
Чем срывает аплодисменты.
Сражались не за Маяковского. Сражались за свое право писать «агитки», не свыше и не сложнее того, уподобляясь, уж разумеется, не автору поэм Про это (1923) или Во весь голос (1930), где был явлен и реализован поистине великий талант. Не тому, кто, как раз и признавшись в последней поэме: «И мне / агитпроп / в зубах навяз../ Но я / себя / смирял, / становясь / на горло / собственной песне» (причем именно признавался, признавал мучительность насилия над собой), в черновике продолжения доказывал, вольно или невольно, сколь неуступчивым оказывается горло. Сколь непросто перехватить его вольное дыхание: «Любит? не любит? Я руки ломаю / и пальцы / разбрасываю разломавши / так рвут загадав и пускают / по маю / венчики встречных ромашек / пускай седины обнаруживают стрижка и бритье / Пусть серебро годов вызванивает / уймою / надеюсь верую вовеки не придет / ко мне позорное благоразумие».
И тем более: «Я знаю силу слов я знаю слов набат / Они не те которым рукоплещут ложи / От слов таких срываются гроба / шагать четверкою своих дубовых ножек / Бывает выбросят не напечатав не издав / Но слово мчится подтянув подпруги / звенит века и подползают поезда / лизать поэзии мозолистые руки».
«Тем более» – потому что произошло, казалось бы, невозможное. В молодости Маяковский был до отчаяния раздосадован, что на игрушечных выборах Короля Поэтов его победил Игорь Северянин (о еще жившем Блоке тогда никто и не вспомнил). В зрелости он решительно все, вплоть до собственного своеобразия, был готов отдать ради его признания массами. И вот: «не напечатав не издав». Высказанная готовность существовать так же, как готов был существовать – и существовал! – во всех отношениях чуждый Маяковскому Максимилиан Волошин: «…Почетней быть твердимым наизусть / И списываться тайно и украдкой. / При жизни быть не книгой, а тетрадкой».
К несчастью, неизбежен вопрос: а что, если бы потрясающие строки так и не вышли из рабочей книжки, остались недопущенными к «большому читателю»? Ведь случилось же подобное с «американским» стихотворением Домой! (1925). В печати закончившееся пожеланием: «о работе стихов, / от Политбюро, / чтобы делал доклады Сталин» (тот, кто как раз и рукоплескал угодным ему мастерам искусств из правительственных лож), в черновом варианте оно имело другой финал. И отсутствие обычной для Маяковского «лесенки», как и знаков препинания, словно подчеркивало растерянную незавершенность размышления – один из признаков его подлинности: «Я хочу быть понят моей страной / а не буду понят что ж / по родной стране пройду стороной / как проходит косой дождь».
Потом Маяковский объяснит причину изъятия: «Ноющее делать легко… Одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов я приделал такой райский хвостик… Несмотря на всю романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки выдрал».
Чем не обесхвостил, а обезглавил стихотворение, лишив его выявления драмы поэта, вечно носимой в душе.
Как бы то ни было, Бухарин, чересчур рафинированный и для партийной среды, и для общей массы писательского съезда, браня Маяковского не конкретно за нечто подобное, все же имел в виду как раз тенденцию превращения собственно поэзии (как, выражаясь банально, способа самовыявления личности) в прямолинейное средство «агитации и пропаганды». Пусть и в варианте мастеровитом, недоступном ни Бедному, ни тем более Жарову.
Не зря слова недавнего Любимца Партии – о том, что «„агитка“ Маяковского уже не может удовлетворить» и т. п., – адресовались тому, кто этого «не видит». Николаю Николаевичу Асееву (1889–1963), «наиболее ортодоксальному „маяковцу“, труженику стихотворной формы, неутомимому поэту-агитатору».
Выглядя похвалой, это звучало не только укоризненно, но – невольно – и драматически. Ибо Асеев, по злому словцу Сельвинского, превратившийся в «деталь монумента» при заживо забронзовевшем Маяковском, был изначально поэтом совсем иной породы: «Я лирик / по складу своей души, / по самой строчечной сути» (поэма Свердловская буря, 1926). Беда, однако, в том, что именно эта поэма, начавшись таким заявлением, продолжает свое течение совсем в ином русле, будто намеренно демонстрируя, как можно – и следует – наступать на свое пульсирующее лирическое горлышко. Отчего в немалом асеевском наследии – в частности, сильной при всех оговорках поэме Маяковский начинается (1940) – приходится выискивать, выбирать признаки действительно оригинального таланта среди поставленной на поток продукции «неутомимого поэта-агитатора».
Причем здесь тот случай, когда трудно отделить усилия «внешнего» цензора по искоренению дерзко-личностных черт поэзии от усилий цензора «внутреннего». Вызванных как убеждением «агитатора», так и обыкновеннейшим страхом.
Понятно, почему из поэмы Лирическое отступление (1924) при переиздании исчезают строки: «Как я стану твоим поэтом, / коммунизма племя, / если крашено – рыжим цветом, / а не красным – время!». Но вот стихотворение 1958 года Встреча – о загробном союзе с тенью Маяковского: «В несуществующее время, / в отсутствующее пространство, / летим, вдвоем с тобой дружа, / объединясь в заветной теме, / все пламенней и беспристрастней…».
Прервем цитирование. Не контрастируют ли с предыдущими своей тривиальностью две последних строки? Конечно – и не случайно. Это эрзац. В неиспорченном оригинале – продолжение темы дружества, независимо от того, чем и как отметит друзей «мирская власть» с ее иерархией: «…без всяких орденов и премий, / без ненавистей и пристрастий, / вселенской цели сторожа». (Автор книги позволяет себе цитировать строчки, собственноручно, дрожащим стариковским почерком вписанные Н. Н. Асеевым в подаренный ему экземпляр двухтомника в декабре 1959 года.)
Нетрудно понять, отчего вызывающую строку: «Пусть правду по архивам пряча…» меняют на более мирное: «Пускай биографы, судача…». Но какая сила, внешняя или внутренняя (хотя в том-то и дело, что, зная асеевскую эволюцию, уже не ищешь различия между этой и той), заставляет отбросить последнюю строфу, ежели и крамольную, то единственно смелостью образа? «Мы ж как картофель для посадки, / но только на вселенской грядке, / разрезанные на куски, – / какие б ни сырели будни, / какие б ни болтали блудни, – / опять даем свои ростки».
Любопытно было бы узнать: не является ли этот «картофель», внезапно явившийся образ, полемическим откликом на слова Пастернака о Маяковском, написанные годом раньше, – правда, в ту пору еще не опубликованные? Говоря, что после сталинско-бриковской фразы Маяковского «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине» (вскользь отметим неточность сравнения: картошка оказалась всероссийским благом, чего не скажешь о культе огосударствленного поэта, навредившего его поэтической репутации), Пастернак заключил: «Это было второй его смертью. В ней он не повинен».
Впрочем, поспорить можно и здесь. Скорее уж Маяковский не повинен в своей «первой» смерти. Что ж до «второй»…
Можно ли было сделать посмертно лучшим, талантливейшим поэтом «нашей, советской» эпохи, превратив спор о нем в спор о праве писать «агитки», скажем, Сергея Александровича Есенина (1895–1925)? Вопрос этот просто нельзя не задать – настолько Есенин и Маяковский при жизни воспринимались соперниками-антиподами. Возможно, что и остались?
«Жил на свете Есенин Сережа, / С горя горького горькую пил, / Но ни разу на горло Сережа / Песне собственной не наступил. / …Ну, а песня, а песня, а песня, / овдовевшая песня жива, / И поет ее Красная Пресня, / И Акуловка вся, и Нева. / Знать, недаром, вскочив с катафалка, / Спел Сережа, развеяв печаль: / – Вот себя мне нисколько не жалко, / А Владима Владимыча жаль!»
Это – из песни, стилизованной под «поездную», Юза Алешковского (Иосиф Ефимович, р. 1929), автора подобных же песен и озорной, причудливой прозы, в которой выделим повесть Николай Николаевич (1970), необычайно трогательную – это при более чем рискованной фабуле и обилии ненормативной лексики. И замечательно то, что мифологизированный песней самоубийца Есенин жалеет Маяковского, пока остающегося жить, – в то время как подлинный Маяковский в стихотворении Сергею Есенину (1926) осудил самоубийцу-поэта. Поспешил осудить, подчеркнув в прозе, в статье Как делать стихи? (тот же год): «Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но…». Словом, когда «газеты принесли предсмертные строки: „В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей“», сразу возник «социальный заказ». Понадобилась «агитвещь». Возникла «целевая установка: обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красивости смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции…».
Иронизировать над этим объяснением столь же неуместно, как и над тем, что пятью годами позже сам Маяковский предпочтет то, что неосторожно назвал «легкой красивостью смерти».
Да, комментарий тенденциозен до примитивности. Как примитивно-тенденциозны, допустим, строки, в которых поэт словно забыл, что именно он – автор поэмы Про это: «Вопрос / о личном счастье / не прост. / Когда / на республику / лезут громилы, / личное счастье – / это / рост / республики нашей / богатства и силы». (Ответ на «мечту», 1927). Но, с другой стороны, разве не благородна задача «агитвещи» – удержать в жизни тех, кого есенинский «сильный стих – именно стих, подведет под петлю и револьвер»?
И тем более – каков контраст двух поэтических индивидуальностей! Как различен вектор двух путей, даром что финальная точка – одна, общая!
Вроде бы странно: мы ведь многое, если не все, знаем о жизни Есенина, торопившего свой конец. Знаем об алкоголизме, разрушившем тело и душу, о скандалах и портящемся характере, и без того непростом, но вот что вышло из-под пера, не ведающего, что скоро оно – кровью – выведет в гостинице Англетер строки, позвавшие Маяковского к отповеди. Вот что написано за пять месяцев до смерти: «Видно, так заведено навеки – / К тридцати годам перебесясь, / Все сильней, прожженные калеки, / С жизнью мы удерживаем связь».
А еще немногим раньше – в стихах, где Есенин меряется славою с Пушкиным: «Но, обреченный на гоненье, / Еще я долго буду петь…».
Даже гоненье, остро осознаваемое (в другом стихотворении, обращенном к «любимому зверю», к волку: «Как и ты – я, отвсюду гонимый…»), не мешает надежде, что петь предстоит еще долго. А если речь все же зайдет о смерти, то: «…Я умер бы сейчас от счастья, / Сподобленный такой судьбе». То есть судьбе и славе Пушкина.
Разве не подростковое честолюбие? А этот маскарад – не игра того, кто не торопится взрослеть? «Я хожу в цилиндре не для женщин – / В глупой страсти сердце жить не в силе, – / В нем удобней, грусть свою уменьшив, / Золото овса давать кобыле». Поверим ли, что фатоватый головной убор, которым Есенин впрямь украшал рязанскую головушку (как прежде мог заявиться в салон Зинаиды Гиппиус в валенках, вызвав вопрос хозяйки: «Что это на вас за странные гетры?») – наилучшая замена торбе?
«Есенин к жизни своей отнесся как к сказке, – писал Пастернак. – Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца».
Вряд ли Пастернак имел в виду то, что прощальные строки Есенин действительно записал кровью, взятой из вены. (Маяковский на этот счет пошутил не без мрачности: «Может, / окажись / чернила в Англетере, / вены / резать / не было б причины».) Но рискнем спросить: разве это кровопускание не стало последним проявлением мальчишества?
Конечно, искусство вообще неотделимо от игры. Художник, примеряющий на себя множество обликов, вовлечен в нее природой таланта, – что может быть банальнее этого замечания? И Николай Алексеевич Клюев (1884–1937), большой, своеобразнейший поэт, был и организатором, режиссером игры, в которую вовлекал своего друга-ученика Есенина (заботясь о его псевдонародном имидже, восхищавшем горожан-интеллигентов), и ее участником. Если даже не самозабвенным.
Уроженец северной Вытегры, старообрядец, чей дед ходил по селам с медведем, а мать была «плачеёй», сказительницей, знаток родного фольклора, прошедший школу Блока и Тютчева, почитывавший по-немецки Шеллинга и Фейербаха, Клюев был, по словцу Валерия Брюсова, «полукрестьянином-полуинтеллигентом». Хотя так ли? Он и был истинным русским интеллигентом, который, из каких бы народных глубин ни произрос, склонен играть в простонародность. Отсюда – и петербургская квартира на Большой Морской, перестроенная под избу с дубовыми скамьями и кованными сундуками, с полатями и лежанкой, и смазные сапоги при поддевке с малиновой рубахой, которые специально надеваются для похода во французский ресторан (а что в таком виде могут и не пустить, так: «Куда нам, мужичкам, промеж господ?». На этот случай есть отдельные кабинеты). Главное же, и его поэзия, насыщенная-перенасыщенная крестьянской мифологией, поэма Мать-Суббота (1922) и трагическая Погорельщина (1927), возможно, ставшая главной причиной гибели Клюева, – хотя убили бы и без нее, – были не менее сложны, чем, скажем, стихи Мандельштама (которого Николай Алексеевич именовал в своем духе: Мондельштам). Даже, пожалуй, более многих из них нуждаются в комментарии и расшифровке: «Слышите ль, братья, поддонный трезвон – / Отчие зовы запечных икон?! / Кони Ильи, Одигитрии плат, / Крылья Софии, Попрание врат, / Дух и Невеста, Царица предста / В колосе житном отверзли уста!» (Мать-Суббота).
В общем, как пошутил – ежели пошутил – Владислав Ходасевич: «Можно сказать, что для поэта из народа он бессовестно грамотен». Говоря уж совсем серьезно, чего, чего, а есенинского простодушия в изощренной поэзии Клюева не найти.
«Счастлив тем, что целовал я женщин, / Мял цветы, валялся на траве / И зверье, как братьев наших меньших, / Никогда не бил по голове». Все перечисленные радости, все поводы для счастья – неэлитарны, донельзя просты, доступны всем и каждому. Живи и радуйся. Долго! Но это заблуждение – будто поэт, доверчиво желающий миру добра, полный надежды сделать его лучше, обеспечен встречным доброжелательством. И вот: «Золотые, далекие дали! / Все сжигает житейская мреть. / И похабничал я и скандалил / Для того, чтобы ярче гореть. / Дар поэта – ласкать и карябать, / Роковая на нем печать. / Розу белую с черною жабой / Я хотел на земле повенчать».
О чем говорит странное это мичуринство? О том, что слабый, боящийся милиции и суда, жестокий с женщинами, равнодушный к собственным детям, пьющий, тщеславный человек этот был, вероятно, последним русским поэтом, одержимым то ль христианской, то ли языческой (не разобрать), вселенской жаждой достичь идеала. Для всех! А между человеческой слабостью и подобным замахом образуется, конечно, зазор. Возникает надрыв.
Что может обнаружиться странно. Почти забавно. «Приемлю всё. Как есть всё принимаю. / Готов идти по выбитым следам. / Отдам всю душу октябрю и маю…» – кажется, точка. Согласился. Сдался. И напоследок просит лишь чуточку независимости: «…Но только лиры милой не отдам».
Святая простота. Младенческая наивность. Чего стоит душа поэта, лишенная лиры, то есть возможности душу выразить? Да еще в стране, где первый из ее поэтов впечатал в наше сознание формулу их неразрывности: «душа в заветной лире»…
А Маяковский?