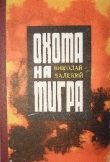Текст книги "В плену у белополяков"
Автор книги: Соломон Бройде
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
– Дело обстоит неплохо, – ответил Шалимов. – Въезжаю в местечко, смотрю – около избы бричка с разными котомками. Проверили, разное барахло нашли, отдали его полковому каптенармусу, а кусок хлеба и сала фунта с два между собой поделили. Садитесь вон там на бревне, я вам вашу долю принесу.
– Крой, крой, Шалимов, – одобрительно сказал Петровский, – а мы пока поудобнее устроимся.
Подошел ротный командир, поздоровался.
– Кухня будет только к вечеру, – сказал он, – нужно как-нибудь всухомятку продержаться, до вечера отдохнем, а там опять двинемся. Сейчас устанавливайте караулы – и по домам, но далеко не расходитесь, будьте готовы в любой момент собраться на случай тревоги.
Я очутился в чистеньком домике, аккуратно выбеленном. Старуха-хозяйка рассказала нам, что ее сын и старик ушли на заработки, а невестку увезли с собой поляки.
– Врет, как полагается, – сказал Петровский. – Да нам не все ли равно, отдохнем часок, да и баста.
Шалимов, Петровский, Исаченко и я устроились довольно удобно. Не успели мы разместиться, как под окном послышал голос вестового, осведомлявшегося о Петровском.
– Что нужно? – недовольно крикнул Петровский.
– В штаб полка вызывают.
Петровский стал ругаться.
– Собирайся живо! – сказал ему Шалимов начальствующим тоном. – Раз зовут – не задерживайся.
Там ему сообщили содержание полученного приказа:
«Петровскому, как окончившему военные краткосрочные курсы, предлагается явиться немедленно в распоряжение штаба бригады».
Вернувшийся Петровский быстро собрал свои вещи и стал торопливо прощаться. В дверях он обернулся и бросил:
– Слушай, Петька, как устроюсь – напишу, а ты сообщи, как у вас дела.
– Пиши, – приветливо ответили мы ему в один голос.
Хлопнула дверь, и Петровский исчез.
– Хороший парень, хоть и простачком прикидывается, – сказал Шалимов.
В этот момент мы услышали команду:
– Выходи, стройся!
Нам предстояло с Первым и Вторым литовскими полками двинуться в наступление на Вильно.
– Даешь Вильно! – закричали наши ребята.
Успех в Подбродзе окрылял…
– … Выходить! – доносится до моего слуха.
Петровский тащит меня с нар. Куда зачем?
– Вставай, чертов мечтатель, а то проволоки попробуешь!
– Холеро! Пся крев! – зычно орет унтер на весь барак. Ненавистное слово отрезвляет меня, я быстро вскакиваю с места.
Необходимо приступать к выполнению обязанностей ассенизатора.
«Нас этим не испугаешь. Мы люди привычные», – мысленно стараюсь утешить себя, направляясь к выходу.
5. Стрелково
Хмурый осенний день. Небо задернуто непроницаемой свинцовой пеленой. Дождь уныло барабанит по обшитым толем баракам. Грустно гудят телеграфные провода. Бесприютные клены качаются на ветру. Осыпающиеся листья мертвенно желтеют на непросыхающей земле.
Нас переводят из штрафного барака в общий. Втянувши головы в плечи, мы осторожно переступаем лужи, ежеминутно преграждающие нам путь.
Нас ведут мимо бараков, аккуратно расставленных немцами в одну линию. На стенах кое-где готическим шрифтом выведены надписи.
У открытых дверей одного барака мы замечаем женщину с детьми, не решающихся выйти во двор. У детей изнуренные лица и грустные глазенки, испуганно взирающие на мир.
– Какая сволочь, – возмущаюсь я, – детей не щадят.
Петровский одергивает меня:
– Не треплись, не поможет, – а сам не смотрит в ту сторону.
У одного из бараков мы останавливаемся. Дверь гостеприимно открывается, и мы входим.
Темный сарай до отказа набит людьми. Запах испарений и давно немытых человеческих тел резко ударяет в нос.
Мы проходим мимо распластанных тел, стараясь найти местечко, где бы можно было устроиться, и неожиданно натыкаемся на Шалимова, Грозного и Сорокина. Радости нашей нет предела – товарищи уцелели! И все же обидно, что и им не удалось уйти из плена. Мы не рискуем расспрашивать их.
Ночью, когда все уснули, торопливым шепотом сообщаем друг другу о наших злоключениях.
Долго смотрим на друзей.
– Как же это так? Ведь уже сколько времени прошло с того момента, как мы все ушли из Калиша. А мы думали, что вы уже дома.
– Не повезло нам, – мрачно ответил Шалимов. – Приключений всяких в пути и у нас было достаточно. За конокрадов нас в одной деревне приняли. Избили до смерти. Просидели мы под замком в канцелярии войта пару дней, насилу очухались от побоев и через окошко задали лататы ночью, когда полдеревни перепилось по случаю местного престольного праздника. Пробовали мы воровством промышлять. Забрались как-то в один погреб, нашли там всякой всячины, пошамали как следует, набили полные карманы, но были застигнуты как раз в тот момент, когда собрались выходить из ворот гостеприимного хозяина. В широкой соломенной шляпе, с седыми свисающими усами, с длинным арапником в руках, он загородил нам путь своей широченной грудью. «Вечер добрый, панове», – проговорил он тихим сдавленным от бешенства голосом. Пойманные врасплох и не зная, как себя держать в данную минуту, мы ответили ему молчаливым кивком. Дальше все пошло обычным порядком. О сопротивлении нам помышлять не приходилось. Громадный лохматый пес, которого мы до сих пор не видели, гремя цепью, с остервенелым лаем кружился вокруг нас, готовый в любую минуту растерзать, как только хозяин подаст сигнал. На крыльце дома стоял в полной готовности молодой человек, вооруженный увесистой дубиной. Нас отвели в темный сарай и на мягком душистом сене отдубасили по местам, не успевшим зажить после недавней экзекуции. После того как рассказали мы им, что пробираемся на родину из немецкого плена, где мы застряли дольше положенного срока, нас отпустили, посоветовав не появляться в этих краях. Поймали нас на рассвете проезжавшие солдаты, которым показалась подозрительной поспешность, с какой мы сворачивали в сторону, избегая нежеланной встречи. Легионерам не трудно было установить, с кем они имеют дело. Долго колебались, куда нас отправить: в Калиш или в другой близлежащий лагерь. Порешили передать нас на первой остановке в руки жандармерии, которая должна была позаботиться о благополучной доставке беглецов в Стрелково. Вот уже недели три околачиваемся здесь, – закончил свое грустное повествование Шалимов.
– Значит, мы были соседями по карцеру? – задумчиво произнес Петровский – Сколько же на вашу долю было отпущено плеточных щедрот?
– Драли нас основательно, – поспешил нас успокоить Шалимов, – и такими же плетками, как и вас. Все же мы с Грозновым ничего, сносили кое-как, а вот Сорокин вздумал каждый раз за руку хватать поляков, когда те входили в карцер. С ума спятил парень. Замыслил придушить кого-нибудь из палачей. Решил им острастку дать, показать, что мы не бессловесные скоты. Ну, сами понимаете, что из этого вышло.
Сорокин виновато молчал. Вид у него был далеко не утешительный. Особенно странными показались мне его горящие глаза. Удивляться его болезненно-возбужденному состоянию не приходилось, но возникало серьезное опасение за его судьбу. «Надо зорко следить за ним, – отмечаю я в памяти, – иначе погибнет парнишка ни за грош».
Так или иначе, товарищи были живы; после всех перенесенных передряг мы все уцелели – это было самое главное. Дальше едва ли могло быть хуже.
– Жаль, что так все неудачно вышло, – сказал Петровский, – но лиха беда начало. Присмотримся к порядкам в этом лагере и снова покажем пятки. Надо будет только направление к границе разузнать…
Шалимов прервал его:
– Погоди еще о новом побеге думать. Нам не один денек еще здесь, в Стрелкове, придется проторчать. Не забывай, что на первых порах за нами в оба глядеть будут. Нас ведь к разряду «бегунов» отнесли, а с такими поляки не церемонятся. Норовят от беспокойных элементов всеми способами отделаться: либо на смерть запороть, либо при первом же удобном случае пристрелить. Поэтому, – серьезно закончил он, – пока вооружитесь терпением.
– Расскажите-ка, ребята, поподробнее о местных делах. Вы ведь «старики» – раньше нас на несколько дней из карцера сюда переведены, – сказал Петровский.
– Здесь значительно хуже, чем в Калише, – ответил Шалимов, – кормят хуже, а бьют больше. Что за людей нагнали в лагерь для нашей охраны – не пойму, откуда их только взяли! Должно быть, раньше в тюрьмах в качестве палачей практиковались.
Ну, черт с ними! Бараки здесь грязные, но еще есть беда: конвоиры пьют вовсю. Недалеко отсюда винокуренный завод. Как только офицеры уходят после проверки из лагерей, конвоиры дуют спирт. А потом по всякому поводу избивают пленных – душу отводят.
«Хороша перспектива! А повод ведь нетрудно найти», – подумал я.
– Утром, – продолжал Шалимов, – в восемь часов выстраиваемся в длинную очередь за кофе из жженого ячменя. Разумеется, без сахара. Дают только одну кружку этой жидкости, примерно полтора стакана. На обед дают полчерпака супа. Вот и делай, что хочешь…
– А с чем суп? – больше для проформы спросил я, зная заранее ответ.
– Вот чудак, – ответил Грознов, – интересуешься еще, с чем! Да, конечно, с бураками, то есть это даже собственно не суп, а вода с бураками. Всегда без соли. Представляешь себе, какая это бурда. Иногда для разнообразия вместо супа дают нам на обед немецкой «зуппе» – хрен редьки не слаще. Хлеба выдают полфунта на день. Это бы еще ничего, если бы он был как следует выпечен, а то как глина. Хорошо, что у нас здоровье крепкое. Здесь люди заболевают почками; после месяца-другого такого питания доходят до полного истощения и помирают. Кроме того еще одно блюдо – плетка. Этого не жалеют.
В сущности и острый недостаток в еде, и жестокая порка не были для нас новостью. Важно было другое: необходимо было определить «дух» стрелковского лагеря.
Режим был суров во всех лагерях, но были в каждом из них свои особенности; их-то мы и учуяли нюхом еще в карцере; товарищи дополнили картину.
Учитывая опыт Калиша, надо было твердо, внешне безропотно переносить пытки. Нужно было запастись мужеством, чтобы держаться. Польский плен – блюдо не для слабых духом. Чем хуже обстановка, тем настойчивей надо пытаться прорваться через кордон.
Уснули мы довольно поздно, спали крепко и наутро проснулись более бодрыми.
Потянулись тяжелые дни. Знакомое безразличие, прерываемое поркой, голодное существование, постоянное ощущение слабости и лихорадочный блеск в глазах: так блестят глаза у давно некормленых зверей.
Я тосковал по людям. Был моложе других, поэтому, несмотря на предостережения Петровского, шатался по всему бараку.
Неподалеку от нас расположилась группа в несколько человек, профессию которых трудно было распознать. Они откуда-то доставали хлеб, угощали конвойных папиросами, какими-то путями попадавшими к ним.
Возле их нар постоянно околачивался кто-либо из пленных в надежде «подстрелить» окурок или выклянчить корку хлеба.
От пленных я узнал, что эти люди родом из Галиции. Они давно живут в Польше и работали в имении какого-то графа. Польским языком они владели в совершенстве.
В имении, где они работали, расположился во время перехода какой-то полк. Однажды утром один из офицеров полка был найден с раздробленной головой возле сарая, примыкавшего к домику, где жили галичане. Их сейчас же схватили и судили. Одного, который в ту ночь поздно возвратился, немедленно расстреляли, а других отправили в лагерь.
Галичане утверждают, что офицера убили его же солдаты за побои и издевательства, а для того, чтобы отвлечь от себя подозрение, нарочно не застрелили его, а раздробили череп чем-то тяжелым.
Однако поляки эту версию отвергают и продолжают держать их в лагере, откуда их время от времени куда-то уводят на допрос.
В городе за них кто-то хлопочет, и, очевидно, через конвойных им присылают передачи.
Конвойные не видели в них большевиков, поэтому отношение к ним не было так бессмысленно жестоко, как к нам.
Напуганные обыватели, они лебезили перед каждым солдатом, а начальству повыше оказывали царские почести.
Нам казались дикими их поклоны каждому холую с блестящими пуговицами. Они напоминали крестьян нашего глухого села, когда в недоброе царское время, бывало, наезжал урядник. Мужики во всякую погоду стояли перед ним с непокрытыми головами, а урядник, отец и дед и прадед которого сами были крестьянами, принимал как должное оказываемое ему «уважение».
Но урядник исчез, как только началась революция, а наш крестьянин навсегда разучился трепетать перед начальством. Эти же по любому поводу готовы были падать на колени.
Пленные их не любили.
Один из галичан был очень сильным физически, – мы впоследствии убедились в этом, – тем более раздражало его подобострастие перед начальством.
Я потихоньку ежедневно совершал путешествие в глубь барака, знакомился с пленными.
Так прошло несколько дней.
Однажды утром раздался хорошо знакомый возглас:
– Вставать, холеры!
Это кричал посторунок, открывая дверь нашего барака.
Грознов, Сорокин и Шалимов быстро вскочили с нар и вытянулись, а мы с Петровским несколько замешкались.
Посторунок обругал нас, но, увидав, что мы одеваемся и после его брани недостаточно, как ему казалось, быстро, кликнул своего товарища.
Оба они приблизились к нам.
– Цо, холеры, не слышите приказа вставать?
Мы заторопились изо всех сил, но солдатам надо было, очевидно, во что бы то ни стало нас подтянуть.
– Кладнись, холеро!
Пришлось лечь.
Нам всыпали по пять плеток.
После порки нас повели на работу. К нам присоединили четырех китайцев.
Шалимов, Грознов и Сорокин остались «отдыхать» в бараке.
Будучи на работе, мы получили прибавку – еще немного супа, а это при голодной диете играло немаловажную роль.
Китайцы, попавшие к нам в компанию, по-русски почти ничего не понимали. Мы так и не могли выяснить, где и каким образом они попали в плен. Вероятно, угодили в лапы поляков только потому, что на польском фронте офицеры усиленно распространяли слухи о пополнении наших частей китайцами, специально взятыми для выполнения обязанностей палачей.
Нас удивляло, почему поляки оставили китайцев в живых.
Наша работа была несложна. Уборная представляла собой большую цементированную яму. В империалистическую войну немцы, захватившие Польшу, поместили в бараках русских пленных. Эти строения и остались по наследству полякам вместе с запущенными уборными, переполненными до краев. Уборных было много. Их-то нам и предстояло очистить.
Работа распределялась между нами так: часть товарищей залезала в яму и лопатами накладывала нечистоты в ведра, а другая часть вытаскивала полные ведра и переливала в бочку. Потом шестеро впрягались в лямки и тянули бочку, а седьмой подталкивал ее сзади.
Нет нужды останавливаться на всей унизительности нашего положения во время исполнения возложенного на нас задания.
Для того, чтобы мы не лодырничали, два посторунка нас подгоняли, помахивая плетками. Кое-когда перепадал «случайный удар». Делалось это в соответствии с инструкциями лагерного начальства в целях повышения производительности труда.
По окончании рабочего дня приходили подавленные в барак, валились на нары и засыпали, как убитые, распространяя вокруг малоприятные ароматы.
В нашей лагерной жизни возникали иногда своеобразные спектакли. Они стихийно врывались в наш день, значительно усиливая нервное напряжение.
Дело в том, что пленные, в результате каторжного режима, установленного в бараках, ежедневно прибегали к самым безумным, рискованным способам побега. Наступал период, когда слабые духом пускались «во все тяжкие».
Психологическое объяснение смелым авантюрам – побегам – найти было нетрудно. Новому человеку достаточно было день прожить в лагерной обстановке, чтобы им прочно овладела упорная мысль о побеге. Попытки эти, будучи плохо, кустарно организованы, сплошь и рядом срывались.
Начальник лагеря капитан Вагнер и его ближайший помощник поручик Малиновский решили раз навсегда положить этому конец, беспощадно расстреливая всех покушающихся на побег.
После незабываемого унтера Воды мы имели возможность изо дня в день изучать этих доблестных представителей польского офицерства.
В моей памяти сохранились образы, почерпнутые из книг Генриха Сенкевича, которые мне довелось когда-то найти на полке моего первого наставника – сельского учителя. Как мало походили современные герои на своих предков, в которых природная жестокость все же сочеталась с «рыцарской благожелательностью» по отношению к слабым.
Капитан Вагнер, упитанный, розовощекий толстяк с гладко причесанными волосами и неизменной вонючей сигарой, торчавшей в уголке пухлых, слегка оттопыренных губ, больше походил на женщину, чем на бравого вояку, каким он хотел обязательно выглядеть. Толстый зад, туго обтянутый рейтузами, и короткие ноги, зажатые в желтые, начищенные до нестерпимого блеска краги, еще сильнее подчеркивали это сходство. Ходил он, переваливаясь с боку на бок, по-петушиному выпятив грудь и тонким, визгливым голосом разговаривал со своими подчиненными.
Он был неограниченным властелином здешних мест. Его каждый выход обставлялся подобающим его рангу и положению церемониалом.
Рядом с ним обычно шествовал его помощник, сухой поджарый поручик – пан Малиновский. В прошлом он был объездчиком в имении какого-то захудалого помещика. Его лошадиное лицо было обезображено оспой. Оловянные тусклые глаза, неприятный рот, обнажавший четыре гнилые зуба, длинные, нескладные руки, нервно сжимающие хлыст, – все заставляло предполагать наличие самых низменных инстинктов в этом человеке, один вид которого способен был внушать страх. К тому же от него исходил дурной запах, и пребывание на близком от него расстоянии вызывало непреодолимое физическое отвращение. Солдаты старались избегать с ним встреч. Он это чувствовал, и его обращение с ними мало отличалось от обращения с пленными.
Позади начальства почтительно следовали дежурный по лагерю, начальник канцелярии, старшие и младшие писаря, представители хозяйственной части и некто с повязкой Красного креста, в синих дымчатых очках.
Шествие замыкали несколько вооруженных солдат.
Капитан Вагнер, обмениваясь репликами со своими спутниками, совершал обход бараков. Ближайшему к двери узнику задавались стереотипные вопросы: есть ли у него жалобы на порядки, существующие в лагере, на качество пищи, на обращение с ним солдат?
Никому, разумеется, в голову не приходило исповедываться перед палачами. Но этого вовсе и не требовалось. Замешательство опрашиваемого, его молчание истолковывались как нежелание отвечать, как акт пассивного сопротивления.
Пан Вагнер медлительным жестом брал из рук своего помощника туго сгибающийся хлыст и, улыбаясь, отпускал несколько полновесных ударов на голову несчастного заключенного. Затем, пружинясь на каблуках, он прогуливался по узкому проходу между нарами и, выбирая очередную жертву, начинал процедуру отеческого опроса сначала.
Солдаты охраны лагеря боялись его, как огня. Он установил среди них систему круговой слежки и был в курсе малейших нарушений установленного им порядка. Этим объяснялись наши безуспешные до сих пор попытки войти в контакт с конвоирами.
За галичанами на нарах лежал, почти не вставая, больной. Он был в последней стадии туберкулеза, и пленные старались облегчить его участь всеми доступными им средствами. Был он раньше учителем в каком-то уездном городишке. Когда последний был занят поляками, на учителя донесли, что он путался с немцами. Кстати, и фамилия у него была немецкая: не то Фихтер, не то Рихтер. Его арестовали и несколько месяцев держали в бараке.
К этому больному повадился ходить Малиновский. Придет, велит себе подать табурет, сядет и начинает вести беседу. Больной стоит перед ним, а Малиновский допрашивает: хорошо ли было с немцами, да как немцы платили за продажу интересов Польши, да куда он деньги спрятал? Больной дрожит и валится с ног. Малиновский велит окатить его водой.
Вода уже не помогает – больной долго лежит без чувств. Тогда Малиновский уходит.
В бараке затишье. Разве иногда завоет кто-нибудь– не выдержат нервы. Товарищи сейчас же затыкают ему рот.
Когда участились попытки к бегству, высокое начальство еще больше усилило репрессии по отношению к пленным. За побег одного устанавливалась ответственность всех остающихся в бараке. Отбирались два человека для расстрела и еще третий – дежурный по бараку.
Эта решительная угроза произвела соответствующий эффект. Побеги временно прекратились.
Ни у кого из нас не возникало сомнений в том, что Вагнер и Малиновский будут проводить свою линию с последовательной жестокостью.
Однажды вечером, окончив работу по очистке уборных, я вернулся в барак. Ко мне подошел взволнованный Сорокин и сказал:
– Сегодня убежали два человека. Одного из них поймали, другому удалось унести ноги. Посторунок пошел с докладом к поручику.
Я понял причину отчаянного смятения Сорокина.
Самым мрачным нашим предположениям суждено было полностью оправдаться. Не прошло и пяти минут, как несколько солдат загнали внутрь всех пленных, бывших в этот день в наряде, предложили всем раздеться и лечь на скамьи. Шесть человек, вооруженных плетками, немедля начали очередное избиение.
На этот раз бежавшие рискнули осуществить свой план буквально среди бела дня.
Начальники наши дали волю накопившейся ярости.
Количество плеток каждому назначал Малиновский, исходя из оригинального арифметического подсчета.
– Сколько во всем бараке человек? – осведомился Малиновский у унтер-офицера.
– Пятьдесят.
– Дайте каждому по трети.
Это означало количество, равное трети населения барака.
Мы знали, что вслед за этим обычно следует дополнительная порция плеток для пленных по «национальному признаку». Малиновский добавлял евреям пяток или десяток ударов. Далее «премиально» удары добавлялись по территориальному признаку.
Мне, олонецкому крестьянину, всыпалась «нормальная» порция ударов, ибо Олонецкая губерния расположена была далеко от центров красной опасности – Петрограда и Москвы. Зато москвичам и петроградцам дополнительные удары назначались обязательно.
Как назло, Малиновский обладал хорошей памятью, очень скоро стал нас всех узнавать в лицо и отлично знал, кто из каких краев. Поэтому он был точен и редко ошибался.
Каждый из пленных честно получил полагающееся «по закону» Малиновского число плеток.
В этот день шло, как обычно.
Вдруг один из выпоротых, казак, доведенный до крайней степени отчаяния, вздумал апеллировать к гуманности польского офицера. Обратившись к поручику Малиновскому, он, плача, сказал:
– Ваше благородие, за что бьют-то меня?.. Ведь я служил в царской армии… Попал в плен к немцам, где провел свыше четырех лет… Возвращаясь домой, был задержан в Вильно и снова отправлен сюда… Я большевиков в глаза не видал… Помилуйте, отпустите домой!..
Речь его прерывалась, голос срывался, слезы лились из глаз.
– Кламишь! – заорал на казака Малиновский, выхватив из кобуры револьвер.
Раздался выстрел, и казак, сраженный пулей, как сноп, повалился на землю.
Но это не был еще конец.
После того как Малиновский на глазах у всех пленных застрелил казака, к нему приблизился старший нашего блока (десять бараков) и доложил, что имеется еще один пленный, настойчиво утверждающий, что он не большевик.
Поляки установили в лагере своеобразный регламент, согласно которому решительно все пленные, находящиеся в бараках, считались большевиками, причем к категории большевиков поляки относили даже детей.
– Где этот «не большевик»? – закричал Малиновский.
– Латыш, торговец, – продолжал докладывать старший, – говорит, что был задержан нашими в Вильно случайно. Клянется, что ненавидит большевиков, ссылается на свидетелей…
– Случайно! – перебил его Малиновский, – Знаем мы эти случайности. Ну-ка, давай его сюда!
Малиновскому указали на лежавшего неподалеку на земле толстого латыша, который громко стонал от боли. Раны на его теле обильно кровоточили.
По-видимому, латыш не видел расправы Малиновского с казаком, иначе он едва ли рискнул бы просить о милосердии, ссылаясь на свою ненависть к большевикам.
– Так ты не большевик? – ласково спросил его Малиновский.
– Нет, я не большевик, – рыдая ответил латыш. – Пощадите, у меня жена, дети. Дайте мне возможность вернуться к ним. За что вы меня мучаете?
Снова резкий выкрик «кламишь», и пуля Малиновского прострелила голову латышу, уложив его на месте.
Когда экзекуция над пленными нашего барака закончилась, Малиновский приказал начальнику блока выгнать на улицу всех пленных из остальных девяти бараков.
Конвоиры побежали в бараки и, избивая на ходу плеткой пленных, приказали всем выйти наружу и построиться в одну шеренгу.
Малиновский, обходя бараки, наблюдал за тем, как исполняют его приказание.
Ко мне подошел незнакомый унтер-офицер.
– Ходзь за мной! – приказал он.
Я покорно последовал за ним, не отдавая себе отчета, зачем он меня зовет.
Приготовился к худшему: к такой же нелепой смерти, какой погибли латыш и казак. Что значила моя жизнь или смерть в гигантском столкновении двух миров, старого и нового? Я не страшился смерти.
Унтер позвал еще одного из пленных и приказал нам взять носилки, лежавшие неподалеку.
Подошли к бараку, положили на носилки тело убитого Малиновским казака и понесли в покойницкую. Затем снова вернулись к баракам. Таким же порядком забрали тело латыша.
– Можете оставаться в покойницкой, пока там стихнет, – снисходительно сказал унтер.
Впоследствии я узнал, что он исполнял должность фельдшера. Запомнил его фамилию – Войдыло. Это был один из немногих, проявивших в отношении нас подобие гуманности.
Мы остались в покойницкой в соседстве с трупами.
«Ведь это были совсем недавно живые люди…» – подумал я.
Несколько часов прошло, пока улегся шум возле бараков.
Очевидно, экзекуция закончилась.
– Идем, – сказал товарищ из тринадцатого барака, – сюда могут случайно войти.
Мы взяли носилки и медленно направились к своему бараку. Там увидели безотрадную картину. Товарищи лежали на нарах и стонали. Вся их одежонка, и без того убогая, висела клочьями. Сквозь дыры виднелись на теле кровавые рубцы и раны.
– Петька, ты? – обрадовался Петровский. – А мы думали, что тебя повели на расстрел.
Подсел к нему, поделился своими мыслями.
Гнев, ярость против проклятых палачей душили нас с невероятной силой.
У Сорокина, метавшегося на нарах в бессильном отчаянии, пена выступила на губах.
Из женского барака доносятся вопли вперемешку с надрывным плачем детей.
Нам захотелось во что бы то ни стало выяснить, что там происходит.
Один из товарищей попросил конвоира проводить его в уборную. Вскоре он вернулся и, лихорадочно волнуясь, сообщил:
– Товарищи, там женщин донага раздевают и порют плетками.
В стрелковском лагере находились захваченные в советских госпиталях сестры милосердия. Поляки проявляли к ним особенную ненависть.
По мнению Малиновского, русские женщины обязаны были убивать своих мужей, сыновей, братьев в том случае, если они оказывались большевиками. А раз они этого не делали, значит, с женщинами в данном случае надо обходиться так же, как с большевиками.
Вопли все усиливаются.
Сорокин неожиданно рванулся к двери. Он машет кулаками и что-то бессвязно бормочет. Мы едва его успокаиваем.
– Убью, не хочу жить, не потерплю! Пусть расстреляют! Не позволю! Не могу! Трусы вы жалкие, прохвосты! Как можно столько терпеть, как земля вас носит после этого? Собаки, гады ползучие!
Мы перепугались. Не было никакого сомнения в том, что Сорокин, если мы не оттесним его от дверей, бросится на конвоира.
Петровский и Шалимов хватают Сорокина за плечи и, зажимая ему рот, уговаривают вернуться на место и не ставить под угрозу всех находящихся в бараке товарищей.
Этот аргумент как будто убеждает Сорокина, и он с поникшей головой и трясущимися губами медленно ложится на нары. Всю ночь его сотрясают конвульсивные рыдания.
После этой памятной расправы лагерь превратился в ад. Вагнер и Малиновский озверели. Набеги на бараки стали постоянным явлением. Избиения происходили по любому поводу.
Шли недели, но в нашем положении ничего не изменялось.
Нам казалось, что стрелковский лагерь – худший из польских лагерей. На самом же деле во всех лагерях Польши, как мы узнали впоследствии от новых пленных, была установлена единая система обращения с пленными, причем в нее вносились те или иные особенности, в зависимости от индивидуальности начальников лагеря.
Особенно страдала в последнее время, после генеральной порки, группа волынцев. Это были рослые ребята, занимавшие угол в самом конце барака.
С ними вместе жил казак, которого убил Малиновский.
Родина их Волынь сплошь покрыта лесами и топкими болотами. Деревушки бедные, грязные, хаты крыты соломой. Скот живет вместе с хозяевами под одной крышей. Железная дорога за сотни верст. Крестьяне верят в ведьм, домовых и злых духов, живущих на болотах. Испортится гребля на ближайшем болоте – и месяцами деревня оказывается отрезанной от ближайших сел. Народ там живет темный, забитый. При самодержавии прятался там в глуши, на лесных разработках, Петровский. Он хорошо знал их и рассказывал много о тамошней жизни.
Должен отметить странную вещь: Петровский редко говорил о своем прошлом. А если и говорил, то очень скупо. Между тем он прожил большую бурную жизнь революционера. А на вид ему было всего лет двадцать восемь – тридцать.
Уроженцев этих мест царское правительство обычно направляло на службу в гвардию. Забитые и невежественные, они беспрекословно подчинялись своим офицерам.
Волынцы нашего барака жили особняком, почти не разговаривая друг с другом, побираясь объедками, которыми брезгали даже в нашем лагере. Они истово крестились при всяком посещении Малиновского, и, очевидно, набожный казак по этой причине держался всегда вблизи их.
Эту группу почему-то особенно невзлюбил Малиновский. Может быть, потому, что его чем-нибудь обидели лесные люди в бытность его объездчиком, а он был до невероятности злопамятен. А может быть, «паны» внушали своим «холопам» ненависть к людям, которые жили в лесах.
Стоило Малиновскому взглянуть в угол, который они занимали, как начинались придирки и шли в ход плетки.
Волынцы покорно переносили все истязательства, боясь только одного: как бы их не лиши ли пайка.
Жил среди нас один помешанный. Когда начиналась порка, он сперва тихо трясся от беззвучного смеха, потом смех переходил в отрывистый истеричный хохот, на который прибегали встревоженные часовые.
Малиновский несколько раз избивал его до полусмерти, но пока помешанный не терял сознания, смех в бараке не затихал.
В промежутках между порками больной бродил среди пленных и жалобно подвывал. Станет близко и воет.
Сорокин однажды не сдержался, замахнулся на помешанного: уйди, мол.
Несчастный вздрогнул и захохотал.
Сильный удар сбросил Сорокина с нар. Шалимов быстро стал между Сорокиным и Петровским. Последний тяжело дышал. Лицо его исказилось яростью. Усилием воли он поборол в себе гнев, подошел к Сорокину и протянул ему руку.