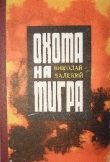Текст книги "В плену у белополяков"
Автор книги: Соломон Бройде
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
9. Чудесная встреча
Однажды утром, когда мы копали землю в саду, нам пришлось пережить нечто вроде испуга: неожиданно показалось двое польских солдат с винтовками в руках, а вслед за ними двигался сопровождаемый санитаром плетущийся на костылях человек в больничном халате. Его-то, как и санитара, мы не сразу заметили.
«Все кончено» – промелькнуло в моем сознания. Мы выданы с головой. Это пришли, чтобы взять нас.
Сердце заколотилось с бешеной быстротой. Такое ощущение я испытал, когда двенадцатилетним парнишкой тонул в реке. Помню, что в первые секунды моего погружения в воду я переживал ощущение дикого страха, но одновременно родилось невероятное спокойствие; я точно фиксировал свои мысли, молниеносно пробегавшие в сознании; казалось, что один человек тонул, а другой с берега с блистательной точностью впитывал в себя все мельчайшие ощущения утопавшего, переживая их вместе с ним.
Такое примерно ощущение пережил я, когда увидел польских солдат, что-то внутри трепетало в диком страхе, но некое второе «я» во мне с холодным, зорким и четким любопытством фиксировало мельчайшие оттенки моих переживаний. Длилось это впрочем не более двух-трех секунд.
Заметив человека на костылях, я, конечно, понял, что солдаты охраняют больного.
Каким образом он очутился в нашей больнице?
Появлений новичка казалось мне странным и уж во всяком случае настолько неожиданным, что выбивало из обычной колеи и требовало немедленных разъяснений.
Я постарался овладеть собой. Имею ли я право приблизиться к неизвестному? Как отнесутся к этому солдаты?
Больной присел на скамью неподалеку от нас. Я с самым невинным выражением спросил солдата:
– Что это за человек?
– Большевик, пся крев, – ответил он скорее добродушно, чем злобно. – Поймали на германской границе.
– Почему же он на костылях?
– А это его отработали наши ребята; пришлось в больницу поместить.
Неизвестный стал внимательно рассматривать меня. В глазах его вдруг мелькнула лукавая усмешка. Мне стало не по себе. Впечатление было такое, словно он что-то о нас знает.
– Сколько времени находится этот человек в больнице? – спросил я санитара.
– Да уж давно.
Незнакомец оказался, стало быть, нашим товарищем из польской братской партии. Он находился в отдельной палате под охраной солдат.
Только этим можно было объяснить, что мы мы ничего не знали о его существовании.
Весьма возможно, что он-то был осведомлен о нас, пленных, попавших в госпиталь.
Умеет ли он говорить по-русски? – подумал я. И тотчас сам себе ответил: конечно, умеет.
Копаясь в земле (нас временно поставили на работу в саду), я постарался приблизиться к нему настолько, чтобы он мог уловить мотив революционной песни, которую я мурлыкал себе под нос. В этом эксперименте заключалось некоторая опасность. Если больной на костылях и солдаты, его охраняющие – участники предательской инсценировки, то я рискую выдать себя и тем самым поставить под угрозу смерти не себя лишь, но и товарищей.
Вдруг почувствовался мне легкий толчок в спину. Больной улыбнулся мне добродушной, печальной улыбкой. Итак, он – наш, сомнений уже не оставалось. На душе сразу стало легко, радостно. Нужно было немедленно посоветоваться с Петровским – нашим признанным вождем, вместе с ним разработать тактический план связи с товарищем.
Вечером через уборщицу, возлюбленную Борисюка, мы решились передать Невядомскому – так звали его – записку. Получили приглашение «потолковать» в саду во время прогулки.
Встреча состоялась на другой день. Петровский взял на себя задачу обработать солдат. Чтобы усыпить бдительность стражи, он злобно обрушился на больного, обвиняя его в том, что коммунисты мешают польским патриотам завоевывать себе то место в Европе, на какое они, как великая нация, имеют право претендовать.
Солдаты, однако, далеко не пришли в восторг от патриотических филиппик Петровского. Все же этот ловкий ход сыграл свою роль. Бдительность стражей была теперь в значительной степени ослаблена. Вдобавок мы занимали какое-то служебное положение в госпитале и в представлении солдат были на линии «своих».
Невядомскому на вид было лет 30. Высокий, стройный с пристальными большими серыми глазами, он казался красивым, выхоленным баричем. Поначалу, нас всех это смутило, но его манера держать себя обличала в нем скромного и непритязательного товарища. Рыжекудрый силач невольно внушал к себе симпатию и доверие.
Между нами завязалась непринужденная беседа. Он сумел найти для нее удачную форму: он сам рассказывал, а мы слушали; тему выбрал он для начала нейтральную – его далекое прошлое. Мы понимали: то, что относится к настоящему дню и к дням, предшествовавшим нашей встрече будет сказано при случае в более подходящей обстановке.
– Варшава красивый город, Маршалковская улица, Лазенки, Бельведерская – прямо красота, проспекты, которых нет и в Европе, – восхищался столицей Польши Невядомский.
– Ну, а как живется в рабочих окраинах?
– Буды, Воля, Повонски, Чиста, Окота, – перечислял Невядомский. – Да, там не сладко. Посмотришь нищету рабочую и забудешь про проспект.
– Я варшавянин, детство свое хорошо запомнил, – начал медленно Невядомский.
– Рассказать, что ли? – с простодушной миной обратился он к солдатам.
– Чего же, рассказывай, – после недолгого колебания неопределенно пробормотал один из солдат. – Я сам из Варшавы, – если соврешь, поправлю!
– Стало быть, земляки, – улыбнулся Невядомский.
Все складывалось необычайно удачно. Петровский угостил «земляка» папироской.
Чтобы не вызывать подозрения, я старательно продолжал сажать грядки почти у самых ног Невядомского. Там грядкам было совсем не место, но ведь имел я право ошибаться. Петровский растянулся на траве. Им овладело лирическое настроение. Он буквально наслаждался встречей с поляком-коммунистом.
– Так вот, начал Невядомский, – помню я деревянный двухэтажный домик, в котором проживала моя семья и в нем маленькую комнатку под самой крышей. Зимой там царил ужасный холод, а летом дьявольская жара. Рядом с нами – кирпичный завод, вокруг которого мелкие деревянные хибарки тонули в дождливые дни в глинистом болоте. В хибарках этих жили рабочие кожевенных заводов, каменщики, кирпичники, продавцы песка.
В семье я был старшим. Мать варила обеды, стирала, летом уходила на свалку, где выбирала куски угля, а я заменял малышам родителей. Заорет один – ему пеленки меняю, другому надо есть давать. Помощи у соседа просить; я не мог: мать нас предусмотрительно запирала на замок.
В воскресные дни собирались во дворе рабочие, делились впечатлениями о своих хозяевах, начальниках, мастерах фабрик и заводов. В каждом доме жило до 40 семейств, почти все работали на кожевенных заводах Темплер-Шведе и Прейферов. На работу ходили пешком, мимо католического и еврейского кладбища. Вставать приходилось в пять часов утра, чтобы в шесть уже выйти из дому. Рабочие обычно старались идти группами, – так легче отбиться от хулиганов, их в нашем районе было много. В предместьи ютилось большое количество воров, мошенников, вообще всякая шпана, терроризировавшая рабочих. Сплошь и рядом полицейский входил в контакт с бандитами. Виновников преступления отпускали, а тех, кто имел наивность выдавать преступников, очень скоро отправляли к праотцам. Бандиты поражали нас – малышей – организованностью, решительностью и умением отстаивать свои интересы.
Невядомский осторожно посмотрел на своих конвоиров и замолчал, как бы оценивая мысленно, принимается ли солдатами его рассказ. Неожиданно отозвался Петровский.
– Ладно, ладно, ты нас против хозяев не агитируй, сами разберемся. – И сердито добавил – Чего тянешь, ведь тебе через тридцать минут с прогулки уходить, а начал издалека. Так, пожалуй, сегодня ничего путного и не расскажешь.
– На десятом году отец решил сделать из меня ученого, – продолжал Невядомский. – Вымыли меня в пруду, одели в костюм из чертовой кожи и повели в школу. Помещалась она в подвале, в одной комнате. Там было душно, тесно, маленькие окошки были забиты. «Что же это за школа, – подумал я – чему здесь учат?» Школа, как оказалось, была нелегальная. Обучение происходило на польском языке, а царская власть, проводившая беспощадную русификацию края, за это преследовала, закрывала школы, арестовывала учителей. Если сюда заглядывал неожиданно кто-нибудь посторонний, школа моментально превращалась в мастерскую, где дети занимались тем, что… пришивали пуговицы к картону.
Я начал учиться. Впервые ровно в два часа, уже утомленный домашней работой, поплелся я в школу. Учитель был пьян. За столом 20 мальчиков и девочек шили. Одновременно шел урок немецкого языка. Сдавала свой урок шестнадцатилетняя девочка – дочь местного конокрада и собственника большого дома. Я услыхал новые для меня слова.
– Их бин ейн беккер, – произнесла девочка.
И вслед за тем неожиданно для учителя громко крикнула:
– Ду бист безофен, – что в переводе означает: «ты пьян».
– Кто пьян! – заорал учитель. – Ложись немедленно.
Несколько мальчишек с большой охотой схватили девочку, поволокли ее на скамейку, задрали ей, сгоравшей от стыда и страха, юбки, белье и с готовностью подали учителю розги. Взбешенный дерзостью девушки, учитель принялся ее сечь. Вскоре на нежном теле наказываемой появились багровые полосы. Однако учитель продолжал неистово стегать. Выступили капли крови. Переставшая рыдать девушка упала без чувств со скамьи на пол.
Мне стало страшно.
Вот она какая это школа!
Чем же отличается учитель от бандита?
Бандит подкалывает ножиком и убегает, а учитель, с разрешения родителей и начальства производит над детьми мучительную экзекуцию на глазах у всех. Я юркнул за двери и готовился уже незаметно ускользнуть. Мальчуганы меня заметили. Схватив за шиворот, выволокли на середину комнаты и поставили перед грозным учителем. Я горько заплакал, очутившись на страшной скамье, где только что так жестоко выпороли бедную девочку. С меня сняли портки; учитель на первый раз, снизойдя ко мне, как к новичку, влепил мне всего пять розог, сурово подчеркнув, что это только для начала, а когда привыкну, то выдержу и двадцать.
Взял я иголки и картон и начал учебу. Пришитые к картону пуговицы пересчитывались и нами же относились в магазин в Варшаве – для продажи.
Учился старательно, очень не хотелось быть вновь высеченным. Учитель казалось забыл про меня. Обучались в этой школе некоторые из ребят и русскому языку. Это были те, кто в дальнейшем отправлялись на учебу в казенную городскую школу. К этой группе принадлежал и я. В перерывах мальчики показывали мне русские буквы и первая буква, которую я запомнил, была буква «ж», первое слово, которое я научился произносить по-русски начиналось с этой же буквы. Это слово чаще всего употреблялось в нашей школе, особенно тогда, когда приходилось спускать штаны и ложиться на скамью. В течение первых двух недель я три раза ложился под розги. Оказалось, что я был счастливее других. Средняя норма для первых двух недель определялась цифрой 10. Когда я рискнул сообщить отцу, что меня в школе порют розгами, он безразличным и мало обнадеживающим тоном сказал, что «раз бьют, значит есть за что. Он, отец, за меня деньги платит, а я не хочу учиться. Спасибо учителю, что наставляет меня на путь истинный».
– Если, – добавил отец, – и дальше не исправишься, отдам тебя в учебу сапожнику.
Отец был неграмотным и мучился этим; его считали революционно-настроенным рабочим. В тот период часто появлялись прокламации. Получали их рабочие часто дома вечером, утром передавали друг другу. Отец не мог их сам одолеть и рассчитывал на то, что я буду его грамотеем.
За каждую неправильно произнесенную русскую букву следовал в школе пинок в нос или ухо. Кричать я не решался.
Начал наконец чтение по слогам. Помню одну из суббот. Темный вечер. На дворе дождь, а я вместе с отцом и матерью при свете маленькой лампочки при закрытых ставнях, и запертых на ключ дверях, потихоньку по слогам, мучаясь над неразборчивым шрифтом, читаем воззвание к рабочим:
«Царское правительство, ге-не-ра-лы, чи-нов-ники, сат-ра-пы издеваются над польским населением. Рабочие, организуйте боевые организации. Избивайте царских собак, глаз за глаз, зуб за зуб».
Чтение продолжалось мучительно долго. Два битых часа истратил я, чтобы одолеть одно из таких воззвании. Вспотели мы все от затраченных на это дело усилий. Мать заплакала неизвестно почему. Отец впервые за всю мою жизнь прижал меня к себе, неловко потянулся губами к моей щеке, очевидно хотел поцеловать, а потом раздумал. Только много позднее я понял, какой это был трогательный и радостный признак. Меня уложили спать, были ко мне в тот вечер родители необычайно внимательны. Слышал, как отец потихоньку спорил с матерью.
– Дура, – говорил он ей, – Рогальский, Сивек, Радомский и даже Скаврон имеют револьверы. Почему бы и мне не купить. Начнется скоро дело, пригодится.
Что начинается и для чего пригодится, почему отец хотел купить револьвер, – этого я не понимал. Потом открыл место, куда отец прятал воззвания. Изредка читал их.
Помню фабрику. От всех дурно пахнет. В самом помещении фабрики вонь невыносимая…
Солдаты, внимательно слушавшие рассказ Невядомского, стали весело смеяться. Это было добрым предзнаменованием. Срок, установленный Невядомскому для прогулок, кончался, а нам так хотелось продлить беседу. Мы посмотрели на солдат. Они, казалось, расположились к Невядомскому, но быстро спохватились, увидев в саду Михальского.
Он озабоченно бежал к нашей группе – мы отодвинулись в сторону.
– Скорее ведите его обратно, следователь приехал.
Невядомский сразу стал сумрачным.
– Мучает меня этот следователь, – сказал он озабоченно, – говорит, что фамилия моя иная. Уверяет, что я из Германии явился сюда для пропаганды среди войска и что бежал в Германию из Варшавской тюрьмы. Надо мной издеваются, допрашивают, грозят повесить…
Мы сразу поняли, в чем дело. Этим самым Невядомский давал понять, что его избили в охранке, вводил нас в курс своих преступлений.
– Ну ладно, пойдем, – сказал один из солдат – завтра докончишь. Больно складно рассказываешь. Не заметили мы, как и час прошел.
– Я уж договорю, не беспокойтесь, – многозначительно сказал на прощанье Невядомский.
Мы остались одни. Вечером Исаченко, Борисюк, я и Петровский сошлись за ужином. Поделился с ними своими сомнениями. Совершенно неожиданно для Петровского, уже успевшего отнестись к Невядомскому с доверием, я высказал предположение, что Невядомский может быть опытным, тонким пшиком польской охранки, специально приставленным, чтобы нас расшифровать…
– Радуйся, – раздраженно сказал Петровский, который больше всех нас дорожил иллюзией: – он еще нас может быть не расшифровал, а ты его, изволите ли видеть, уже раскрыл. Дурак ты, неужели по глазам этого человека, измученного, надорванного не сумел узнать? Да и какой резон выкидывать охранке такие фортели. Были бы у них подои зрения не затруднились бы они свои подозрения проверить и бросили бы нас в тюрьму надолго. Нет, брат, – добавил Петровский, – не с того конца подошел, с Невядомским надо связаться, может быть он нам новые возможности откроет. Мы ведь ничего не знаем о нашей стране, – в отчаянии крикнул он.
– А почему нам его с собой не прихватить! – буркнул Исаченко. – В самом деле, ведь это просто, а главное… заманчиво.
Мы на минуту задумались. Что же все таки сделать, чтобы переговорить с ним наедине? Исаченко предложил снова использовать добрые отношения Борисюка с полькой, передать записку, написанную измененным почерком и без подписей.
Петровский, однако, в этом случае проявил максимальную осторожность: предложил никого из администрации госпиталя в наши дела не вмешивать.
– А вдруг донесут! Вот на этом-то мы засыпемся! – авторитетно пояснил Борисюк.
Целыми часами размышлял я о встрече с Невядомским. Не давала покоя мысль о том, что рядом взаперти находится родной нам товарищ и брат – один из тех, кто борется за раскрепощение рабочего класса Польши от капиталистического ига, один из тех, кто так же, как и мы, прошел через тюрьмы, допросы, избиения.
Мы ломали себе без конца головы над тем, как бы найти лазейку, чтобы переброситься без свидетелей хоть несколькими словами с товарищем. Выдумывали самые фантастические проекты.
Помог случай. Как-то ночью, на другой день после встречи с Невядомским в саду, столкнулся Петровский с ним в уборной.
Невядомский, как оказалось, симулировал свою болезнь в госпитале, жаловался на суставный ревматизм, якобы лишавший его возможности ходить. Он успел шепнуть Петровскому, что будет аккуратно выходить на прогулки в сад, куда просил и нас по возможности пробираться.
В этой короткой беседе Петровский, однако, не выдал себя до конца.
Но Невядомский не нуждался в подробностях, – и ни о чем не спрашивал.
Очевидно, успел себе составить о нас верное впечатление.
Жить нам стало в больнице легче. Как-никак мы были уже не одни.
Встреча с Невядомским состоялась в саду через два дня. Его вновь вывели на прогулку. Из двух конвоиров, сопровождавших его, на этот раз один оказался знакомым. Нам собственно хотелось вести разговор, пусть даже на эзоповском языке, на более близкие темы. Мы бы, конечно, друг друга великолепно поняли.
Новый конвоир производил впечатление человека грамотного и смышленого. Кто его знает, чем он дышит – это заставляло нас быть настороже. Второй – наш земляк – добродушный крестьянский парень, если не охотно, то во всяком случае без всякого увлечения выполнял при Невядомском обязанности стража. Шинель на этом конвоире сидела мешковато; в сапогах он буквально утопал, так велики они были; вся его фигура не давала впечатления той молодцеватости и выправки, которой так старались добиться от польских солдат-крестьян буржуазные панские офицеры.
Считаясь с тем, что один из конвоиров не был проверен, мы отказались от мысли взять инициативу в свои руки.
– Так расскажи, брат, еще чего-нибудь! – сказал Петровский Невядомскому.
На этот раз был с нами в саду и Исаченко.
Невядомский в первый раз вел свой рассказ на польском языке, вставляя кое-где русские фразы. На этот раз он заговорил по-русски – конвоиры не протестовали.
Мы поняли его расчет – он, очевидно, хотел контрабандой на русском языке, в расчете, что конвоиры не все поймут, кое-что нам сообщить.
– Вернемся снова к тому, как я одолевал науку. Помощник учителя преподавал мне русский язык. Был он повежливей, но пинки щедро раздавал направо и налево. По норме мы должны были в течение урока пришить определенное количество пуговиц к картону. Таким образом, производство не отрывалось от науки. Какой это был для меня праздник, когда я научился читать сразу, не по слогам. Бывало вернешься домой, подождешь пока родители улягутся спать, садишься за стол и читаешь первое, что попадалось под руку.
Прошел год учебы, отец решил меня двинуть дальше. Как-то в один чудесный день взяла меня мать за руку и повела в Варшаву. Пришли мы, стало быть, с матерью в школу, на дверях которой я прочитал «Начальное городское училище». Вышел учитель, поговорил с матерью, та сунула ему что-то в руку и он проговорил, обращаясь ко мне, предлинную фразу на русском языке.
Я понял очень мало, а мать ничего. Она робко попросила его пояснить. Он резко оборвал ее: «Здесь русская школа и никому по-польски говорить не разрешается». Но потом снизошел и перевел свою фразу на польский язык. «Метрику пришли».
До 8 лет мне не хватало несколько месяцев. Я сам чуть-чуть помазал кисточкой 93-й год и переделал на 94-й. На следующий день отправился в школу. Ребятишек там оказалось около 40. Здесь запрещалось говорить по-польски даже в перерывах. Секли не розгами, штанишки спускали и пребольно били линейкой. Иногда для разнообразия поднимали за волосы на несколько сантиметров от полу.
В перерывах я попробовал заговаривать с рабочими часовой мастерской, помещавшейся в подвале под школой. Рабочие не понимали или не хотели понимать по-русски. Говорить об этом не решался никому, потому что поставили бы на колени. Учитель, поляк Мациевский, старался изо всех сил, чтобы среди его учеников был крепок дух российский. Ежедневно 3–4 мальчугана жалостливо выглядывали из-за большой доски, где они стояли на коленях за разговоры на польском языке. Бывало и так, что раздраженный упорством мальчиков, плохо владевших русским языком, учитель схватывал их за шиворот, укладывал себе на колени и беспощадно бил линейкой. Экзекуция кончалась только в том случае, если ломалась линейка или уставал цербер. Обида, злость, горечь – толкали мальчишек на еще большее упорство. Дежурные, которые записывали в перерывах говоривших по-польски, вечером избивались сами, так как тоже переходили на польскую речь.
Два раза в неделю происходили уроки закона божьего. Преподавателем этого предмета был ксендз Мешковский из костела на улице Лешно. Это был еще молодой человек с ярко выраженными наклонностями садиста. Ему, по-видимому, нравилось мучить мальчишек.
Им старательно внушали: «Бойся бога, ксендза и учителя».
Нас заставляли каждое воскресение! ходить в костел молиться. Однажды стоя в костеле, я наступил товарищу нечаянно на ногу. Тот стукнул меня по уху. На наше несчастье драку заметил ксендз. Он вытащил меня за шиворот из толпы, протащил через весь костел до алтаря и выбросил через окно в садик. Сначала стало страшно – что же теперь со мной сделает бог. Но, очевидно, богу было до меня очень мало дела. Птички продолжали петь, солнце светить, стоял безоблачный ясный день. Ничто кругом не говорило о гневе божьем. Я стал чувствовать себя совсем свободно. Вздумал тут же смастерить из кирпичного щебня западню для птиц. Увлекся своим занятием и не заметил, как передо мной очутился ксендз. Он меня заново отшлепал, связал веревкой кирпичи, взвалил мне все это на спину, поставил на колени и заявил:
– Перед образом господа бога ты всю правду мне скажи, а о разговоре моем с тобой никому, даже отцу с матерью, не рассказывай. Если скажешь – ослепнешь, оглохнешь и язык у тебя засохнет.
Я задрожал, мне стало страшно.
И тогда посыпались на меня вопросы:
– Кто твой отец?
– Чернорабочий на кожевенном заводе.
– Он, конечно, социалист?
От страха у меня совсем запрыгало сердце. Что такое социалист я понимал, знал что богатые их не любят, а у ксендза были золотые часы и лакированные ботинки, Стало быть, и он богатый. Социалистов сажают в тюрьму, их бьют, а полицией командуют генералы и приставы.
Чего от меня хочет ксендз? Социалисты читают прокламации, подписанные РСДРП или ППС.
Дрожь пробежала у меня по телу. Слезы застлали глаза.
Я разрыдался и упал на землю.
– Дурачок, – ласково сказал мне ксендз. Ведь я поляк, стало быть стою за рабочих, хочу им помочь, но хочу знать, сколько социалистов на заводе, хочу их всех объединить, не знаю только, где они живут. Если твой отец социалист, то я и ему помогу. Может быть ты знаешь товарищей отца, тоже социалистов. Расскажи мне.
Ласковый тон ксендза меня не обманул.
Сквозь слезы я упрямо прошептал: «Не знаю».
Удар жестокий, могущий свалить с ног быка, оглушил меня.
– Мерзость ты, зря тебя святая земля носит, – сказал ксендз, – говори, а то убью.
Я молчал и плакал.
– Где живешь?
– На Будах.
– Стало быть будовский бандит. Говори, а то засеку.
– Ничего не знаю, – упорно твердил я.
Ксендз махнул на меня рукой, очевидно, понял, что из меня ничего не вытянешь. Тогда стал расспрашивать, что говорят в школе о нем и про других учителей. Любят ли школьники русский язык, не попадает ли к нам подозрительная литература, листовки?
У меня развязался язык; сообщил охотно, что в перерывах мы все говорим по-польски, неохотно занимаемся русским языком. Ксендз просиял от удовольствия, и оставил меня в покое.
Я шел домой, размышляя над тем, что значит слово «Социалист». Примерный урок на эту тему я только что получил от ксендза.
Через три дня после этой истории сама жизнь преподнесла мне разъяснение слава «социалист».
Как-то ночью разбудили нас сильные толчки в дверь. Отец подошел к дверям и спросил: «Кто?»
– Телеграмма, – услышали мы в ответ.
Мои родители от роду ни от кого писем не получали. Отец открыл дверь. В комнату ворвались сразу несколько человек. В темноте нельзя было разобрать, кто эти люди.
Мать стала кричать:
– Иезус, Мария, зажигай свет, что тут происходит?
Она решила, что к нам пожаловали бандиты для расправы.
Кто-то догадался зажечь спичку и я сразу увидел, кто были наши гости: полиция и солдаты.
Я юркнул ловко между ногами полицейских и выбежал в коридор, оттуда – во двор, весь заполненный полицией и солдатами. Отовсюду слышались тревожные крики и стоны. Вынырнул через двор в маленький флигелек, где жила семья хорошо известного среди рабочих боевика Рогальского. Толкнул слегка дверь– никто не ответил; тогда толкнул ее сильнее. Дело было ночью, а ведь в этом флигельке, где жил Рогальский, несколько дней тому назад умерла старуха. Мать мне внушала, что у покойной остались деньги, и она каждую ночь приходила к дверям, чтобы подкараулить свое добро, и при этом страшно скрежетала зубами. Как на зло, никто не откликался. Пот струился у меня с лица. Ноги дрожали. Казалось, вот-вот покойница схватит меня мертвыми руками. Открылась, наконец, дверь. На пороге стоял сам Стефан Рогальский – его называли «Стальным» (кличка среди рабочих). Стефан был молчаливым молодым парнем лет 18. Работал он на кожевенном заводе. Сразу сообразил в чем дело и втащил меня в комнату.
– У нас во дворе полиция и войска, – успел я сказать.
С быстротой молнии бросился он шарить по кроватям и ящикам. Стефан вытащил что-то из угла и начал быстро заворачивать в трубку. Сестра его стала одеваться, запихивая под юбку бумагу. Один старый Рогальский кричал и ругался.
Стефан сунул мне что-то тяжелое в руки и скомандовал:
– Неси в огород и спрячь, но так, чтобы не нашли!
Быстро вытолкнул меня в коридор, где я снова очутился в непроницаемой темени во власти жуткого страха.
Я еще раньше слышал о бомбах, в голове мелькнула мысль: а если они у меня в руках и я не удержу одну из них? Что будет; если она разорвется?
Думать долго не пришлось. В коридор ввалилась куча солдат, которые прикладами стали бить о пол и двери.
Я спрятался в угол и, затаив дыхание, ждал развития событий.
У Рогальского дверь упорно не открывалась. Чей-то голос из его комнаты по-польски произнес: «Кто там?»
– Полиция, – яростно произнесли в ответ. – Отоприте, сволочи!
Только после этого дверь, и то не сразу, открылась. Полицейские вместе с солдатами ввалились в комнату Рогальского. Я понесся к выходу во двор. Но и там оказались полицейские. Вернулся обратно под лестницу, сложил там свою тяжелую ношу и снова направился к выходу. Но уже через секунду сообразил: ведь мне поручено было снести сверток на огород и хорошо его запрятать. Вернулся за ношей и побежал к двери. Авось полицейские не увидят, я ведь маленький.
– Ты что, братик, делаешь здесь? – спросил меня стоявший у выхода из коридора во двор солдат.
– Господин учитель, до ветру хочу.
Полицейский расхохотался. Ему понравилась фраза, заученная в школе. По-видимому и ему за нее не раз попадало.
– Иди к черту! – последовал грубый ответ.
Как стрела, понесся я через двор к забору, перескочил через него на другую сторону.
Сколько здесь вкусных яблок, груш, вишен, крыжовника!
Но я знал, что в саду две злые собаки. О них я вспомнил, когда добрался до первого дерева, на которое и вскарабкался.
Через несколько секунд мне показалось, что кто-то движется по саду в белом длинном балахоне. В самом деле, вслед за мной на дерево начала карабкаться какая-то фигура. Волосы поднялись на моей голове дыбом. Я лезу все выше и выше. Дальше уже ползти нельзя, ветки тонкие, гнутся под моей тяжестью. Холод сжимает сердце, а кто-то в белом поднимается по дереву и кряхтит. Страх обуял меня, решаю прыгнуть с дерева.
В последний раз смотрю вниз и в это время слышу восклицание: «Хвороба!»
Радости моей не было границ. Так ругаться мог только Янек, сын каменщика, работающий на постройке вместе с отцом. Ему не было еще семи лет, но он показал метрику, в которой ему было поставлено 13, и был допущен к работе. Пыхтел он всегда как самовар. Говорили, что у него астма. Хорошо иметь такую астму. Все мальчишки ему завидовали. Часто получал он от врача лепешки вкусные, сладкие, с каким-то странным запахом. Янек был мальчик не из пугливых. Однажды ночью он один прошел через кладбище, не боялся заходить в темные сараи.
– Это ты, Владек? – сказал Янек. – А я думал, что наверху полицейский, хотел его спугнуть. Посмотри, что у меня.
Я спустился. Он показал мне громадный револьвер.
– Ты и держи свой револьвер! – с гордостью ответил я, – у меня в руках две бомбы.
– Врешь, хвороба, покажи, а то не поверю!
Уселись поудобнее. Начали разматывать тряпки и вдруг что-то тяжелое переваливается через мои пальцы и, ударяясь на лету о ветви дерева, падает на землю.
Мы прижались сильнее друг к друг в тягостном ожидании взрыва.
Прошло несколько минут. Взрыва не последовало. Стали разматывать тряпки дальше. На руках у меня оказались 2–3 тяжелые коробки и револьверы. Стало быть ни одной бомбы, если не считать той, что упала вниз.
Янек спрыгнул с дерева, пошарил руками около ствола и нашел большую жестяную коробку. Попробовал ее открыть, ничего не получилось.
Я очутился вскоре возле него. Оказалось, что когда полицейский вошел в комнату к отцу Янека, он выскочил через окно на крышу, захватил спрятанный там отцом револьвер, спустился по водосточной трубе вниз и через забор махнул в сад. Полицейский за ним погнался, но Янека и след простыл.
Мы беззаботно занимались нашими новыми игрушками. Стало светать. Со двора донесся гул голосов и выкрики женщин. Мы были в одних рубашонках и почувствовали холод. Решили поесть фруктов. Сорвали несколько груш, по они были тверды как камни. Янек объяснил мне, что их надо делать мягкими, ударяя о сук. С увлечением занялся этой работой. Вдруг грохнул выстрел. Кто-то перепрыгнул через забор и понесся по саду. За ним – два-три человека. Снова выстрелы.
Мы влезли на дерево. В сад ввалилась ватага полицейских.
– Прыгай! – приказал Янек.
В течение секунды мы очутились внизу и, прижимая к груди револьверы и коробки, бросились бежать. Полицейские заметили нас, послышались выстрелы и крики: «Стой, стрелять будем!»
Как зайцы, домчались мы до забора, перепрыгнули через него и с обрыва скатились к пруду. Там в высокой траве можно было спрятаться. Сидя по пупки в воде, прислушивались, не идет ли полиция. Испуганные лягушки снова начали свою музыку. Солнце поднималось. В наши животы стали впиваться пиявки. Янек не выдержал, мужество оставило его. Он стал плакать. Вылезли из тины, побежали по берегу и захохотали. Оба были вымазаны, в одних рубашках, нос у меня был в крови, у Янека оказались припухшими глаза. Почувствовал, что болят пятки.