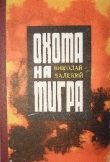Текст книги "В плену у белополяков"
Автор книги: Соломон Бройде
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Янек отправился в наш двор на разведку.
Между нами было условлено, что если его подстрелят, то я из мальчиков создам боевую организацию, вооружу их и буду мстить за смерть Янека.
Он явился вскоре одетым, принес мне штанишки и сообщил, что полиции нет, а матери ищут нас и обещают всыпать. Арестовали, как оказалось, многих рабочих. Стефана поймать не удалось. Револьверы Стефана мы спрятали в траву у пруда. Вскоре он явился, приказал нам достать револьверы, получил их и исчез.
Мы заслушались рассказов Невядомского. Тягостно было и на этот раз расставаться.
Конвоиры слушали его с таким же напряженным вниманием, как и мы.
Невядомский простился с нами на этот раз сердечно. Пожал Петровскому и мне руку. Конвоиры ему не мешали. Очевидно он расположил их к себе своей простотой.
Ведь оба они были крестьянами и почувствовали очевидно в нем не чуждого человека.
Когда Невядомского увели, Петровский стал философствовать.
Он говорил о том, что польский народ будет иметь свой Октябрь, так же как и мы. Таких как Невядомский в Польше сотни, тысячи, миллионы из рабочих и крестьян; они помнят панов, протянут нам руку и создадут у себя социалистическую республику, вместе с нами будут бороться за мировую революцию.
Глаза у Петровского разгорелись.
Мы и сами хорошо знали, что польским рабочим и крестьянам чужда мечта о великой Польше. Хотя им в мозги упорно старались богатые паны вбить мысль о захвате Украины, Белоруссии, Галиции. Рабочему и крестьянину прежде всего нужен был хлеб, мир, революция, борьба за освобожденный труд, за торжество пролетариата, а не Данциг, Вильна, польский коридор, Одесса, Харьков, Киев.
Невядомский напомнил всем нам о борьбе с капитализмом, которую братски вели до захвата Польши немцами польские рабочие плечом к плечу с русскими пролетариями.
– Ладно, – успокоил я Петровского, – пока Невядомский и ему подобные находятся в тюрьмах, – мы с тобой в плену. Задача заключается в том, чтобы выбраться из этого проклятого места.
Невядомский на свободе будет собирать еще сотни и тысячи борцов за дело революции.
В следующие две встречи – они были последними – Невядомский – или попросту Владек – рассказал нам о своей юности.
Первое боевое крещение он получил в одной из рабочих демонстраций в Варшаве. Было ему тогда 14 лет – крепко врезался в его памяти этот день.
– Мы направились, – рассказывал он, – через площадь Кецелего, встретили кучу рабочих, шедших к Вольской заставе. Не доходя Огородовой улицы, рабочим преградила дорогу полиция. Мальчуганы бежали впереди, их пропустили, но рабочих начали разгонять. Мальчуганы попробовали вернуться обратно, они ухитрились проскользнуть между полицейских. Рабочие начали напирать на полицейских, свистя и ругаясь. Полетели камни. Раздались крики, сзади оказались казаки. И действительно от Огородовой улицы налетали казаки. Рабочие разделились на две группы – часть налегала на полицейских, пробираясь в сторону Вольской заставы, другая же часть повернулась к казакам, бросая в них вырванные из мостовой булыжники. Рабочие наконец прорвали кордон и пошли по Холодной улице в сторону пивоваренного завода Хабербуш и Нишле. Там сотни их шли не только по тротуарам, но и посредине улицы. Раздались выстрелы. Мальчуганы бежали посредине улицы, не зная куда деться. Меня подхватил под руку какой-то мужчина, и, увлекая за собой, вбежал в ворота дома на Холодной улице. Там оказалось уже несколько десятков мужчин, женщин и детей.
У завода Хабербуша и Нишле было убито 2 рабочих и несколько человек ранено.
Возвращаясь домой, я по дороге услышал о том, что завтра будет всеобщая забастовка и что всем рабочим придется выйти на улицу, для того, чтобы протестовать против убийства и требовать сокращения рабочего дня и повышения заработной платы.
Мы шли мирно домой, но в это время неожиданно из-за угла вылетела кучка казаков, набросилась на нас и стала избивать. Одного из них мы сумели стащить с лошади, я вырвал у него саблю и ударил его по голове. Меня же другой казак рубанул в этот момент по плечу. Я невзвидел света от боли, меня подхватили под руки товарищи и поволокли на квартиру к одному из рабочих, где я и провалялся около шести недель, пока рана не зажила.
Встал я на ноги законченным революционером, отдавая себе ясно отчет в том, что дальше должен я делать для освобождения рабочего класса…
Петровский с опаской поглядел на солдат – конвоиров Владека. Тот усмехнулся, похлопал Петровского по плечу и сказал:
– Ты, друг, не беспокойся. С ними я нашел общий язык. Они ведь не больше чем крестьянские парни, обманутые капиталистами и помещиками, погнавшими их на войну для захвата чужих территорий и удушения Советской власти. Мы с ними ночами помногу беседуем.
Парни ухмылялись.
Все было слишком просто, но это было так.
Много еще нам рассказывал Владек, а мы не решались предложить ему принять участие в задуманном нами бегстве.
– Мне, друзья, – сказал он как-то, словно угадывая наши мысли, – надо пробраться обратно в Варшаву. Я ведь пекарь – вся армия пекарей меня знает, верит, я, наконец, там один из работников большевистского подполья. Меня там арестовали в последний раз при неожиданных обстоятельствах.
– В союзе пекарей в начале 1918 года собрался кружок около 40 человек, на котором рассматривав лось воззвание ППС. ППСовцы обиделись, что немцы, пообещав свободную независимую Польшу, подвели. Из так называемого Королевства Польского выделяли Холмскую губернию. Заслуги ППС за посылку тысяч молодых людей в немецкую армию немцами не были оценены.
Ведя революционную линию, мы на митингах всегда объясняли, что польские рабочие должны вести борьбу с милитаризмом как немецким, так и вновь рождающимся польским. Я открыл собрание и заявил товарищам, что мы должны помочь русским рабочим и крестьянам, которые покончили со своей буржуазией и взяли власть в свои руки; должны начать в Польше революционную борьбу, а движение, направленное против милитаризма, поддерживать. На сей раз польская социалистическая партия вместе с национальными группами, призывает ко всеобщей забастовке и к манифестации на Театральной площади против немецкого насилия. Мы пойдем тоже на Театральную площадь, но лозунги наши будут: «Долой немецкий милитаризм, да здравствует Советская Польша».
Уже почти к концу собрания, когда были распределены роли среди собравшихся пекарей, где и кто должен выступать на намеченных завтра собраниях, вдруг открылась дверь и два немецких шпика с револьверами в руках вошли в комнату, крича: «Не поднимайтесь с мест, руки вверх!»
Несколько человек быстро сорвались с места, схватили немцев за руки, повалили на землю, а все остальные устремились к выходу. В первую очередь надо было выпустить меня и представителя Варшавского Комитета. Я только в декабре 17-го года был выпущен из немецкой тюрьмы Хафельберг, а член Варшавского Комитета был на подпольном положении. И мне и ему больше всего досталось бы, если бы немцы сумели нас задержать.
Очутившись на улице, я решил подождать. Немцы, перепуганные насилием, растерялись и почти все собравшиеся сумели уйти, за исключением Правления союза пекарей. Немцам объяснили, что случилось недоразумение. Происходило собрание Правления, все собравшиеся были уверены, что это – налет бандитов. Немцы отобрали паспорта у 7 человек и, успокоившись, заявили, что немецкая власть готовится к тому, чтобы задушить большевистское движение.
На следующий день на Вольской улице ППС созвало собрание, на котором должен был выступать один из вождей ППС – Иодко. Пекари, как всегда, явились на это собрание в значительном количестве. В зале кино «Экспресс» чувствовалось, что большевики имеют большинство. Как только началось собрание, рабочие с мест начали кричать: «Долой немецкий милитаризм, да здравствует Советская Россия, да здравствует Советская Польша!»
Иодко закричал с трибуны: «Русские шпики мешают нам вести деловое собрание, предлагаю митинг кончить!»
Тогда я пробрался к трибуне и сказал:
«Хотя ППС распускает собрание, но мы все-таки будем его вести, предлагаю никому не уходить, митинг продолжается!»
Три четверти зала осталось, выбрали президиум и я заявил, что мы должны последовать примеру русских рабочих и крестьян, мобилизовав всех оставшихся рабочих Варшавы, объявить 18 февраля всеобщую забастовку. Все рабочие до одного должны выйти на улицу, чтобы протестовать против немецкого насилия, против войны с Советским Союзом.
Рабочие должны обратиться к немецким солдатам и разъяснить им, что борьба, которая ведется против Советского Союза – это борьба против тех же рабочих, их братьев.
В этот момент сильный отряд немецкой полиции с солдатами ворвался в зал и началось избиение.
С трибуны и среди рабочих раздались возгласы, обращенные к немецким солдатам:
– Бросьте оружие, выступайте против ваших офицеров – ваши жены и дети умирают с голоду в Германии. Единым фронтом выступайте против немецкой и всемирной буржуазии.
Солдаты, несмотря на крики офицеров и шуцманов, все-таки делали только вид, что бьют и толкают рабочих.
Выталкиваемые полицией и солдатами рабочие вышли на улицу. Один из рабочих быстро поднял вверх приготовленное красное знамя, и группа в 300 человек с пением «Красного Знамени» двинулась в сторону Холадной улицы. С противоположной стороны новый немецкий отряд, который был спрятан в воротах Вольской улицы, набросился на рабочих. Началась схватка. Немцы старались захватить красное знамя. Было арестовано около 50 человек, но знамя осталось в руках рабочих. В тот же день вечером в Союзе пекарей состоялось собрание актива. Явилось на него свыше 100 человек. От Варшавского комитета партии докладчиком был тов. Зоха, которая заявила, что на 17 февраля нами, большевиками королевства Польского и Литвы, объявлена всеобщая забастовка. Варшавский комитет надеется, что мы приложим все усилия, чтобы помочь ему в проведении всеобщей забастовки. Мы должны были выделить лучших товарищей, чтобы направить их на Варшавский трамвай, дезинфекционные заводы, водопровод, электростанцию.
Я заявил:
– От имени нашего актива могу заверить Центральный Комитет партии, что эту работу мы берем на себя и выполним ее: ни один рабочий завтра не станет на работу. Немцы приготовились, – у всех фабрик и заводов будут немецкие отряды, которые помогут штрейкбрехерам. Я лично со Стахом и несколькими товарищами беру на себя дезинфекционные заводы. Мураш должен взять водопровод. Матейко – электростанцию. Пуцель – трамвай.
Разбившись на группы, мы принялись обсуждать, как лучше всего провести работу и условились, что уже с 3-х часов утра каждая группа будет на месте.
В три часа утра я встретился со Стахом и еще пятью товарищами и направился на Окоповую улицу на дезинфекционные заводы. Около 5 часов мы заметили, что к заводу начинают подходить шпики группками в 5–6 человек. Мы устроили летучий митинг, на котором разъяснили рабочим, что забастовка, которая объявлена на сегодня, имеет исключительное политическое значение и что ни один рабочий не должен выйти на работу. В большинстве случаев рабочие возвращались домой. Шпики перебегали от одной группки к другой, прислушиваясь, но активно не действовали. Около 6 часов утра группа штрейкбрехеров человек в 30 направилась в сопровождении шпиков к воротам завода. Мы решили действовать. Собрали несколько десятков рабочих и вместе с ними двинулись против штрейкбрехеров. Началась схватка. Штрейкбрехеры очень быстро разбежались и хотя шпики угрожали стрельбой и уговаривали их остаться на месте, ничего не получилось. На завод не пошел ни один рабочий. Мы побежали на Вольскую улицу, в трамвайный парк, встретились там с группой товарищей с Пуцелем во главе, – ни один трамвай не вышел из парка. Сведения с водопровода и электростанции были также благоприятны. Рабочие солидарно бросили работу в ответ на воззвание СДКПИЛ, а несколько десятков штрейкбрехеров, которые пробовали явиться на работу, были разогнаны дежурными товарищами.
Я вернулся домой около 9 утра и решил немного отдохнуть, но не успел раздеться, как послышался стук в дверь. На вопрос: Кто? – последовал ответ: «Откройте – полиция». Под окном стояли немецкие солдаты, все пути для побега были отрезаны. Зная, что немцы не имеют еще большого опыта в проведении обысков, я решил испробовать счастье и спрятался в гардероб.
В комнату вошли три шпика, три солдата и двое польских полицейских.
– Сын дома? – спросили отца польские полицейские.
– Который? – спросил отец, ведь у меня их четыре.
– Ну ясно, Владек! – ответил полицейский.
– Нет, – ответил отец, – вчера вечером ушел и еще не вернулся.
Немцы постояли несколько секунд, пошептались между собой и вышли.
Я обрадовался, вылез из гардероба, решил скорее удрать, но в этот момент снова послышался стук в дверь.
Я снова спрятался в шкаф. Открылась дверь и снова та же компания ввалилась в комнату.
– Простите, пожалуйте, – говорит шпик, но мы должны провести обыск; если даже сына нет, то возможно окажутся кое-какие документы.
Положение мое было незавидно – стоять в шкафу и ждать, пока меня там найдут немцы.
Распахнулась в первую очередь дверь гардероба– пришлось вылезать. Я махнул рукой и начал одеваться. Юзек, брат мой, соскочил с кровати и с силой ударил польского полицейского в лицо. Тот пошатнулся, упал на пол. Немец растерялся. Другой польский полицейский выскочил за дверь..
Я схватил за руку Юзека и начал его успокаивать.
– Такими путями мы ничего не сделаем – надо вести борьбу организованно.
В сопровождении группы рабочих (около 50–60 чел.) немецкий патруль со мной медленно направился в сторону Вольской улицы. По дороге присоединялись все новые и новые группы рабочих; на углу Вольской и Млынарской под трамвайным парком группа рабочих – уже около 300 человек – набросилась на немцев и меня освободили.
Мы двинулись всего 600–700 человек с красным знаменем по Вольской улице в сторону Театральной площади. По дороге все время к нам присоединялись новые группы рабочих. Попытки немецких патрулей разогнать рабочих ни к чему не привели и в скором времени тысячная масса влилась на Театральную площадь, на которой уже находилось несколько тысяч демонстрантов. Выступали представители польской социалистической партии, большевиков, ППС, Левица, Бунда и др. групп. Во время выступлений ораторов немцы пытались разогнать манифестацию, но сопротивление рабочих было очень упорным. Они вырывали палки из рук шуцманов.
Наконец немцы получили подкрепление, двинулась их кавалерия и митинг был разогнан, меня арестовали.
Вечером погрузили всех арестованных на грузовик и направили в Варшавскую цитадель. По дороге рабочие приветствовали нас, мы пели «Красное знамя» и «Интернационал».
В Варшавскую цитадель прибывали каждый день новые группы арестованных.
– Там я просидел довольно долго, – закончил Владек.
Мы ждали еще от Невядомского информации о последних месяцах. Мы страстно хотели подробностей о нашей родной Советской стране.
Владек сообщил нам, что христолюбивые польские воины в Галиции расстреливали, вешали, пытали, арестовывали, конфисковали, просто грабили, одним словом забавлялись, как в старое доброе время.
Мы узнали от Владека, что после нашего захвата в Вильно польские легионеры в течение четырех дней убивали местных жителей, заподозренных в сочувствии большевикам, что в Лиде 25 апреля они организовали погром.
Гордые, счастливые, узнали мы от Владека о победном движении конной армии Буденного.
Как бешено, как страстно хотелось нам скорее очутиться дома!
Через свое детство, революционную юность и зрелость провел нас в своих рассказах Владек. Мы узнали от поляка революционера, как яростно, сначала опираясь на немецких милитаристов, а потом на своих галлеровских офицеров, стремилась польская буржуазия удушить рабочий класс. И ей это давалось нелегко. Пусть власть сейчас в ее руках, но народ возьмет ее, вырвет из рук угнетателей.
О советской Польше мечтал вслух Владек, молча ему вторили конвоиры. Владеку без труда удалось их распропагандировать потому, что идея Советской Польши жила в мозгу этих батраков.
– Как дальше, Владек, куда направят тебя отсюда, в какую тюрьму? – спросил Исаченко.
– Сегодня вечером думаю отсюда уйти!! – тихо прошептал Владек.
– Почему не с нами?! – хотелось мне закричать.
Этого не нужно было: Владек от Петровского в одну из случайных ночных встреч в уборной вскользь услышал о наших планах, но он сам не выразил желания присоединиться к нашей группе. Если бы его арестовали вместе с нами, разве нужны были бы после этого более веские доказательства нашего большевизма? Нас расстреляли бы как шпионов.
Кроме этого соображения имелось у Владека, надо думать, и другое – более веское. Ему, польскому большевику, хотелось остаться на работе в Польше.
Мы не видели больше этого смелого, спокойного, открытого товарища. Ночью, после дневной беседы с нами, Владек бежал вместе с одним из конвоиров, стороживших его комнату.
Мы были бесконечно рады удаче Владека.
Он не нашел нужным посвятить нас в подробности своего замысла, очевидно, продуманного им до конца. И это нас успокаивало. Теперь оставалось только и нам довести наше дело до успешного конца.
– Мы еще встретимся в Владеком! – бодро твердил Петровский.
Надо было торопиться. Слишком благополучно было наше пребывание в госпитале, – как бы нам за него не пришлось дорого расплачиваться. Один неверный шаг – и мы погибнем.
Карты, компас, ножи мы достали, деньги у нас также были. Осталось выбрать только удобный момент для побега.
Петровский советовал все дальнейшие беседы продолжать, соблюдая строгую конспирацию. Возникало опасение, что Борисюк, пустивший корни в Иновроцлаве, ходивший на поводу у приютившей его польки, мог как-нибудь невзначай, без злого умысла, проболтаться о наших планах.
Борисюк заметил нашу скрытность и чрезвычайно опечалился.
– Ты знаешь, – сказал ему как-то Исаченко. – мы решили от побега отказаться, остаться здесь. Ты правильно поступаешь, что остаешься…
– Брось ты мне врать-то! – оборвал его Борисюк. – Как вам не стыдно, неужели вы меня в самом деле подлецом считаете? Предателем я не был и не буду, а каждый ищет, где ему лучше.
Нам вскоре посчастливилось.
Иновроцлавский госпиталь праздновал двадцатипятилетие своего существования. Для всех служащих был организован пикник за город. Михальский предложил нам взять на себя заботу о больных. Кроме нас были оставлены старушка – сестра милосердия, пани Зося и старик фельдшер.
В семь часов, после обхода больных, они разошлись по домам.
Желанный момент наступил: нужно было немедленно уходить.
Оставалось только обмануть Борисюка. До последней минуты мы брали под сомнение надежность бывшего товарища.
Около девяти часов вечера, когда он ушел, как всегда, к своей даме сердца, мы быстро уложили свои вещи и вышли из госпиталя, в котором провели немало хороших дней.
На этот раз дорогу к границе указывал компас.
Уж он-то обмануть не мог.
10. Третий побег
Мы неторопливо пробираемся по улицам Иновроцлава. На нас – выданная добрым Михальским полувоенная одежда, приличные кепи и добросовестно начищенные ботинки.
По узким тротуарам, окаймленным душистыми липами, фланирует местная избранная публика, наслаждающаяся благоуханным майским вечером.
На нас никто не обращает внимания. В городском саду играет военный оркестр. С ним перекликается струнный ансамбль единственного в городе ресторана «Варьетэ».
Из раскрытых окон, занавешенных кисейными и тюлевыми занавесками, доносятся меланхолические ноктюрны Шопена, хрипящие звуки граммофонов и громкие – вездесущих радиоустановок.
В толпе преобладают щеголеватые, подтянутые офицеры, чувствующие себя хозяевами положения. Они изощряются в остроумии и галантности. К ним томно прижимаются весело щебечущие женщины, одетые в нарядные летние платья. Запахи дешевых духов, пудры и приторного табачного дыма заглушают нестерпимо сладкий аромат черемухи и нарциссов, струящийся из прохладных садов и уютных палисадников, разбитых рядом с чистенькими домами.
Электричество заливает улицы ровным молочным светом, состязуясь с холодным сиянием луны, торжественно застывшей на прозрачно-синем небосводе в окружении почетного караула бестрепетно мигающих звезд.
Буйное цветение природы, воздух, напоенный неуловимой грустью, обычно рождающейся в такие благословенные вечера, настраивают нас на лирический лад.
Мы молча идем рядом, погруженные в свои мысли.
Каждый из нас в этот момент думает о самом сокровенном, родном, оставленном на далекой родине. Сегодня ночью мы собираемся в последний раз отвоевывать ее путем побега из пределов гостеприимной польской республики.
Пересекаем весь город и выходим на безлюдную окраину, утонувшую в густой кудреватой зелени садов.
– А хороша ночка, черт побери! – раздраженно произносит Исаченко. – В такую соловьиную ночь неплохо бы посидеть с любимой женщиной, вспомнить ушедшую молодость, погрустить о ней или просто ни о чем не думать…
Его прерывает насмешливый голос Петровского:
– Насчет женщин сочувствую, что же касается молодости – не согласен, потому что стариком себя не считаю. А сантименты ваши, дорогой товарищ, бросьте. Ишь чего захотел – погрустить, ни о чем не думать! Рассиротились вы, молодой человек, некстати и не вовремя.
И тут же экспромтом сочинил:
Когда умолкнет пушек гром
И засияет вольный труд.
Вертайтесь вы в желанный дом
К жене на преданную грудь.
Мы дружно расхохотались. Но больше всех оказался доволен сам автор:
– Уж больно хорошо у меня насчет груди получилось… Правда «грудь и труд» не совсем идеологически и поэтически выдержано, но зато в самую точку попал.
Исаченко дружелюбно замечает:
– У Пушкина я что-то не встречал такого слова «вертайтесь», но для начала, товарищ поэт, и это неплохо.
Продолжая в таких же шутливых тонах вести нашу беседу, мы бодро шагаем по краю дороги, напоминая своим видом мирных туристов, которым взбрело в голову совершить ночную прогулку на далекое расстояние.
Кстати, расстояние, которое нам предстоит сделать, действительно удлинилось. По дошедшим до нас польским газетам, немцы отступили от Иновроцлава еще на шестьдесят километров. Следовательно, мы должны вместо прежних пятнадцати – двадцати километров, отделявших нас от границы, пройти семьдесят пять – восемьдесят.
Мы испытываем радостное ощущение настоящей свободы, на этот раз подкрепляемое твердой уверенностью в успехе задуманного предприятия.
Дышится легко и привольно. Окрепшие мускулы легко выбрасывают наши тела вперед. За спинами ощущается присутствие незримых крыльев. Мы летим, но полет наш направлен не в победоносные выси, а в грядущее, связанное с возвращением на советскую родину. Оно представляется величественным и прекрасным. Его мы почти физически осязаем; властная мечта приобретает материализованную оболочку. Дым желанного отечества перестает быть абстракцией; его мы воспринимаем не только органами обоняния, но каким-то народившимся шестым чувством, во власти которого мы сейчас находимся.
Над нами раскинулся звездный шатер. Осеняющая нас весенняя ночь в ее блистательном великолепии будоражит обоими запахами и звуками. Земля дышит, как и мы, полной грудью. Всю дорогу нас не покидает состояние необычайной приподнятости.
Мы проходим мимо сонных озер с прибрежными ракитами, мимо деревушек с погашенными огнями.
Позади остаются телеграфные столбы, одинокие хутора, заброшенные сторожки и перелески.
Ночь на исходе. Располагаемся на отдых в поле и засыпаем крепким безмятежным сном.
Солнце держит свой путь на запад. Наши направления совпадают.
Теперь нас меньше пугают встречи с людьми. Мы заходим в дома, покупаем продукты и чувствуем себя «почти» полноправными гражданами этой страны.
Наши познания в польском языке довольно обширны.
На руках у нас заблаговременно заготовленные справки из госпиталя о том, что предъявители их являются польскими гражданами, находящимися на службе в качестве и так далее.
Наши кошельки свидетельствуют о достатке их обладателей.
Вторая ночь и третий день проходят без приключений.
В третью ночь мы подошли к реке. В поисках переправы решили пойти прямо по берегу. Через несколько минут наткнулись на небольшую баржу, рядом с которой покачивалась лодка.
– Ну, значит, все в порядке, – сказал Исаченко, пребывавший все время в прекрасном настроении. – Вот эта лодка, очевидно, кем-то для нас специально предназначена. Ею мы и воспользуемся.
Он с юношеской резвостью вскочил в лодку, которая неожиданно накренилась. Лязгнула цепь, надежно прикреплявшая лодку к барже.
Исаченко пригласил молчаливым жестом Петровского.
Тот обследовал положение и, немедленно перебравшись на баржу, отвязал цепь.
На шум вышел из каюты босой заспанный человек.
Петровскому не стоило труда справиться с ним, попытавшимся стать на пути к свободе.
Силы его за время отдыха в Иновроцлаве удесятерились. Он, как перышко, поднял человека на воздух и швырнул в воду, – на эту операцию понадобилось не больше тридцати секунд, – сам соскочил в лодку. Вслед за ним прыгнули туда и мы и усиленно налегли на весла.
Тем временем бедняга начал тонуть.
Решили ему помочь: ведь ни за что пострадает человек. Будет ненужной больше жертвой.
Подъехали к тонувшему, ухватили его за руку и, прежде чем посадить в лодку, вежливо предложили не кричать, в противном случае…
Он отлично понял, что последует «в противном случае», и покорно замолчал…
Предложив ему уцепиться за корму, мы поплыли к другому берегу реки.
– Садись, брат, в лодку и возвращайся обратно, – сказал я ему по-польски, – но язык держи за зубами.
– Иначе все выбью, – грозно добавил Петровский и поднес к лицу и без того перепуганного человека свой увесистый кулак.
Тот что-то пролепетал и стал садиться в лодку.
А мы, не оглядываясь, поплыли дальше.
В эту ночь решили особенно себя не утомлять и задолго до рассвета улеглись спать. Мы приближались к заветной цели и поэтому избегали встреч с людьми.
Как только стемнело, двинулись снова. Около полуночи приблизились к мосту, перекинутому через ручеек. Издали заметили неподвижный силуэт человека с винтовкой.
Стало быть, уже близка долгожданная граница.
Надвигалась гроза. Луна ныряла в облаках, подгоняемых сильным ветром. Под его напором деревья низко склоняли свои кудрявые головы. Ворчливо перетаптывались листья. Прекратилась птичья возня. Гулко забарабанил дождь. Лес наполнился грохотом и свистом. Раскаты грома сотрясали до основания столетние дубы. Синие зарницы молний вспарывали непроницаемую завесу мрака.
А внизу у подножья осин и берез было по особому тихо и сухо.
Разостлав под себя мешки и накрывши головы своими френчами, мы занялись изучением карты. По всей вероятности, граница оставалась позади. Значит, мы в пределах Германии.
Мрачные тени Калиша и Стрелкова больше не воскреснут никогда. Впереди возможны заключение, бесчисленные опросы, но издевательств больше не будет. В Берлине и в других крупных городах имеются наши представители, которые помогут нам вернуться домой.
Прождали до рассвета. К утру вышли на линию железной дороги. На столбах были немецкие надписи. Солнце ярко сияло над землей, жадно впитывавшей его щедрые ласки. Ровное, как стрела, шоссе, обсаженное фруктовыми деревьями, вело по направлению к неизвестному городу… Острые шпили крыш маячили на горизонте.
Откуда-то со стороны выехала телега, на которой сидел чисто одетый крестьянин с трубкой в плотно сомкнутых губах.
Исаченко, приподняв кепи и извинившись за беспокойство, спросил, как называется виднеющийся вдали город.
– Шнайдемюлле, – ответил нам вежливо фермер.
Мы тепло поблагодарили первого живого вестника нашего освобождения от ужасов польского плена. На минуту стало грустно, что нашу радость не могут разделить Шалимов, Грознов и Сорокин.
– Мы еще встретимся, – произношу я вслух, встряхиваясь от печальных мыслей.
– С Малиновским и Вагнером у меня нет никакого желания встретиться еще раз без оружия, – весело произносит Петровский и фальшиво запевает на мотив польской патриотической песни, безжалостно коверкая слова текста или заменяя их другими:
Пока Польша не сгинела
Вместе с Вагнером и Водой,
Будем мы бороться смело,
Жизнь отдавши за свободу.
Затем, перейдя неожиданно на мотив немецкого монархического гимна, продолжал:
Дейчланд, Дейчланд – юбер аллес,
Пролетарий вельт фор аллес.
С Малиновским мы расстались
И в Германию пробрались.
А в советской фатерлянд
Путь укажет немец Кант.
– Кант, вероятно, приходится тебе далеким родственником.
– Ха-ха-ха! – заржал Исаченко. – Молодчага Петровский! Нет, ты подумай, – обращается он ко мне, – какие у него в Германии влиятельные связи! Старый Кант, ну, тот самый, который чистый разум раскритиковал, и вдруг будет неразумно связываться с большевиками, да еще вдобавок бежавшими из Польши… В советский фатерлянд, – закончил он торжественно, – путь мы найдем сами. А в этом – нам помогут люди, исповедующие одинаковые с нами убеждения.
В эти торжественные минуты мы чувствуем себя великими завоевателями, открывшими неизвестную землю.
Мы чувствуем твердую почву под ногами, тревога растаяла, как дым.
Скоро и мы будем в Советской стране…
Желанная свобода…
Мы только пленные красноармейцы, которых революция зарядила энтузиазмом и жаждой борьбы, но в эти незабываемые часы мы способны создать вдохновенную поэму, каждая строчка которой будет гимном свободному человеку…
Мальчик с седой головой, Исаченко не может сохранить спокойствие. Он то сходит с дороги и смотрит на шахматную гладь полей, то бежит по равному шоссе, то пятится спиной к городу, вслух мечтая о том, что в новой, демократической Германии, победившей Вильгельма, мы будем уже не отребьями человечества, а гражданами…
– В отребьях… – иронически добавлял Петровский.
Мы недоуменно глядим на него.
– Демократия проявила себя уже в четырнадцатом году. Немецкие социалисты тогда молились за дарование победы Вильгельму. У Исаченко старые следы от побоев в лагерях. Не из радушия, а из желания скорее сплавить нас демократическая Германия, возможно, отправит нас в Советскую Россию. Мы ушли из плена, но мы еще не дома. Помните, что в Германии коммунист считается не меньшим; злом, чем польский легионер.
Мы чувствуем жестокую правду словах Петровского, и все же нам кажется, что достаточно только приподнять завесу над тем, что делалось в стрелковском лагере, чтобы сочувствие немцев было нам обеспечено.