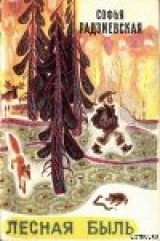
Текст книги "Лесная быль. Рассказы и повести"
Автор книги: Софья Радзиевская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
ЗА ЗОЛОТОМ
Повесть

Как мы Гнедка ловили
Солнце стояло уже высоко, когда я, отдохнув и умывшись после длинного пути, вышел на главную улицу заводского посёлка. Улица эта заросла курчавой травой, только посередине её вилась, обходя камни и выбоины, узкая дорожка. По обе стороны улицы тянулись деревянные заборы с резными калитками, а внизу, под горой, с журчанием пробивался к реке холодный прозрачный ключ.
Всё это было совсем не похоже на московские улицы с накалённым асфальтом и высокими каменными домами. До того не похоже, что я, пройдя несколько шагов по дорожке, остановился и долго смотрел то на покрытые тёмным еловым лесом горы, то на коричневого жука, важно переползавшего дорогу.
– Хорошо! – сказал я вполголоса и, глубоко вздохнув, встал на цыпочки и потянулся – так мне стало вдруг легко и приятно.
Но тут же я вздрогнул и обернулся.
– Ты что можешь? а?.. – раздался позади меня звонкий голос.
Перед открытой калиткой стоял паренёк, немного выше меня и пошире в плечах. Он как-то особенно задорно упирался в землю босыми ногами, руки засунул в карманы, а локти расставил широко и по-обидному.
– Ты что можешь, а?.. – повторил он и, шагнув за калитку, в глубь сада, прибавил: – А я – вон что! – И неожиданно наклонившись, проворно встал, на голову, вскинул ноги кверху и заболтал ими в воздухе. Потом перевернулся, подпрыгнул и, подбоченившись, занял прежнюю позицию у калитки. – Эх ты, Москва! – сказал он презрительно и, тряхнув рыжими вихрами, хотел прибавить ещё что-то, должно быть, обидное, но тут я успел оправиться от первого смущения.
– Только-то! – протянул я. – Ну, брат, в Москве не этому учат.
Быстро нагнувшись, я прошёлся колесом, вскочил на ноги и принял оборонительную позицию.
Но это было лишнее: веснушчатая физиономия задиры засияла искренним дружелюбием и восторгом.
– А ведь я тебя вздуть ладился, – заявил он так весело, точно это было самое приятное для меня сообщение. – Приехал, думаю, петух московский, я те покажу Москву… А ты вон какой!
И разом, почему-то оглянувшись, переменил тон.
– Сюда, – сказал он. – Тут наискосок к речке ближе. Валяем? Живо!
– Куда? – недоверчиво отозвался я и хоть и переменил позу на менее вызывающую, но кулаков не разжал: кто знает, что ему ещё вздумается, этому рыжику.
– На пчельник. Куда же ещё? – удивился мальчик. – К деду Софрону чай с мёдом пить. В колхозный сад. Теперь мы с тобой дружим, – деловито прибавил он после некоторой паузы. – Коли Петюха к тебе вязаться будет, ты мне только скажи, я ему наломаю. Айда!
Я смотрел на него во все глаза, всё ещё не решаясь двинуться с места.
– То драться, а то на пчельник… – проговорил я нерешительно, но потом оглянулся и махнул рукой.
– Идём, – сказал я твёрдо.
– Поспевай, – крикнул уже на ходу мальчуган и, завернув за угол сада, помчался вниз по тропинке, прямо к самой Серебрянке.
– Мы тут вброд, – продолжал он, немного запыхавшись от быстрого бега. – Моста у нас нету. Только скорей, а то мамка увидит – сейчас работы надаёт, она на это люта.
Глаза у нового знакомого были весёлые, голубые, в рыжих крапинках, точно и туда забежали веснушки, вихор топорщился, и весь он мне вдруг страшно понравился.
– Сейчас дед Иван по саду ходит, на яблони глядит: где подрежет, где что. А дед Софрон – за пчёлами, – заговорил опять Рыжик, ловко пробираясь сквозь кусты лозняка. – И ругаются. А потом вместе чай пить сядут. С вареньем. Мы, значит, в самое время и поспеем: нам либо варенья, либо мёду дадут.
– Так чего же они вместе чай пьют, если ругаются? – всё больше удивлялся я, поспешно продираясь за ним.
– Нельзя им врозь-то, – И мальчишка, обежав кучу хвороста, остановился у самой воды и засмеялся. – Варенье как варили? Яблоки-то – Ивановы, а мёд – Софронов. Как поделить? А поругавшись, и чай лучше пьётся, с устатку-то.
Говоря это, он быстро скинул штанишки, рубашку и свернул их в узелок.
– Ты тоже всё в рубашку заворачивай, – заботливо объяснил он. – На голову привяжем, чтобы в речку не попало. Живо! А ботинки сюда, под корягу сунь. На что их сейчас? Босому легче.
Через минуту, крепко привязав узлы с одеждой рукавами под подбородки, мы уже входили в воду.
– Левей забирай, – говорил Рыжик. – Омут тут. Ну, плыви. Тебя как зовут-то?
– Серёжа, – отвечал я, старательно отмеривая сажёнки, чтобы не оплошать. – А тебя как?
– Мишка, а ещё – Юла, – объяснил тот, – потому как я на месте сидеть не могу. Всё кручусь. Иголка во мне ходит, вот она и гоняет меня. Сидеть не даёт.
– Игол… – от изумления я раскрыл рот и чуть не захлебнулся. – Как иголка? Как ходит? – продолжал я уже на берегу, надевая трусы и дрожа, потому что вода в Серебрянке даже летом была как лёд холодная от ключей. – Как иголка в живом человеке ходить может?
Мишка был, видимо, очень доволен произведённым впечатлением.
– В Москве-то, видно, не всему учат, – подмигнул он. – Сюда лезь, тут тропка. Мамка, значит, мне штаны зашивала, а у соседа ястреб курицу потащил. Она в окошко увидала да бегом, а иголку в штанах забыла. А я штаны надел да на лавку сел – обуваться. А иголка р-раз, да в самое это место – вон сюда. Враз влезла, я и зацепить не поспел. А теперь со мной Васька на одной постели не спит. Из тебя, говорит, иголка-то выткнется, а в меня воткнётся.
Мы с трудом взобрались на крутой берег речонки, хватаясь за камни и прибрежные кусты.
– Слышишь? – на минуту остановился Мишка и, запыхавшись, вытер рукавом раскрасневшееся лицо. – Это осина шумит, она, точно заяц, ушами хлопает: лоп-лоп-лоп.
Я расхохотался. Вдруг что-то серое метнулось у меня из-под ног и мячиком покатилось в лес.
– Ай! – вскрикнул я. Но тут загорелая рука мелькнула перед моими глазами, и камень со свистом пролетел и ударился в кусты.
– Немного не доспел! – с досадой вскрикнул Мишка. – Враз бы его положил. А ты чего смотрел?
– Да я не успел, – сконфуженно оправдывался я. – Я ведь… – и тут же запнулся и замолчал: ни за что на свете не признался бы я Мишке, что сейчас видел живого зайца первый раз в жизни.
– Ну, где тебе успеть. Ты ведь московский, – протянул Мишка. – И попал бы, так не зашиб.
И он несколько пренебрежительно пощупал мускулы на моей руке.
Я вспыхнул. Крепкое пожатие Мишкиных загорелых пальцев заставило меня почувствовать, насколько новый товарищ превосходил меня в силе.
– Мы про зайцев на уроках проходили, – начал я несколько неуверенно. – Заяц относится к отряду грызунов, у него передние резцы…
– Растут всё длиньше, – перебил меня Мишка. – Ежели ему об дерево их не точить, они ему рот раздерут. Слыхали… А вот как заяц следы путает, чтобы его лисе не соследить, видал?
– Нет… – признался я.
– А сколько зайчат зайчиха родит, знаешь? А сколько она их молоком кормит, слыхал? Один раз. А потом они под кустом три дня сидят нерухомо. Вот как. И лисица их не учует, потому как от них следов нет. Понял?
– Понял, – покорно ответил я, подавленный таким превосходством в познаниях. И в порыве искренности прибавил: – Ты знаешь, ведь я первый раз на Урале. Папа говорил, что теперь на Урале никаких приключений и опасностей не бывает. А мама всё-таки боялась и пускать меня не хотела. И потом думала, я тут соскучусь.
– Ишь ты! – удивился Мишка и даже присвистнул и тряхнул хохлом. – Тут ягоды, грибы, рыбу ловить будем, какая скука? С чего это она у тебя такая?
Я растерялся и не знал, что ответить, но Мишка не дал мне времени на размышления: должно быть, в нём и вправду сидела иголка.
– Бежим скорее! – крикнул он, поворачивая по тропинке вдоль реки. – Сейчас в ложбинку спустимся – тут тебе сад этот и есть.
Дорожка шла над крутым обрывом в густом старом еловом лесу. Несмотря на яркое солнце, в нём было сумрачно и прохладно. Мёртвые нижние ветви переплелись в сплошную сетку, загораживая путь вне тропинки, а голая, лишённая травы земля была густо усыпана сухими бурыми иголками.
– А вон и сад! – вскрикнул Мишка и остановился так неожиданно, что я, не удержавшись, набежал на него.
Место для сада было выбрано с толком: небольшая долина, закрытая от северных ветров и открытая солнцу, спускаясь к реке, притаилась среди старых елей, так что её нелегко было и заметить. Колхозная пасека находилась тут же.
Оба старика были в саду. Их голоса мальчики услышали издали.
– Нет, ты мне скажи, по каким правам должен я теперь искусанный ходить? – визжал тонкий пронзительный голос. – По каким правам у меня теперь глаз запух и рот на сторону? Как я теперь прищепку[16]16
Прищепка – прививка.
[Закрыть] делать стану, когда мне смотреть нечем?
– А ты руками-то не махай, козлиная борода, – послышался густой добродушный бас. – Руками не махай. Пчела, она суеты не любит. А ты бородой крутишь, руками вертишь, – она и гневается. Ты глинки сырой приложи, он враз проглянет, глаз-то.
– Враз проглянет! – передразнил первый голос. – Самому бы тебе так вот рот на сторону своротило!
Задыхаясь от смеха, Мишка зажал рот руками.
– Они всегда так, – шепнул он мне. – Здорово разошлись. Теперь уж скоро чай пить сядут.
Мы пробрались сквозь густую чащу ольховника и вышли на поляну, к саду. Маленький старичок в длинной белой рубахе с красным поясом стоял под крайней от леса яблоней и горестно качал головой: большой зелёный улей, сброшенный с подставки, стоял на земле, и пчёлы с жалобным и злобным гудением вились около его летка.
Немного подальше, выставив вперёд острую бородку клинышком, стоял другой старик, высокий и худой, в синей рубашке, босиком.
– Не жеребец, а сущий оборотень, – говорил он. – Три дня как с колхозной конюшни сбежал. По лесу бродит, конюху не даётся. Никто как он шёл да боком и своротил.
– Всё-то ты, сват, с чёрным словом, – укоризненно покачал головой белый старичок. – Всё с чёрным словом. Пчела, она, брат, этого не любит, она… – И, не договорив, он нагнулся и с трудом повернул улей.
Дед Иван, распухший и злой, опустился на еловый чурбан и, водя ножиком по оселку, недоброжелательно следил за хлопотами деда Софрона.
– Ружьё бы достать, – проворчал он, – да влепить этому чёрту косматому дроби под шкуру, небось отвадится. Не то переваляет твои колоды, а тварь-то «тихая» тогда и вовсе меня со свету сживёт.
– Что ты, что ты, сват, – заволновался дед Софрон. – Видано ли дело такого жеребца портить? Словить его надо – и весь сказ.
– Сказ-то выходит долгий, – ворчал дед Иван, осторожно пробуя пальцем остроту лезвия. – Как словить, когда сбаловался и конюху не даётся? Я и сам не дурак, чтоб жеребца портить. Ясно – словить, да вот как?
– А я знаю, – отозвался вдруг Мишка, выступая из кустов. – Здравствуйте, дедушки! Я его вечером на тропке подкараулю. Гнедка-то. Как он к ручью пить пойдёт. На суку сяду, над самой над тропкой, да ему прямо на спину ка-ак скокну…
Смешливый дед Софрон так и присел около улья.
– Ну и потеха, – приговаривал он. – Соколом да на утку сверху, стало быть.
– Дураку не ум помешал, – проворчал неукротимый дед Иван. – Чем малого за вихор рвануть: не блажи, мол, так он ему ещё потакает. – И, сердито сунув ножик в карман, он направился к крытому берестой шалашу, приютившемуся под яблоней.
Мне стало очень обидно за Мишку и за деда Софрона.
– Я тоже пойду, – сказал я громко, выступая из-за Мишкиной спины. Обрадованный Мишка ткнул меня локтем в бок.
– Ловко, что я тебя там-то не вздул, – восхищался он своей догадливостью. – Я, брат, сразу увидал, что из тебя толк будет. У меня, брат, глаз…
– Шишек на самовар пособирай, ты, глазастый, – окликнул его дед Софрон. – Чашки и хлеб из сундучка достань. Сват, чай-то с мёдом пить будем аль с вареньем?
– Слыхал? – отозвался Мишка, сияя. – Дуй в шалаш, напьёмся – во!
– Показывай, откуда чашки доставать, – радостно откликнулся я и двинулся к шалашу.
Предстоящее приключение привело нас в самое радостное настроение, и до шалаша мы, пыхтя и переваливаясь, добрались на руках.
– Я и чашку эдак до костра донесу, – хвастался развеселившийся Мишка. – В зубах ежели, а то и промежду коленок.
– Вот я тебя зажму промежду коленок, пострелёнок, – сердито отозвался дед Иван и замахнулся удилищем. – Будешь у меня бить чашки-то.
Чашки и хлеб, ввиду такой угрозы, были доставлены к самоварчику, стоящему у костра, обычным способом.
Потом мы вперегонки бросились собирать сухие еловые шишки.
– Ты которые смолистые бери, – учил меня Мишка, проворно кидая шишки в берестяной коробок. – Смолюшки, они дыму поддадут, зато самовар от них враз закипит.
Приспособив прогоревшую до дыр железную трубу, мы, приподнимая её, принялись подкидывать шишки в пузатый и кособокий медный самоварчик.
Около костра хлопотал дед Иван, помешивая длинной ложкой в железном котелке, висевшем над огнём. В котелке булькало и шипело, а дед Софрон, присев на пенёк, мастерил что-то из дощечек и проволоки и довольно кивал головой.
– Вот так, – приговаривал он. – Теперь будет ладно. Каша-то не поспела, сват?
– Сейчас поспеет, – отозвался сват и, заглядывая в котелок, морщился от пара, обдававшего лицо. – Упрела в самый раз. А вот у ребят с самоваром неуправка.
– Закипает уже! – воскликнул я и, нагнувшись над дымящей, как вулкан, трубой, протолкнул в неё щепочкой сухие смолистые шишки.
Я кашлял и задыхался, но даже это доставляло мне большое удовольствие. Снимая и надевая трубу, я то и дело нагибался к Мишке и шептал:
– Скоро он придёт? А может быть, и вовсе не придёт?
– Придёт, – отвечал Мишка тоном бывалого охотника за мустангами. – Не первый раз он так: убежит да по лесу и шатается. И всё мимо пасеки вечером к речке пить ходит. Дошатается, пока не попадёт медведю в лапы.
– Кончай разговоры, – сказал дед Иван, опрокидывая целую горку душистой каши на широкое деревянное блюдо. Он сделал на верху пшённой горки ямку и бережно влил в неё немного растопленного масла из глиняного кувшинчика с отбитым носиком.
– Садись, Мишутка, – приветливо сказал дед Софрон. – И ты, чужачок, садись, чурбашки подвиньте себе, а то и так, на траву, как способнее.
Мы уселись вокруг блюда с кашей, держа в руках круглые деревянные ложки. Ели, стараясь не сорить, брали кашу по очереди. Я подражал всем движениям Мишки, что бы не ударить лицом в грязь.
Старики и Мишка разговоров за едой не признавали, поэтому во всё время ужина царило молчание. Тем временем начало смеркаться. Догоравший костёр ярко вспыхивал, и отдельные ветви яблонь освещались так ярко, что казалось: они повисли в воздухе, точно руки, протянутые из темноты.
Наконец Мишка со вздохом отодвинул от себя чашку с золотым ободком.
– Спасибо, дедушки, за чай, за сахар, – солидно сказал он, а мне шепнул: – Идём, Серёга, на засидку, а то ещё Гнедка прокараулим.

Длинная ветвь старой корявой берёзы протянулась над самой тропинкой. По бокам тропинки рос густой колючий кустарник. Гнедко должен был пройти к реке как раз под этой веткой. На ней-то мы и решились устроить засаду.
– Сюда садись, – шепнул мне Мишка. – Вот увидишь, как управлюсь. Он только скокнуть на него не даётся. Гнедко-то. А как сел, он тогда смирен. Ты меня за живот только не хватай, я страсть щекотки боюсь. Ну, не дыши теперь!
Я послушно старался не дышать, хоть от этого шумело в ушах и кружилась голова. Тишина наступила такая, что когда в траве внизу вдруг чиркнул сверчок, мы вздрогнули и схватились друг за друга.
– Тяжело мне от иголки сидеть так-то, – чуть слышно прошептал Мишка и вздохнул.
– Колется? – испуганно спросил я.
– Да не колется, беспонятный ты, а скорость такая во мне от неё – ну никак не усижу.
На тропинке внизу что-то смутно зашевелилось.
– Гнедко это, – шепнул Мишка. – Ну, теперь гляди, как я…
Я отчаянно вцепился ему в руку.
– Мишка, – задыхаясь, зашептал я, – не Гнедко это, это…
Но было уже поздно. Мишка ловко соскользнул с ветки, секунду повис на руках и прыгнул…
Страшное рычание и пронзительный крик, казалось, наполнили весь лес. Я судорожно ухватился руками за берёзу, не смея глянуть вниз. Вдруг по стволу что-то зацарапалось. Мишка, вновь оказавшись на ветке, схватил меня за руку и дёрнул так сильно, что я чуть не упал на землю.
– Лезь выше! Лезь выше! На медведя я скочил.
От толчка я потерял равновесие и болтался на качавшейся ветке, обхватив её руками и ногами.
– Пусти меня! – крикнул я в ужасе. – Пусти, а не то свалюсь. Пусти!
Внизу шум разрастался. К дикому рычанию прибавились крики, кто-то выстрелил с грохотом, как из пушки.
– Лезь отсюда. Убьют, – упорствовал Мишка и теребил меня за рукав. – Слышь, дед Иван ровно очумел, в медведя-то по верхам палит!
– Стрели, сваток! – отчаянно закричал дед Софрон. – Стрели скорей да вынь ты меня из куста для ради бога.
Вторая пуля свистнула около моего уха. Видно, старики и правда с перепугу искали медведя на деревьях.
– Шомпола никак не найду, – раздался пронзительный голос деда Ивана. – Да зарядить нечем.
– Дедушка, ой, дедушка, не стреляй, – завопили мы с Мишкой в ужасе. – Убьёшь ты нас! Не стреляй!
Выглянувшая из-за горы луна помогла разобраться в суматохе. Медведя давно и след простыл.
Жизнь свою мы с Мишкой спасли, скатившись с дерева, прежде чем дед Иван перезарядил свою «пушку». А потом разыскали деда Софрона и помогли ему выбраться из куста, в который он ухитрился попасть.
Утра мы дождались в шалаше у костра. Ни за что на свете не согласились бы мы отойти от него, да и дед Софрон не пустил бы. Со светом он сам в челночке отвёз нас на тот берег и проводил прямо к заводу.
– Ты сразу не ходи домой-то, – посоветовал мне Мишка, когда челнок ткнулся носом в берег. – Дедушка спервоначалу пойдёт мамке моей скажет, а мы на чердаке отсидимся. Я всегда так делаю. Пущай у неё сердце перегорит, а то она скорая – враз за волосья.
Над нами долго смеялся весь завод.
– Расскажи, Миш, как ты медведей за уши ловишь? – спрашивали рабочие и доводили Мишку чуть не до слёз.
А я вскоре после этого происшествия написал матери письмо.
Милая мама, – писал я. – У меня здесь большой друг Мишка, и мне целое лето будет очень весело. Обо мне не беспокойся. Здесь никаких приключений и опасностей не бывает. Пришли мне, пожалуйста, только плёнок для фотоаппарата и ещё пуль двенадцатого калибра для деда Ивана, а то он свои последние выстрелил в меня, когда мы караулили на дереве Гнедка и Мишка прыгнул на медведя.
Твой сын Серёжа.
Открытие
Корявая ива, подмытая весенним половодьем, наклонилась над самой рекой. Мы сидели в изогнутых её развилинах, как в креслах, и следили за нырявшими поплавками: мелкая рыбёшка так и хватала наживку, и ловить было весело. Утро было раннее, обрывки тумана ещё плавали над рекой и медленно поднимались выше. Я поёжился от влажной свежести и покосился на Мишку. Он удобно развалился в развилине и так болтал босыми ногами, словно уже был жаркий день. Нос у него чуть вздёрнутый и потому всегда кажется, что он сейчас скажет что-то весёлое и чуточку озорное. Нет, никак нельзя ему признаться, что мне холодно – засмеёт. Я осторожно снял с крючка серебристую уклейку, поднял голову и засмотрелся.
– Мишка, – заговорил я медленно, – смотри, какая красивая дорожка идёт от реки вверх, прямо в осинник. Точно идёт она неизвестно куда, просто – никуда.
Мишка фыркнул и сбросил с крючка объеденного червяка.
– Ни-ку-да… – передразнил он меня и насадил на крючок нового червяка. – На Чусовую она, эта дорога, идёт. Вон куда! Думаешь ты всё такое, непутёвое, чего нету… – презрительно договорил он и, размахнувшись, ловко закинул леску в заводь около берега.
Разговор оборвался. Я сидел весь красный, даже уши горели, и делал вид, что слежу за дрожащим в течении поплавком.
И надо же мне было ему говорить! Знаю ведь Мишкин характер. Теперь будет дразниться…
Я, положим, видел, что Мишка больше не смеялся, сам не рад, видит – нехорошо вышло. Даже завозился на своём «кресле» и на меня смотрит. Не знает, как подступиться, чтобы и помириться и себя не уронить. Но мне точно стало жалко расставаться со своей обидой.
– Живцов-то много наловил? – заговорил наконец Мишка с преувеличенным интересом.
– Не знаешь разве, вместе ловили, – пробурчал я не оглядываясь и опять уставился на поплавок.
Помолчали.
– Да клюёт же у тебя, беспонятный! – закричал Мишка уже с раздражением. – Этак до завтра просидишь – ничего не наловишь.
– А мне и ловить не хочется, – отвечал я дрожащим голосом и, вытащив удочку из воды, начал её поспешно сматывать, – домой пойду, там интереснее что найду. Тут и рыбёшка-то кошкина радость.
– Ну и ступай домой, – не выдержал Мишка. Он ловко соскочил с развалины прямо на берег, сунул несмотанную удочку в кусты. – Проваливай! А я и один схожу да не «никуда», а знаю – куда. Вот!
С этими словами Мишка зацарапался вверх по обрыву и исчез. Я и ответить ничего не успел.
Ловить рыбу стало вовсе неинтересно. Я тоже выбрался на высокий берег, остановился и прислушался. Дрозд-рябинник весело свистнул и перелетел с ветки на ветку, ему откликнулась иволга, точно кошка взвизгнула, и опять всё смолкло. В лесу, непрогретом утренним солнцем, было холодно и неуютно. Я ещё постоял, прислушался и, понурившись, пошёл по дорожке.
«Теперь уж, наверно, поссорились навсегда, – подумал я с горечью и, подняв еловую шишку, размахнулся и пустил её по дорожке. – И почему мириться всегда стыдно? А если не мириться – как же тогда играть и ходить на пасеку?.. Или уже мне теперь и на пасеку нельзя, вроде как она Мишкина?»
Трах! С ходу я шлёпнулся на землю, больно ударившись локтем о корень.
– Ай! – невольно вскрикнул я и вдруг осёкся: из-за толстой ёлки выглянула Мишкина смеющаяся физиономия.
– Остыл маненько? – осведомился он добродушно. – Ну полежь, полежь покуда, а я побегу себе.
Я опустил глаза: через тропинку, над самой землёй, тянулась тонкая крепкая верёвка.
Ах, вот оно что! В одну минуту я оказался на ногах и крепко сжал кулаки. Но Мишка со смехом метнулся в сторону и исчез так быстро, что я не успел даже толком рассмотреть – куда он подевался.
Я перевёл дыхание, перешагнул через верёвку и ещё раз осмотрелся. Ну, уж теперь-то я знаю, это – настоящая ссора. На всю жизнь. Навсегда! Всё ещё сжимая кулаки, я обошёл несколько самых толстых ёлок и заглянул за них.
Никого. Пусть же Мишка только явится! Пусть он только…
Я даже не заметил, как спустился с горки, вышел из лесу.
Дома дядя Петя и тётя Варя уже сидели за столом, накрытым пёстрой скатертью.
– А я была уверена, что он опоздает к завтраку, – сказала тётя Варя, и было непонятно: довольна она тем, что я не опоздал, или нет.
«Вот всегда так, – с обидой подумал я, опускаясь на стул. – Что хорошее сделаешь – всё равно не похвалит, не то что мама. И слушаться-то её не интересно».
Я ел молча, угрюмо, не разбирая – что. С первого дня (уже целая неделя прошла) мы с Мишкой всегда были вместе. А теперь как? Я мысленно заглянул вперёд, и день вдруг показался мне таким длинным. Всё равно уж. Теперь никогда…
Мишка не показывался два дня. Я уж один пошёл на речку удить. Рыба куда-то подевалась. Поймал двух рыбёшек – таких только кошке отдать. Она их в минуту съела и ещё стала просить. Я даже рассердился: ишь какая! Поди, сама поймай, тоже хитрая. И сегодня утро началось очень скучно: за завтраком тётя Варя начала меня за что-то отчитывать. И вдруг… один свисток длинный и два коротких. От садовой калитки. Неужели…
Горячая каша застряла у меня в горле, я задохнулся и закашлялся.
– Так кашей только конокрадов в прежнее время кормили, – раздался весёлый дядин бас, и тяжёлая рука ласково хлопнула меня по спине. – Ты хоть немножко передохни. Что? Мишка опять?
– Ну, разумеется, – вмешалась тётка. – Эта дружба не доведёт до добра. Мальчик до такой степени недисциплинирован…
Но я, давясь, уже проглотил последнюю ложку каши и проворно вскочил со стула.
– Всё! Кончил! – крикнул я. – Больше не хочу! Спасибо!
Последние слова я выкрикнул уже на крыльце, сбежал по ступенькам и бросился по дорожке.
Так и есть. Мишкины огненные вихры золотились у садовой калитки. Он стоял и пальцами правой ноги подхватывал камешек: высоко подбросит его и ловко поймает на подъём ноги. Я почти набежал на него.
– Мишка, ты чего же не приходил? – крикнул я.
– Мамка не пускала, – ответил он. – На пасеку даже. «Ты, говорит, там по медведям скачешь, а у меня сердце обрывается. Сиди дома, пока передохну». А кто знает, сколько, она передыхать будет? Я и убег.
– А я-то… – начал было я горячо и вдруг остановился, будто споткнулся.
«А как же ссора? Ведь мы же с Мишкой теперь на всю жизнь…»
Но Мишка посмотрел на меня и усмехнулся. Веснушки на носу у него, казалось, тоже смеялись.
– Серчаешь? – спросил он самым дружелюбным тоном. И, прежде чем я нашёлся что-либо ответить, оглянулся, хотя нас могли подслушать одни лопухи у канавы, и нагнулся к самому моему уху.
– Кирку возьми, – сказал он таинственно. – В сарае у вас валяется которая. И хлеба. А лампу я сам сготовил, горит – во! – Он вытащил из кармана штанишек облезлую коробку из-под зубного порошка, помахал ею в воздухе и опять сунул в карман.
– В пещере-то как без неё разглядишь? – пояснил он. – Руды там, может, есть всякие, ручей текёт…
У меня даже дух захватило: да что ж это Мишка придумал? Но нет, надо выдержать характер. Я отвернулся и сделал вид, что заинтересовался ползущей по створке калитки большой мохнатой гусеницей.
– Кирку? – переспросил я и подставил гусенице зелёный листик. – Тяжёлая она очень, тащить для какой-нибудь пустяковины.
Трах! Червяк с листом взлетели кверху. Это Мишка поддал ладошкой мне под руку.
– Это пещера-то – пустяковина? – кипятился он. – Руды всякие, ручей текёт… Ну и плевать!
Он круто, на одной пятке, повернулся, показывая, что всё теперь между нами порвано. Конец! Но тут уже я не вытерпел и схватил его за руку.
– Мишка! – крикнул я. – Не буду больше. Честное пионерское. Я и сам мириться хотел. Только не знал – как. Какая пещера? Какой ручей?
Мишка живо обернулся, задорно тряхнул хохлом.
– То-то – «какая?» – проговорил он, видно, очень довольный. – Говорю – бежим в сарай.

В сарае было темно и потому таинственно. Мы любили там собираться «на совет», забираясь в старый тарантас, такой широкий, что в нём можно было сидеть троим в ряд. Но сегодня Мишка направился не к тарантасу, а в угол, где были свалены лопаты и всякий железный лом. Вытащив старую кирку, он осмотрел её и, довольный, кивнул головой.
– Крепкая, – сказал он. – А что заржавела – не беда, в горе засветлится. Ты что, отобедался?
– Уже, – ответил я, подражая ему в краткости. – Бежим лучше низом, чтобы тётя Варя не увидала, а то не пустит ещё… А это у тебя что?
– Из дому взял, тоже пригодится. – И Мишка уже на бегу перехватил из одной руки в другую небольшой железный лом.
Ссора была ещё слишком свежа, и потому мы немного дичились друг друга. Даже раздевались и плыли через реку как-то особенно по-деловому, словно мы этим страшно заняты и разговаривать нам вовсе некогда. Но, вылезая из воды, нечаянно схватились за одну ветку, заторопились, стукнулись лбами и рассмеялись радостно: неловкость как рукой сняло.
– Чуднáя она у тебя, тётка-то! – сказал Мишка, когда мы выбрались на берег. – Ну, моя мамка воды велит натаскать, дров нарубить. А твоя – и работать не велит, а вовсе за так привязывается.
– Это она называет – воспитывать, – пояснил я, прыгая на одной ноге и продевая другую в штанишки. – А дядя говорит, воспитывать – это совсем другое, это, это…
Я не знал, как определить дядину систему воспитания, и Мишка меня перебил:
– Моя мамка тоже говорит: трудно мне тебя воспитывать. А сама шанежку сунет, а то блин, редко когда за волосья. Жалеет она меня, – договорил он задумчиво, разгребая ногой влажный песок. – Небось, тебя тётка тоже жалеет, – прибавил он после небольшой паузы и покосился на меня.
Я вспыхнул и отвернулся. Мишка задел моё самое больное место. Для тёти Вари я – помеха, чужой мальчик, – я сам слышал, как она это говорила дяде Пете. И Мишка, значит, это видит и вот – утешает. Ну, пожалуйста, не нужно мне его утешений!
– Это маленьких жалеют, – сказал я зазвеневшим голосом. – И совсем я не нуждаюсь. И даже очень скоро домой поеду, в Москву.
– Ну-у, – удивился Мишка и даже остановился, как аист, на одной ноге, забыв продеть другую в штанишки. – А я-то как?
Но я вместо ответа подхватил с земли кирку и быстро полез на обрыв.
– Не отставай! – крикнул ему.
Выбравшись наверх, мы опять побежали, без тропинки, прямо по лесу. Мишка, видимо, очень торопился, а мне и вовсе говорить не хотелось. Я бежал молча, не слишком нагоняя Мишку, чтобы смыкавшиеся за ним ветки не хлестали меня по лицу.
Мы бежали долго, и я уже совсем задохнулся, когда Мишка вдруг замедлил шаг, оглянулся и остановился.
– Здесь, – сказал он, показывая впереди себя.
Мы подошли к обрыву. Я глянул вниз, потом на Мишку. Он стоял и весело улыбался.
– Как мы с тобой, значит, побрыкались, так я про это место и подумал, – продолжал он и, наклонившись, тоже заглянул вниз. – Один хотел пойти, лампу справил, видал? А потом… скушно стало одному-то, – пояснил он и, толкнув меня в бок локтем, засмеялся. Я вернул ему толчок с такой горячностью, что Мишка даже покачнулся и ухватился за осинку, чтобы не упасть. Этим мы как бы подвели окончательный итог нашей ссоре и поставили на ней точку.
– Теперь гляди в оба. Спускаться-то круто очень, за ёлку дюжей держись, – крикнул Мишка и, сам схватившись за ветку, прицелился прыгнуть вниз. – За ёлку. Она, брат, не выдаст. Она…
– Ай! – крикнул я испуганно и протянул руку, чтобы удержать Мишку, но опоздал: раздался треск, что-то больно хлестнуло меня по лицу и пролетело с обрыва вниз.
– Мишка! – испуганно закричал я нагибаясь. – Да Мишка же! Ушибся? Чего же ты сам за ёлку не держался?
– Я и сейчас за неё держусь, – донеслось до меня снизу после некоторой паузы. – Я за неё учепился, а она ка-ак вырвется… С кореньем. Скоро ты там? Гляди, только лучше за ёлки не шибко держись.
Хватаясь за выступы и камни, я осторожно спустился на дно оврага. Мишка сидел на золотистом песке на берегу ручья и, морщась, растирал ногу, стараясь, однако, сохранить беспечный вид.
– Тут, – указал он около себя. – Как прямо слетел-то! Ровно прицелился!
Ну конечно, разве Мишка признается, что слетел вниз без всякого прицела? Но сейчас было не до споров. Я промолчал, а Мишка ещё потёр ногу, встал и, прихрамывая, подошёл к высокой скале из розового песчаника. Скала сильно наклонилась вперёд, образуя как бы небольшую низкую пещерку, из которой и вытекал ручей. Мишкин лом слетел вниз вместе с хозяином, воткнулся концом в дно ручья перед самой пещерой, и вода с лёгким журчаньем огибала его морщинистыми струйками.
Солнечный свет падал на розовую скалу, золотистый песок, на котором весело искрилась вода, но под скалой была мрачная тень, оттуда веяло холодом и сыростью.







