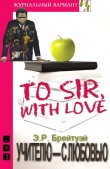Текст книги "Бьется сердце"
Автор книги: Софрон Данилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
XXXIX. Гостинцы
В больнице она разучилась спать. Да и не только спать – плакать разучилась, есть со вкусом, петь, смеяться, писать чернилами. Чуть забылась и тут же с испугом дёрнула головой – в коридоре что-то грохнуло. Это Отарик-сторож принёс дрова и бросил у печи. Ещё недавно «печной час» приходился на полные сумерки за окном, а сейчас уже светлее, дни удлиняются, скоро весна.
Первое время Нина считала дни, даже часы, потом перестала: бесполезно считать. Врачиха словно решила навсегда оставить её в этих скучных стенах, выкрашенных синей масляной краской.
«Скоро выпишем!» – это Галина Яковлевна повторяет постоянно, лишь бы подбодрить. Но Нине даже не разрешают вставать с постели, день и ночь пичкают её таблетками, колют, слушают в трубку – конца нет.
Домой бы! В лес бы сходить! Но Галина Яковлевна твердит одно: «Погоди, Ниночка, погоди, уже скоро…»
Потрескивают поленья в печи. Тишина. Нина одна в палате.
Ничего не было милей раньше, как эти фантазии: если бы она летать могла… если бы стала певицей… Фантазии отрывали от земли, наполняли душу свежестью неба. Ну, давай подумаем о чём-нибудь хорошем-прехорошем! Чтобы тепло стало, как весной на солнышке. Чтобы нежное-нежное, как пух с деревьев, как первый снег. Вот, кажется, ресниц уже коснулось что-то необычное, лёгкое… Но в эту минуту из глубины: а ты помнишь, что ещё было в дневнике? Ах, боже, и они об этом читали! Как стыдно, стыдно, стыдно. Почему она не умерла на той поляне!
За дверью палаты гости сговариваются, входят с улыбками. Но слухи и сквозь больничные стены проникают. В другое время ей показалось бы это чудовищным: выгнать из школы Сергея Эргисовича! Но теперь она не удивлялась: они всесильны, эти кылбановы, они втопчут в грязь, кого пожелают. Ведь поверила же им даже мама!
Бедная мама. Она подолгу сидит у постели и всё говорит, говорит. Нина знает: маме тяжело, она раскаивается, она страдает… Но чем она может помочь маме? Ничем. Она одна виновата во всём, но нечем, решительно нечем искупить вину. О, если бы она могла сделать что-нибудь! Почему она не умерла!
Одного она не знает, что думает о ней Сергей Эргисович. Несколько раз он приходил, шутил, смеялся, говорил о пустяках. Но это всё называется – «у ложа больной…». А сам – изгнанный, опозоренный ею, описанный в этом проклятом дневнике. Дневник – главное ему обвинение, из-за дневника его и выгнали. С Сергеем Эргисовичем у неё язык совсем отнимается. «Да» или «нет», одним словечком ответит, ни разу даже не взглянула ему в лицо.
– Да-да, войдите, – поспешно натянула одеяло до подбородка.
Вошёл Аласов. Присел к кровати.
– Здравствуй, Нина. Говорят, ты уже молодцом? А я из райцентра подарок тебе привёз.
– Спасибо…
Книжка. А ей на секунду подумалось, что гостинец – это хорошая новость. Книжки ей надоели. И хорошие, и любые – всё в них не похоже, не так, как в жизни. Он ещё что-то говорил о книжке, о погоде, о ветеранах войны: ребята разыскали каких-то необыкновенных стариков… А Нина слушала его и гадала: что же в райцентре, удачно он съездил или неудачно?
В коридоре опять затопали, приоткрылась дверь. Вера явилась!
– Вера, заходи!
Та вошла, застеснялась при учителе.
– Проходи, Вера, садись вот сюда. Я уже собрался… Ты, Ниночка, давай поправляйся скорей. К следующему моему приходу книжку прочти. Гляди, спрошу!
– Ну что он? – зашептала Вера, когда они остались одни. – О чём вы тут говорили? Как он к тебе? А что в райцентре, с хорошими новостями?
– Нет… не сказал ничего. Книгу вот принёс.
Вера взяла, повертела книгу в руках, пожав плечами, вернула обратно.
– Нинка, закрой глаза! Гоп-ля! Открывай!
Шлёпнулась знакомая общая тетрадь в голубой обложке. Нина схватила её, поднесла к глазам. Сколько часов вечерами проведено над ней, какие сокровенные тайны поверены!
– Где взяла?
– Фёдор Баглаевич вернул. Зазвал в директорскую, на, говорит, отнеси Габышевой в больницу.
– Больше ничего не сказал?
– Ничего.
Затолкав ноги в тапочки, как была, в одной рубашке, Нина выбежала в коридор и швырнула тетрадь в печь.
– Ты что делаешь? – рванулась вслед Вера.
Но было уже поздно спасать. Подруги стояли рядом и молча смотрели, как клеенчатая обложка быстро свёртывается в огне, как печной ветерок листает страницы.
Вернувшись в палату, Нина ничком легла на кровать. Перепуганная подружка сидела тихо, притаившись.
– Нин, зажечь свет?
– Не надо, так лучше. Послушай, Вера…
– Что? – откликнулась та шёпотом.
– Как ты думаешь… Любовь – она может вдруг пройти?
– Как вдруг?
– А так: сейчас есть, а вот уже и нет.
– Вряд ли… Какая же она тогда любовь?
– А что же она тогда?
– Не знаю…
– Слушала я его сегодня и вдруг почувствовала: это не он. Это другой.
– Разочаровалась?!
– Нет, не так… Он настоящий человек. Но он – не он. Я это поняла. Он, оказывается, такой старый, седой. Похож на моего папу… А кто же тогда – он? Где он? Может, его совсем на свете нет?
– Не говори так, я прошу тебя. Он обязательно должен быть! Есть он!
Вера бросилась к подруге, обняла её за шею. Обнявшись, они долго сидели во тьме.
Закатное солнце отсвечивало в окнах школы на взгорке, и Аласову вдруг захотелось заглянуть в знакомые классы. Не противясь желанию, он решительно, прямо через сугробы, пошёл к школе.
Неделю он пробыл в райцентре. Придушив в себе всякую амбицию («хожу по инстанциям жалобщиком»), честно проделал он круг, который определил себе. Давал объяснения, коротал долгие сидения в приёмных, говоря себе: «О ребятах помни!» Это напутствие Нахова было ему как пароль. Побывал он и в райисполкоме, и в райкоме комсомола, у редактора местной газеты, опять у Сокорутова, а в конце недели – у Платонова в роно.
Беседа у них получилась престранная. Платонов дал ему высказаться до конца – до того, что и говорить было уже нечего. Завроно покряхтывал, передвигал с места на место какие-то чашечки, то поднимал глаза на Аласова, то опускал… А выслушав, коротко сказал: «Отменять приказ не собираюсь».
Таков был итог поездки.
А приехал – и сразу в больницу. Девочке, оказывается, ничуть не лучше. Ангина и воспаление лёгких – всё отразилось на сердце, Нина тает на глазах. «Мы ей обещаем скорую выписку, хотим подбодрить… – сказала ему медсестра, прежде чем пустить в палату. – Как же вы там учите, если умудрились довести девочку до такого состояния! Не обессудьте за прямое слово».
Нелепы были его шуточки и разглагольствования о погоде. Но ещё кощунственней прозвучали бы здесь тирады о любви к людям, о непременной победе хорошего над плохим. Какая тут, к чёрту, любовь, если девочку затравили! Случилась беда. Тут должны бы греметь все колокола, голосить все гудки, – бросайте дела, выбегайте на улицу!
Ходя по начальству, ты боялся произнести резкое слово о Пестрякове: как бы не подумали, что тут личное. Не заикнулся о странном директорстве Кубарова: славный ведь, в сущности, старик. Говорил о фальшивых оценках Кылбанова, а нужно было вообще о пребывании в школе этого растленного типа. Борешься, да с оглядочкой. Шаг вперёд, два шага в сторону. Почему, не добившись толку в райцентре, не сел в самолёт, не отправился в министерство, в обком партии? Пороху не хватило? Нет, брат, за правду всё-таки борются, а не просто защищаются.
Ну, погоди ты у меня, «застенчивый жалобщик!» – пригрозил Аласов себе самому. Словно новое зрение открылось ему в больнице, такой решимостью и убеждённостью был он наполнен! Говорят, понять свою ошибку – это уже шаг. Он сделает и второй шаг, и третий. Он сделает!
Не много времени прошло с того дня, как выставили его из школы, а поди же ты – словно год здесь не был. Как-то даже отвыкнуть успел: классная доска, стенгазета, бачок с водой, кружка на цепи. Аласов тяжко вздохнул – ах, школа, школа, боль моя и радость.
Пустая школа, но, оказывается, не один он был в этот час под её крышей, – какой-то замешкавшийся мальчонка вдруг выскочил из класса, округлившимися глазами, по-детски не скрывая изумления, посмотрел на Аласова: «Здравствуйте…» – и пулей вылетел вон.
На доске объявлений на одной кнопке висела записка, обращённая к членам кружка натуралистов. Аласов прикрепил её понадёжнее. Записка была написана рукой Майи.
В учительской просмотрел несколько классных журналов. Евсей Сектяев честно тянул тяжкий для него воз исторической науки: все уроки во всех классах провёл согласно расписанию. И только у десятиклассников по истории СССР – чистые графы. Значит, не разрешило начальство внести оценки, которые передал Аласов через Сектяева. Секретарша в роно под большим секретом сказала ему, что в Арылах ждут нового историка – сделан срочный запрос. Так-то оно! Ты всё надеешься, а на твоё место уже едет новый человек…
Но сегодня он был в больнице. Сегодня он сказал себе: «Баста! Кончился застенчивый и пугливый жалобщик». И что бы там ни шептала секретарша роно, а он хозяином вошёл в свою школу. За неё он ответчик целиком.
Высыпали ранние звёзды. Звучно повизгивал снег под подошвами. Из глубины улицы, из мглистой дали спешил человек. По тому, как быстро он шёл, чувствовалась тревога, не беда ли какая?
– Сергей!
Это была Майя. Она тяжело дышала.
– Здравствуй, Майечка. Что случилось?
– Ты… На работу вернули?
– Нет, не вернули.
– Ка-ак? Что же… Что же ты делал в школе?
Оказывается, прибежал соседский парнишка, Нюргун из пятого «Б», кричит на весь двор: «Сергея Эргисовича вернули! Сейчас в школе своими глазами видел». Вот Майя и помчалась.
– Ах ты, глупая Майка.
Он взял её за плечи. Словно ожидая этого, она припала к нему.
– Сергей, не бросай меня… Я тебя очень люблю!
У дома Пестряковых от тёмной стены отделилась тень и скользнула за угол сарая. Надежда Пестрякова! Пришла посмотреть в окно на своих детей. Аласов скосил глаза на Майю: заметила ли она?
Нет, не заметила. Лицо её было счастливое и как бы летящее. Любимая моя! Неужели это правда? Остановил, повернул её к себе:
– Майка, неужели правда?
XL. Весна, капель с крыш
Женщины, поздоровавшись и водрузив перед учётчицей ведра с молоком, ныряли за фанерную стенку, которая разделяла комнату пополам. Там слышалась шумная возня, голоса и смешки.
– Эй, женщины, – нетерпеливо крикнул за перегородку Кардашевский, – пора и совесть поиметь. Ждёт ведь Алексей Прокопьевич…
– Долго ли ждёт? – донёсся из-за фанеры задорный голосок. – Говорят, в приёмных у начальников люди сутками сидят. Пусть Алексей Прокопьевич искупает грехи…
– Если бы так просто было грехи искупать, неделю бы у вас просидел, – вздохнул Аржаков. Народ наконец расселся. – Все в сборе? Женщины, дорогие, что же это у вас на ферме творится?
Женщины зашумели, пошёл знакомый разговор: корма подвозят несвоевременно, трактор без горючего, райпотребсоюз обманул с комбикормами… Кардашевский тоже не оставался в долгу – стал поимённо называть и любительниц позоревать в тёплой постели, и болтушек, про которых пословица: шутила да смеялась, а солнце уж заходит…
– Нет, председатель, ты меня лентяйкой не обзывай. Я тут с вами лясы точу, а у меня двое под замком сидят.
– На собрании решили: концентраты всем поровну! Что ж ты, Егор Егорович, против народа идёшь? Всё мимо нас в Ымыяхтаах возишь?..
– Неразумные вещи говоришь, Лариса. Как же туда не возить, пока ещё дорога стоит! Или Ымыяхтаах – не наш колхоз? Заладила о концентратах, будто в них одних дело.
– А то не в них? Или запамятовал, Егор Егорович, что у коровы молоко на языке?
– Ты, дева Лариса, помолчи немного! Своему языку дай отдохнуть! – говорит старая Алексаш. На руках у неё синие жилы, щёки отморожены, в тёмных пятнах. Старуха она властная, самого секретаря райкома Алексеем зовёт.
– Почему надои упали? Да метель чёртова была, две недели под снегом сидели. На Ымыяхтаахе ещё труднее, мы понимаем. Но молоко будет…
– Вот! Уважаемая Алексаш мудро сказала! – Кардашевский приободрился, отыскивая переход к главному – к соцобязательствам на весенний период.
Однако после объяснений Алексаш доярки неожиданно затихли, словно выдохлись, накричавшись.
Наступает тягостная пауза.
– Охо-хо, – вздыхает женщина в стороне, она сушит над плитой сырую шаль. – Телята да надои, телята да надои… Другие слова совсем позабудешь.
– Да ведь на ферме работаешь, Аксю, а не на флоте, – возражает Кардашевский. – О чём же другом прикажешь нам беседовать?
– Погоди-ка, Егор Егорович, – останавливает его Аржаков. – Аксиньей вас зовут?
– Ну, Аксинья. – Женщина, смешавшись, мнёт свою шаль.
– А отец кто?
– Мой отец? Да что о нём, о покойнике, говорить-то?
– Звали отца как?
– А… Фёдором звали.
– Аксинья Фёдоровна, идите к нам в круг, что в стороне-то… – Аржаков освобождает женщине место. – «Телята да надой»… Очень печально это у вас получилось. Уж не горе ли какое?
Пока Аксинья идёт к скамье, устраивается на самом краешке, Кардашевский успевает шепнуть секретарю: «Антипина фамилия… Муж мотористом был, неладно жили…»
Аржаков смотрит в измученное лицо женщины.
– Говорю, уж не горе ли у вас какое?.. Конечно, если не секрет.
– А какие у меня секреты? Моя беда всем известна. Все мои слёзы на виду… Третий раз замужем. Пьяницей оказался, детей бьёт. Теперь и вовсе куда-то сбежал, прощай не сказал… А у меня трое… Сыночек, такой умный паренёк! Говорит мне: ничего, мама, к весне кончу школу, пойду в колхоз, хорошо заживём. Всю семью, говорит, кормить буду!.. Ах ты, Гошенька, говорю, ах, сыночек, если бы сбылись твои мечты, как бы мы зажили! Чуть полегчало у меня со здоровьем, уговорились мы с сыном: ты, Гошенька, кончай свою школу, а я пока на ферме поработаю. Когда-то ведь умела… Вот как мы всё хорошо придумали с сыном.
– И что же? Трудно вам на ферме?
– Не обо мне речь – о сыне…
– Заболел?
– Хуже чем заболел. Является домой: бросаю школу! И до экзаменов дотерпеть не хочет. А ведь учиться было стал совсем хорошо. Проклятый наш Арылах, говорит, нет здесь правды. Хочет ехать в город, в ремесленное училище, а потом, говорит, и вас отсюда заберу. Все надежды наши прахом пошли…
– Да что же он, твой Гоша, так на родной Арылах?
– А то… Учителя у них несправедливо уволили! Сергея Аласова. Я с ним в одном классе училась… Гоша мальчик умный, верно говорит: какая тут может быть правда, когда лучшего человека в шею гонят!
Аржаков вопросительно смотрит на Кардашевского, тот морщится, как от болячки.
– Старые разговорчики!
– Оболгали его! Всё неправда! – Аксю костлявым побелевшим пальцем оттягивает на себе ворот, словно он душит её.
– Хорошо, хорошо, Антипина, – пытается успокоить её председатель. – С Аласовым разберутся по совести, будь уверена. А мы собрались, чтобы о ферме подумать, о надоях.
Но от Аксю не так-то легко отделаться, у неё своя беда, и она для неё из всех бед беда.
– Вот я и говорю – вам надои да надои! А у доярки горе – это что, не надои? Вон Ласточка, лучшая моя молочница, совсем доиться перестала: чует ведь, что у хозяйки беда. За Серёжу Аласова вы все ещё ответите!
– Отстань ты, Антипина, со своим Серёжей Аласовым! – теряет выдержку Кардашевский. – С чего это мы станем здесь школьные дела решать!
Но председательский окрик только взвинчивает обстановку, за Аксю вступаются другие.
– Что говорить, клевета на учителя, любой скажет!..
– Вот, пожалуйста, хотел паренёк к нам в колхоз, а теперь – «в ремесленное поеду…». Такие мы хозяева!
– Это завуч из-за жены своей затеял. Я-то всю правду знаю…
– Правда – как масло над водой, всегда всплывёт!
– Ещё и девочку Габышеву к учителю приплели… Девочку не пожалели!
– Учителя называются! Как соберётся двое-трое – непременно у них склока…
– Не наше это дело в школьное лезть…
– Как «не наше дело»! В школе-то дети наши!
Кардашевский только успевает вертеть головой от одной женщины к другой. Поёживается и Аржаков.
И снова, как давеча, конец смуте кладёт старая баба Алексаш – такая у неё повадка.
– Разгалделись! А Лариска-то громче всех… Сядь на место, Аксинья! От тебя сегодня у гостей наших головы разболятся…
– Для того и говорим, чтобы слушали.
– Вся деревня об Аласове шумит, а иные ходят, будто уши у них заложило. Ничего, от нас узнают!..
– Потише, говорю! Ты, Аксю, с этим Серёжей хоть в школе училась. А мне он никто. И в школе я вовсе не была. Но за правду заступлюсь. Оклеветали учителя – верно, все говорят. Кроме хорошего, ничего об Аласове не слыхала. Почему же такая несправедливость? Говорят: это райком велел. Хорошо. А вот перед нами самый главный райком. Сейчас мы его и спросим: скажи, Алексей, за что ты сынка бабы Дарьи из школы велел прогнать?
Как тут быть Аржакову? Не станешь же объяснять, что хоть ты и «главный райком», но об учителе Аласове слышишь впервые, что по структуре райкома школы входят в компетенцию второго секретаря…
– Я предупреждаю! – кричит Аксинья о своём. – Если Гоша уедет – и дня на ферме не останусь!
Аржаков встаёт.
– Вижу, вопрос не шуточный. Только я вам честно признаюсь: ничего об этом не знаю. Был в отъезде, вчера только вернулся. Одно обещаю: всё по ниточке переберу, пока сам не разберусь, хотя… Не один я вопросы решаю.
– Так-то оно так!
– Да, товарищи, именно так! – перехватывает инициативу Кардашевский. – А сейчас прошу вернуться к нашим соцобязательствам…
– Что к ним возвращаться? Доим и доить будем. Вы вот прежде телят – о детях решите…
– Верно, у меня дома двое под замком!
– Всё говорим, говорим…
– Будем кончать, товарищи женщины. Одно словечко только: вот вы, баба Алексаш, напрасно думаете, что начальство больше о телятах печётся, чем о детях.
– Да я тебя не попрёкаю, Алексей! Однако послушай старуху – не дай погубить хорошего человека.
– Хорошего не дам, баба Алексаш!
– Вот и слава богу.
В «газике» Аржаков сел не рядом с шофёром, как обычно, а сзади, потеснив Кардашевского. Тот сердито сопел.
– Ты чего, Егор Егорович?
– Чёрт бы побрал эту Антипину! Всю обедню испортила. Высунулась с этим своим Серёжей.
– Кстати, о Серёже. В чём его обвиняют?
– Избиение колхозника… Как раз этого беглого, мужа Антипиной. Я бы и сам ему под горячую руку…
– Ещё что?
– Склоку завёл в коллективе, подстрекал учеников против завуча. Есть там и чепуха, навертели, как обычно.
– А именно?
– Любовную связь со школьницей пришивают. Я лично этому мало верю. Не таким человеком он мне показался.
– А каким?
– Сложный человек, конечно. В чём-то путаник, горяч больно… Но в смысле моральном, уверен.
– А о школьнице… на селе огласка есть?
– Ещё какая! До больницы дело дошло – хотела самоубийством покончить.
– Чёрт возьми! А как родители девушки, тянут учителя в суд?
– Наоборот! Защищают его как могут. Да нет, с девочкой явная липа…
– Сокорутов приезжал?
– Нет, не приезжал. Платонов был.
– А какова твоя лично позиция в этом деле?
– Да никакая… Я-то тут при чём?
– Ишь ты… Парторганизация у вас со школой общая? Школа не чья-нибудь, а посреди твоего колхоза? Это ведь твоя школа, председатель!
Однако Кардашевский и бровью не повёл. Он не лезет в эту грязь и лезть не собирается. Председателю с одними бы колхозными делами с ума не свихнуться! Привыкли на председателя всё сваливать – и детские ясли, и школы, и уход за кладбищами!
– А я, Алексей Прокопьевич, не школьный специалист и не судебный следователь…
– Председатель – да, он только за свой колхоз отвечает. А коммунист? «За Россию, за народ и за всё на свете». Как сказал поэт… Между прочим, исключительно верно сказано!
До самого правления они не обмолвились больше ни словом. Было за полдень, заметно потеплело, крупные капли падали с крыш. Шли мальчишки из школы, шумели, как весенние воробьи. Снег слепил глаза.
– Может, зайдём к Аласову? – спросил Аржаков, когда машина встала перед крыльцом правления.
– Нет, не пойду, – решительно сказал Кардашевский. – Не взыщи, Алексей Прокопьевич.
– Ну как знаешь.
– А дом его…
– Ладно, сам найду.
Аржаков неспешно шёл деревенской улицей, щурясь на солнце и ощущая подошвами непривычную податливость снежной тропинки.
Ух, как расшумелись доярки – до сих пор в ушах звон. Для тебя школа – один из многих «секторов», а для них: «В школе дети наши, не чьи-нибудь!»
Между прочим, спроси тебя, уважаемый секретарь, к примеру, об арылахском колхозе – назовёшь поимённо всё руководящее звено, припомнишь все угодья. А что ты знаешь о здешней десятилетке?
Действительно, что? Гм… Левин вот был, Всеволод Николаевич… А директор и завуч – эти уже туманнее… Помнится, грамоты им вручал… Да, вот ещё, был недавно случай… У Аржакова товарищ старый, сто лет знакомы, сейчас в больших начальниках ходит. Получает от него частное письмо с просьбой. Некий знаменитый в столице республики бухгалтер, исключительно почтенный человек, недавно вышел на пенсию, плохое здоровье, подорванные нервы. А его единственную дочь заслали учительницей в Арылах. Просьба такова: нельзя ли уважить престарелых родителей, перевести дочь в Якутск? Основание в общем-то благопристойное: престарелые родители… Позвонил в Арылах, пригласил учительницу С.Т. Кустурову.
Юное существо будто с обложки иллюстрированного журнала – ресницы, причёска, тоненькая шейка, краснеет и теребит висюльки на кофточке.
Беседа вышла комическая. Девушка едва не расплакалась: «Ни за что! Никуда я из Арылаха не поеду».
Дурацкое положение: выходило, будто он, секретарь, предлагал молодой учительнице сделку с совестью, а юное существо преподало ему урок принципиальности. «Ах ты славная девушка», – подумал тогда Аржаков, провожая Саргылану Тарасовну на крыльцо. Велел отвезти её в Арылах на райкомовской «Волге» и долго ещё вспоминал тот разговор: если в районе такие учителя, за школьный сектор можно быть спокойным! А вот оказывается…
В тылах деревенской улицы, на просторном выгоне стояли мастерская и кузня. Там всё звенело, полнилось весной, её весёлыми хлопотами. Эх ты, как наяривает кузнец со своим напарником! Весна, весна, чёрт возьми! Крестьянская душа секретаря сладко заныла при звуке наковальни, ноги сами едва не свернули туда, но он себя удержал.
Аржаков вошёл во двор. Стеной стоял снег, который отгребали целую зиму, желтели дорожки к хотону. Смоляной дух шёл от штабеля колотых дров, пригретых первым солнцем.
Около хотона возилась старая женщина с усталым тёмным лицом.
– Дома, дома он, – ответила, вглядываясь в незнакомого человека. – Урок у него.
– Урок? – не понял Аржаков.
Расспрашивать он не стал. Толкнул дверь, обитую коровьей шкурой. В прихожей было пусто. Однако из открытой двери комнаты был слышен отчётливый «учительский» голос. Похоже, на самом деле здесь шёл урок.
– …Особо прошу обратить внимание на последний раздел. На экзаменах он будет во многих билетах.
– Сергей Эргисович, а вы сами в каких войсках воевали?
– В пехоте.
– Сергей Эргисович, на похоронах полковник выступал… который про Сашу Левина говорил… Вы в той же армии были?
– Нет, мы с Сашей Левиным на войне не встречались. Но всё, что говорил полковник, могу подтвердить. С Сашей мы дружили. Девочки его называли Подсолнушек. Такой сын только и мог быть у Левина… Мы вот говорили о роли партии в войне. И подумаешь: не в том ли и состоит подвиг партии, что коммунисты Левины задолго до сорок первого уже ковали будущую победу – в людях, в таких, как Саша, как наш герой Фёдор Попов…
– Сергей Эргисович, на экзаменах это нужно говорить? Про Левина?
Тут учитель, как видно, развёл руками – все засмеялись. Аржаков снял шапку и присел в прихожей на табурет.
– Что ж, про Левина можно и на экзаменах говорить. Славный человек он был. Так он и стоит у меня в глазах, наш старый. Седой, а усы жёлтые. Рукой подбородок мнёт: «Тот не человек, – говорит, – который живёт как рыбак на бережку, авось клюнет. Быть человеком – значит действовать!»
Посреди комнаты Аржаков сидел на табурете, зажав шапку в кулаке и склонив голову. Что-то давнее-давнее напомнили ему и слова о старом Левине, и сам голос учителя, и этот ребячий гомон.
Вот и школьники уже об экзаменах хлопочут. Кузнец наяривает в своей кузне – даже здесь слышен звон железа. Весна, капель с крыш…
Ведь и вправду весна, товарищи!
1962-1966