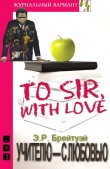Текст книги "Бьется сердце"
Автор книги: Софрон Данилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Жил-был одинокий человек, – Левин пощупал пальцами свои жёлтые усы. – Состарился вконец. Есть кое-какие сбережения, построил дом, хочет, чтобы в нем была колхозная библиотека… Ведь там даже книгам ни вздохнуть, ни охнуть, не то что людям. Если разложить этот ваш чулан на все грамотные души в деревне – по три квадратных сантиметра выйдет на брата.
– Согласен! – поспешил заверить Кардашевский. – Тоже верная критика. Но вы же знаете наши проекты – новый клуб построить, с библиотекой, спортзал…
– Э, хватит с меня ваших речей! Про клуб я уже лет двадцать слышу. Может, когда-то и построите. А пока, товарищи дорогие, вот вам дом…
Бурцев вздохнул:
– Ты, Всеволод Николаевич, меня прямо под корень сечёшь! Ну, задумал такое мероприятие – что бы поставить в известность? Мы бы массово-воспитательную работу развернули вокруг факта…
– Да-да, – подхватил Левин ему в тон. – Сколько речей можно было произнести! Зоотехник Бурцев совсем бы забросил своих коровёнок. Несчастные детишки сидели бы по углам, заучивая речи, им же, Бурцевым, сочинённые. Нет, право, жаль, нужно было мне заранее…
– Шутки шутками, – возразил Кардашевский, – но, думаю, ничего предосудительного, если люди по такому поводу соберутся.
– И то! – воскликнул ободрённый парторг. – Может, и в самом деле? Вы только взгляните в окно: народ валом валит.
– Эх вы! – укорил их Левин. – Всё-таки взбаламутили людей. А теперь разыгрываете спектакль.
– Вот клянусь! – Бурцев даже в грудь себя ударил. – Честное слово, Всеволод Николаевич!
– Хорошие вести – они с крыльями, – вставил Кардашевский и распахнул дверь: – Входите, товарищи! Все входите…
– С новым домом, Всеволод Николаевич!
– Обмыть не мешало…
– Кому что, а ему только обмыть!
– Болот Нюкулайабыс, с новосельём вас!
– И нас!
– Вот вам и митинг, товарищи. Прямо-таки негаданно получилось, – сказал председатель. – Как ни сопротивлялся хозяин, а придётся ему выслушивать наши благодарности.
– Дай-ка мне, – попросил из задних рядов тракторист Паша Томмотов. – Расступись, народ, а то испачкаю… Дайте человеку раз в жизни серьёзно высказаться… Я к Всеволоду Николаевичу вот таким шпингалетом пришёл учиться. Почему-то в детстве мечтал олонхосутом стать… Жаль, не получилось, талант не к тому. А сейчас вот как пригодилось бы! О таких людях не скажешь словом, надо песню спеть…
Тут все загомонили. Левин обнял Пашу, что-то сказал ему на ухо – тот засмеялся.
– Простите меня, старика, – сказал Левин, – устал я что-то. Больно много шума получилось. А касательно благодарности, то будет у меня к вам просьба: ходите сюда почаще. Вот тебе, беляночка…
Старик протянул Тамаре-библиотекарше ключи на проволочном кольце, оглянулся ещё раз на книжные стеллажи и стал пробираться к двери:
– До свиданья, всем спасибо за добрые слова…
Слышно было, как Левин грузным шагом сошёл с крыльца.
– А ведь за сердце держится старик! Худо ему стало…
– И проводить не догадались!
– Ахти нас, бежим догоним!
Левин даже испугался, увидев бегущую на него разноголосую толпу.
XXII. С чего началось
– Саргылана Тарасовна, разрешите, пожалуйста, ознакомиться с вашими поурочными планами.
– Пожалуйста.
Пестряков минут десять читал, словно заучивал наизусть. Затем он пошевелил губами, чем привёл в движение усы.
– Н-да, план подробный… По такому плану и работать легко, – он подтолкнул снизу свои очки. – Так как называется у вас тема сочинения для шестого «Б»?
– «Если бы я был волшебником».
– Волшебником?..
– Прекрасная тема! – вмешался Нахов. – Хоть позаимствуй! А то сплошная преснота: «Моё лето», «Пионер – всем пример»…
Тимир Иванович не спеша открыл свой портфель, достал министерскую книжку. Начинался государственный разговор.
– Садитесь, Саргылана Тарасовна, в ногах правды нет. Вам известно, какие темы рекомендуются для шестых классов?
– Известно. Я читала…
– И ваша тема здесь тоже указана?
– Нет, не указана.
– Выходит, такую тему нам не рекомендуют? – спросил Тимир Иванович, подводя собеседницу к нужному выводу.
– Не знаю…
– Плохо, что не знаете. Программа для нас – закон, принятый государством, и мы обязаны выполнять его. Кстати, я вам об этом уже говорил, – помните, случай с дуэлью Пушкина? А теперь – здравствуйте, «волшебники»… и уже успели провести в шестом «А». Вина наша общая, ваша и моя, недоглядел. Так давайте больше не повторять этого. Попади это сочинение на глаза какому-нибудь придирчивому инспектору, как пить дать, идейная ошибка! Говорю вам как старший товарищ.
Словно зелёная веточка, вынесенная на мороз, Саргылана сникла на глазах. А ведь недавно и Майя и Аласов так хвалили её «волшебников»! Саргылана глянула на Майю, ища поддержки.
– Поступим, Саргылана Тарасовна, таким образом: эту тему вы замените другой, более подходящей…
– Нет, – еле слышно пролепетала девушка.
Тимир Иванович не сразу понял:
– В каком смысле «нет», Саргылана Тарасовна?
– Не заменю, – осмелела она и сама устрашилась своей смелости.
– Молодец! – рубанул Нахов.
Завуч, откинувшись в кресле, посмотрел на девушку как на диво: до вчерашнего дня голоса подать боялась, не то что перечить… Однако сердиться на детей – не самая верная педагогика, и потому свой гнев завуч обрушил на Нахова:
– Прошу не вмешиваться! Я разговариваю с Саргыланой Тарасовной, а не с вами, товарищ Нахов! Прошу не мешать нам. Если это в ваших возможностях!
– Возможности есть… – буркнул Нахов и повернулся спиной к завучу.
– Уважаемая Саргылана Тарасовна! Может быть, вы всё-таки объясните, что значит ваш отказ?
– Не заменю, и всё, – с упорством сказала та, не поднимая глаз.
– Вот я и прошу вас объяснить. – Завуча уже не хватало, он начал сдавать. – Вот я и требую…
Майя поняла: пора вмешаться.
– Тимир Иванович, я тоже не понимаю… Тема творческая, я читала сочинения шестого «А», у них очень хорошо получилось. Вот и Аласов читал…
В учительской появился Сергей, раздеваясь, он отряхивал иней с шапки.
– Вот как? – удивился завуч. – Вы тоже, Сергей Эргисович, считаете, что уместно заставлять детей писать сочинения про волшебников? Это в то время, как от нас требуют укреплять материалистические воззрения?
– По-моему, материализму здесь ничего не угрожает, – пожал плечами Аласов. – Даже наоборот…
– Гм… гм… И вы действительно после уроков сообща изучаете школьные сочинения?
– А что, разве это плохо? – спросил Аласов.
Завуч постучал в дощатую перегородку. Директор сейчас же явился, по обыкновению, с трубкой в зубах.
– Вот, пожалуйста, Фёдор Баглаевич. Некий новоявленный методический центр в нашей школе вынес решение, целиком игнорирующее нас с тобой.
Историю с «волшебниками» в изложении завуча Кубаров выслушал терпеливо, время от времени поглядывая то на одного учителя, то на другого: «Вот как! Скажи, пожалуйста». Приговор его был миролюбив, но категоричен:
– Друзья мои, не надо горячиться. Саргылана Тарасовна заменит тему – и спорить тут нечего. На её месте я бы ещё поблагодарил Тимира Ивановича за добрый совет. Ха! «Если бы я был волшебником»! А то можно и поближе к Якутии – «Если бы я был шаманом»?!
В этом месте своей речи Фёдор Баглаевич так пыхнул трубкой, что скрылся в облаке дыма.
В коридоре зазвенел звонок.
В тот же день, после уроков, задержав Саргылану «на минуточку», Фёдор Баглаевич вынес из своего закута толстую прошнурованную книгу:
– Саргылана Тарасовна, вот тут… прочитать и расписаться.
Майя, поджидая подругу в сторонке, видела, как девушка отложила портфель и хотела уже расписаться, но остановилась.
– Расписывайтесь, расписывайтесь… Это ведь формы ради. Тут вот написано. «Ознакомилась». Только в том смысле, что ознакомилась.
Закусив губу, Саргылана черкнула на раскрытой странице. Фёдор Баглаевич вздохнул облегчённо.
– Саргылана! Фёдор Баглаевич! Погодите же… – только и успела крикнуть Майя. – Фёдор Баглаевич, за что расписывается Кустурова? Что это всё значит?
Фёдор Баглаевич, зажав книгу под мышкой, вместо ответа достал из кармана трубку и коробочку с табаком, прицелившись, вынул из табака несколько крупных будылок, аккуратно сложил их на столе, забил нужный заряд в трубку, уплотнил его большим пальцем, зажёг, с напряжением втягивая щёки, пыхнул несколько раз и только потом ответил:
– Э, пустяк, Майечка! Мелочи жизни…
– А всё-таки? Я хочу взглянуть на запись.
– Пожалуйста, – разрешил директор, правда, без всякого энтузиазма. – Вот, прошу. Мне от учителей скрывать нечего.
В книге приказов было сказано, что учительнице С.Т. Кустуровой директор ставит на вид «за недопустимое… некритическое… неуместное…».
Майя вспыхнула от негодования.
– Это несправедливый приказ! Разве можно накладывать взыскание на молодого учителя, который только-только нащупывает дорогу? Так нельзя, Фёдор Баглаевич! – Майя просительно дотронулась до рукава старика. – Я вас очень прошу, отмените этот приказ!
– Отменить уже подписанный приказ? Зря ты, Майя Ивановна, шум поднимаешь!
– Нет, Фёдор Баглаевич, я буду шуметь! Ещё громче буду шуметь! Завтра у нас педсовет…
– Вот ты нам всем и докажешь! – подхватил Фёдор Баглаевич. – Постарайся, Майечка, молодцом будешь. Думаешь, мне самому приятно? Но как оставить выходку без внимания! Ты бы, Майя, лучше разъяснила толком молодой своей подруге… И вообще, нечего тут убиваться, подумаешь, великое дело – на вид! Скажу вам, что я, например, за свой век их столько, этих самых выговоров и предупреждений, нахватал! Однако хожу жив-здоров, табак курю…
С этими словами, удовлетворённый своей справедливостью и принципиальностью, Фёдор Баглаевич, не торопясь, удалился за перегородку.
Майя представила себе во всех подробностях эту сцену и опять, как тогда, задохнулась от негодования: как они посмели! Обидеть Саргылану, мою девочку…
Она сидела в пустой учительской – после уроков не пошла домой, решила дождаться начала педсовета. Уж она выскажет им всё! И тут же усмехнулась сама себе: ишь ты, воительница!
До сих пор был у неё сокровенный, от всех отгороженный мир: память о Сене. Пусть вокруг любые бури, но в этот мир не долетит и пылинки от них, здесь воздух чист, закаты печально-спокойны. Так было всегда. А теперь? Почему-то вздумалось тебе праздновать Октябрьские, назвала гостей. Помчалась на танцы с Аласовым, а потом ревела до утра. Накинулась на директора, истерику ему закатила. А в лыжном походе? Экая впечатлительность! Уже сколько раз говорено: не лезь, куда тебя не просят. Аласов свободный человек, пусть себе любезничает с кем угодно. Пусть вешаются на него хоть Надежда, хоть Степанида, тебе-то какая забота! Давно пора этого Аласова женить на Стёпе, сразу спокойней станет.
Нервы, нервы…
Стал собираться на педсовет народ: развешивал диаграммы Пестряков («графические доказательства нашего роста»), умостились на диване Сосины. К Майе подсела Стёпа Хастаева.
– Не помешаю?
Стёпу после болезни не узнать: краситься перестала, тихая какая-то.
– Стёпа, как здоровье?
– Спасибо, Майечка.
– Грустная вы…
Стёпа слабо улыбнулась:
– Это и есть, Майечка, верный признак моего выздоровления. Отпрыгала Стёпа своё…
Слово «выздоровление» она произнесла с особым, только ей одной понятным значением.
– Стёпа, дорогая, что с вами всё-таки происходит?
С острым вниманием Хастаева взглянула на Майю.
– Вот хочу посмотреть на вас… – сказала она, странно растягивая слова. – Запомнить, какие бывают… счастливые…
Озадаченная Майя попыталась свести всё к шутке:
– Если оно такое, счастье-то…
Но Хастаева не поддержала, глаза её были сумасшедшими.
– Ах, как он вас любит, Майя! Боже, если бы…
Не договорив, Стёпа поднялась с места и вышла из учительской.
«Ах, как он вас любит, Майя…»
Любит? Меня? Серёга Аласов? Зачем она это сказала? Разве можно бросаться такими словами? Лучше сгореть сейчас до пепла, чтобы не думать, не повторять мучительно: «Ах, как он вас любит!»
– Товарищи, прошу внимания!
Усаживается на председательское место Кубаров, рядом с ним завуч: положил перед собой «чёрную тетрадь». Пришёл позже других Аласов, сел неподалёку. Майя взглянула на него, наверно, такими же глазами, как давеча Стёпа: неужели правда?
– Успеваемость у нас в целом по школе восемьдесят два процента… (Это Фёдор Баглаевич держит речь.) И эти проценты, товарищи, не фунт изюму. Это победа нашего дружного коллектива! (Кубаров, говоря свою речь, пустой трубкой чертит в воздухе плавные круги, священнодействует.) Позвонил я сегодня директору Соболохской школы, – как, думаю, дела у них. И до восьмидесяти не дотянули… Будем же идти дальше и выше! Без лишнего шума-гама, без склок и препирательств!
Погоди, Фёдор Баглаевич, я испорчу тебе обедню, сейчас я тебе настоящую правду о нашей школе скажу! А то убаюкивает: «без шума-гама»…
И убаюкал. Евсей Сектяев безмятежно читает книжку: положил себе на колени, как ученик на уроке, незаметно от начальства. Две молоденькие учительницы из начальных классов строчат друг другу записочки. Кто-то занялся извечной учительской заботой – проверяет тетради. Сладко смыкаются веки у Сосина – вот-вот задремлет, труженик коровий.
– …Таковы наши расчёты на ближайшую четверть, товарищи, – а это уже читает по бумажке Пестряков, то и дело подталкивая пальцем очки кверху. – А восемьдесят пять процентов, повторяю, для нас совершенно реальный рубеж…
– Верно! – Кылбанов даже в ладоши ударил.
Аласов сидел и томился: эта дурацкая привычка читать заранее писанное! Укачивает, как лодка на мёртвой зыби. В последнее время успеваемость в классах на самом деле заметно возросла: вместо двоек и троек – пятёрки… Как на пашне после благодатного тёплого дождя: была только серая земля – и вдруг разом поднялась зелень. Приятно взять в руки любой классный журнал! Но вместе с тем какая-то заноза в душе то и дело даёт о себе знать. Один только пример – Савва Ордахов – лентяй, который дотягивает десятый класс из расчёта на великий «авось», вдруг за какую-то неделю по ненавистной ему физике четвёрку получает, а следом ещё четвёрку – не чудо ли? Приписки? Но как доказать? Не докажешь – клеветником назовут.
Ого, кажется, завуч и его хвалит. «Инициативность, улучшилась дисциплина, растёт успеваемость». Гм, после этих слов он положительно обязан встать и рассказать о Савве, простая порядочность повелевает это сделать.
А вот и Майю хвалят. Её-то за дело, но что с ней сегодня? Уже трижды Аласов поймал её взгляд на себе. Глаза страждущие, молящие. Нервно мнёт листок в руках, на себя не похожа. Майка, милая, что с тобой?
– …Это граничит с подрывом авторитета школьного руководства! И такое позволяет себе молодая учительница, комсомолка…
О ком это? Неужто о Саргылане Кустуровой? Ну, зачем же! Она только на ноги становится, а он набросился. Ба, да Саргылане, оказывается, и в приказе записали. За этих самых «волшебников»… И при этом с постным лицом: «Мы всегда должны помнить, что педагогическая работа – дело творческое». Нет, друг Аласов, деваться некуда, как только Пестряков кончит, тяни руку вверх. С Саргыланы и начнёшь. Вот тебе и умный человек, Тимир Иванович: живые примеры, цитаты из «чёрной тетради», а по существу ни анализа, ни обобщений. Факты, факты, мешок фактов… Слава богу, кончился наконец доклад. Кажется, Майя потянула руку, или показалось? Показалось. Просто трёт ладонью лицо.
– Слово предоставляется Акулине Евстафьевне…
Досада, опередила тётка! Сосина поднимается со скорбным лицом – покритиковали её сегодня, бедняжку. Сейчас будет каяться.
– У меня не всегда получается хорошо, это верно. Однако кто из учителей к каждому уроку готовится? – Изрёкши столь глубокую истину, она передохнула, утёрла пот с лица и пошла дальше: – Очень хорошо сказал Фёдор Баглаевич – давайте работать мирно и дружно. Поменьше склок, больше времени останется об уроках думать…
Завуч сочувственно кивает головой, выразительно смотрит в сторону Нахова.
– Продолжайте, продолжайте, Акулина Евстафьевна. Но та в самый ответственный момент опростоволосилась – смахнула локтем охапку бумаг – шурр! – всё разлетелось по полу. Толстая, в поту, она полезла подбирать. Сосин-муж зарычал: «Соберу сам…» – и сполз на пол вслед за супругой. Пропал весь эффект… Так Акулина Евстафьевна и не довела до завершения мысль: какая связь между её собственной бездарностью и «критиканами». И вот с этакой халдой ставят рядом умницу Саргылану Кустурову, обеих критикуют заодно!
«…Надо жить мирно…» Между прочим, очень похоже на твои недавние мысли. Можно сказать, что ты с этой Акулиной Евстафьевной вроде как единомышленник, такой же любитель тихого житья – чтобы былинка не надломилась и водичка не всколыхнулась… Немедленно бери слово! Тяни руку, дьявол тебя побери!
– Аласов? Очень приятно. Слово предоставляется товарищу Аласову… Давай, давай, Серёжа, а то мы тебя на педсоветах ещё и не слыхали. Свежий человек – свежий голос. Что хорошего скажешь?
– Боюсь, Фёдор Баглаевич, что не всё про хорошее получится.
– Ничего, давай как можешь.
– Я начну, товарищи, с критики доклада Тимира Ивановича…
Завуч снял очки, в упор посмотрел своими острыми глазами (интересно, зачем ему при таких глазах очки?).
– Доклад этот, товарищи, мне не понравился. И вот почему…
Они вышли из школы вместе. На скользкой дорожке, раскатанной ребятами, Аласов поддержал Нахова под локоть.
– Да, знатная банька получилась, – кряхтя, сказал тот. – Даже кости ломит. Ты меня прости, Сергей Эргисович, подпортил я тебе маленько. Возбуждаюсь, несдержан. У тебя была разумная речь, а меня опять чёрт понёс.
– Зато вам, Василий Егорович, и досталось в заключение больше других!
– Тактика! Не со всеми ругаться, а одного отбить от стада и выпороть в назидание остальным. Что же касается вас, Сергей Эргисович, то тут дело похитрее. Вы его раскритиковали, а он великодушно обошёл вас в заключительном слове, да ещё и пряник подкинул: «Мой ученик, наш воспитанник»… Знаете, что это значит в переводе на нормальный язык? Дорогой мой бывший ученик Серёжа Аласов! Ты, конечно, сегодня набедокурил немало, но мы люди не злопамятные – на первый раз можем и простить. Только ты правильно оцени нашу доброту. Сегодня мы пощадим тебя, а там уж пеняй на себя… Ясен вам перевод?
– Уж так ясен!
– Вот то-то же.
XXIII. Газета тридцать девятого года
Рёв потряс школу, будто пролетел над крышей истребитель. Фёдор Баглаевич хлопнул себя по бокам, как наседка крыльями, и выскочил во двор, на ходу надевая свою знаменитую доху с лисьим воротником.
Производственные мастерские, пристроенные к зданию школы, с недавних пор стали приютом для кружка мотористов. Возглавил его энтузиаст-колхозник, некогда первый в наслеге тракторист Алексей Ынахсытов. Было оно хоть и полезное дело, но, с директорской точки зрения, небезопасное – того гляди, сожгут школу.
Появления директора в мастерских никто не заметил – десятка два учеников, с физиономиями, весьма перепачканными, кричали, размахивали ключами и кусками ветоши, по-шамански прыгали вокруг сотрясающегося допотопного трактора. С чёрными полосами на щеках тут же стоял Аласов. Сам Ынахсытов лежал под трактором, торчали наружу только его подшитые кожей валенки.
Кубаров, поднатужившись, перекричал шабаш: рёв мотора покорно умолк. Усатый Ынахсытов вылез из-под трактора.
– Воскрешаем, Фёдор Баглаевич, сердце покойника… Не хуже тех хирургов! Слыхал ведь звук?
– Как не слыхать! Оглохнуть можно. Сергей Эргисович, хоть бы ты их в рамках приличия держал!
– А я что, – Аласов невинно пожал плечами. – Я тут рядовой курсант.
Приобняв за талию, директор повёл Аласова к выходу:
– Пойдём-ка, Серёжа, на свет, я тебе платочком копоть сотру с лица. По-отечески поухаживаю, пока ты молодой женой ещё не обзавёлся.
– Спасибо, Фёдор Баглаевич. Эк я, оказывается, перемазался…
– Рабочая грязь – дело не зазорное, А вообще хочу тебе от чистого сердца сказать: тут ты, Сергей Эргисович, настоящим молодцом себя показал. И со «следопытами», и с трактором этим. Нужно к ребятам постепенно, а не то что с ножом к горлу – полюбите колхоз немедленно!
«Вот именно», – подумал Аласов, но промолчал, не стал ничего напоминать старику.
– Между прочим, говорят, твои «следопыты» какую-то старую газетку отыскали?
– Отыскали. Письмо бывших наших учеников…
Кубаров всё не отпускал его, снизу вверх заглядывая в лицо добрыми медвежьими глазками.
– Ах, Серёжа, Серёжа, умница. А ведь что на педсовете нагородил?! Эх, молодо-зелено… И кого в зубах трепал? Учителей своих! Людей с тридцатилетним педагогическим стажем! Знаешь, Серёженька, с твоими взглядами ой-ой как трудно тебе будет! Особенно с Тимиром Ивановичем. Я-то всегда тебя и пойму и прощу. А он…
– Это что же, – Аласов высвободился из объятий. – Вроде бы предупреждение от лица руководства?
– Да что ты городишь! – директор замахал руками. – Вот нынче молодёжь обидчивая пошла! Как порох. Я ведь сердечно! Если хочешь знать, – он понизил голос до шёпота, – я его сам, Тимира-то Ивановича, порой побаиваюсь… Он, брат, у-у… серьёзная штука! Ты человек новый, всех здешних хитросплетений не знаешь… Не знаешь, а в своей речи, если хочешь начистоту, весь коллектив охаял! В точности как Нахов. Кой чёрт тебя, Серёженька, к этому крикуну тянет? Разве ты не видел, как он твоё выступление использовал – свои дрязги раздуть!
– Какие дрязги? Очень даже дельно сказал. Разве что погорячился малость.
– Между прочим, поговаривают, ты с ним водку пьёшь?
– Не буду больше, Фёдор Баглаевич.
– Чего не будешь?
– Не буду больше водку пить. Перехожу на молоко.
– Ах, Серёжа, Серёжа, ты всё-таки подумай, не шути.
– Не шучу, Фёдор Баглаевич…
Газета, о которой вспомнил Кубаров, стала в десятом классе сенсацией. А маленький тихий Ваня Чарин выбился в герои – ведь с него-то всё и пошло.
В одно из воскресений парнишка отправился в дальний Урасалах проведать старую тётку. Бездетная одинокая женщина, как водится, постаралась использовать физическую мощь юного родственника – Ваня весь день провёл с молотком и топором, укрепляя ветхую тётушкину избушку.
В углу под потолком, где обои отстали, стена оказалась оклеенной старинными газетами – на немецком языке. Откуда и когда в Урасалах могли попасть немецкие газеты? Ваня попробовал читать, получилась удивительная вещь: стали складываться не немецкие, а… знакомые якутские слова
[Закрыть]! Рассказывалось не о чём-либо, а об их школе! Мелькнуло в тексте даже имя Гоши Кудаисова… У Вани Чарина от удивления голова кругом пошла: тысяча и одна ночь!
Будучи истинным следопытом, Ваня Чарин сначала постарался терпеливо разобраться в тексте – делать это ему пришлось, вися чуть ли не вниз головой. Оказалось, это был номер якутской газеты «Эдэр бассабыык»
[Закрыть]за 1939 год. На видном месте здесь было опубликовано письмо двенадцати комсомольцев – они окончили школу и решили остаться работать в родном колхозе. За комсомольской бригадой правление колхоза обещает закрепить специальную ферму, тягло и технику, земельный участок, а молодёжь берёт на себя обязательство в ближайшие годы вывести свою ферму в число передовых. Под письмом подписи: Вася Терентьев, Дора Иванова, Гоша Кудаисов…
Исключительный документ сам идёт в руки! Кто знает, может, этот первый вклад в науку Ивана Кирилловича Чарина потом будет отмечен во всех биографиях знаменитого учёного-историка!
Парень взял топор и под негодующие крики тётки вырубил кусок стены вместе с газетой.
В школе дощечку бережно передавали из рук в руки, её расшифровывали, комментировали на все лады. «Гоша Кудаисов – это, как выяснилось, отец сегодняшнего нашего Гошки (который, как известно, Егор Егорович).
– А «Вася Терентьев», – похоже, мой дядька, – догадался Ким Терентьев. – Был у меня дядя, старший брат отца, на войне погиб. Я его на снимке видел.
После уроков в хибару возле электростанции отправились делегацией. Аксю в первую минуту испугалась нашествия, но Гоша объяснил матери, в чём дело. Оказалось, она не только всё знала о бригаде, но сама была её членом. И заметку в газету писала!
– Погодите, деточки, погодите, дайте собраться с умом.
Верно, перед войной это… Вася Терентьев был заводилой. Лохматый он такой ходил. Ух, как тряхнёт кудрями, как махнёт рукой: добьёмся самых высоких надоев! Молодые были, силы сколько хочешь, всё сможем. Колхоз сомневался, а потом, однако, дали нам небольшую ферму. Ту, что за Толооном, сейчас там и пеньков не осталось. Ох, и работали мы! Хорошая была у нас дружба. И любовь… Поженились сначала Вася Терентьев и Олечка… На другой год и мы с отцом Егорши свадьбу справили. Да… И всё у нас ладно пошло. Мне даже премию дали – шапку такую модную, с бисером, как сейчас её помню. А какая озимь в тот год выдалась, сердце веселилось!
Аксю задумалась, замолчала надолго.
– И вот – война. Пришла, проклятая, всю жизнь крест-накрест. У меня на том всё и кончилось. Первые ушли Вася, Коля Кондратьев, Фёдоров. Конечно, в колхозе сразу пошли срывы. Стали нас бросать то туда, то сюда, поломалась бригада. А потом и мой Егор ушёл. Когда прощался, сказал: «Вернёмся – опять одной бригадой работать будем». И не вернулся. И Вася не вернулся. И Митин, и Фёдоров. Коля Кондратьев на одной ноге пришёл. Дора на третьем году войны сопровождала колхозный гурт за Медвежью речку, простудилась в дороге и померла… А Нюту замуж взяли в другую деревню… Вот и осталось нас от бригады – я да Вера ещё, Веру Михайловну знаете? Разметала всех война…
Гоша и мучился, и гордился, и стыдно было ему, когда мать разрыдалась, долго не могла уняться, но когда сказала о премии, не без тайной гордости покосился на товарищей, особенно обрадовало его, что Лира это услыхала. Пусть знает, что не всегда Кудаисовы были посмешищем деревни, не всегда они славились скандалами. Мать его когда-то была молодой и весёлой, знатной колхозницей была – премии получала!
Молодой была… Гоша никак не мог представить себе мать молодой. Сколько помнит её, всегда она была старая, измученная. Как горько сказала она тогда учителю Аласову: «Ко мне жизнь всё задом». Мать часто рассказывала, какая в войну нужда была, как жилось голодно. Да и потом не легче. Эти драки проклятого пьяницы, откуда только он взялся на их горе! Не раз замечал Гоша, с какой тоскливой завистью смотрит мать на женщин, которые проходят мимо их хибары. Женщины хорошо и тепло одеты, сытые, бывает, под руку со своими мужьями… А у неё одна забота день и ночь: как прожить, как детей накормить, одеть. «Мама, а что же ты сама не ешь?» – «Кушай, кушай, сынок, я не голодная, я пока готовила, наелась…» И стареет, стареет, год от году всё заметнее, и всё больше страха в глазах. Неужто так ей до самой смерти теперь?
Гоша поднялся с постели, сел, глядя в душную темноту. Нет, сказал он себе, нет, так нельзя. Серьёзно сказал, как мужчина, как человек, которого жизнь подвела к единственно верному решению. Нет, так дальше не будет, по-другому будет. Весной кончу десятый и сейчас же на работу. На самую тяжёлую! Чтобы хватало трудодней на всё: и мать поддержать, и сестрёнок поставить на ноги. Правда, она всё об институте твердит. Хочется, чтобы как у людей, чтобы дети в жизни не бедствовали из-за куска хлеба. Не беспокойся, мама, станем людьми! Вон колхозный партсекретарь Бурцев – простым фуражиром был, а теперь зоотехник, выучился без отрыва от колхоза.
Я всё смогу! Только бы мать не помешала. А на Антипина, на этого пьяницу, разве можно надеяться? Ты на меня надейся, мама! Скорей бы утро… Он встанет и сразу же всё скажет ей. Не заколеблется, не отступит! И ещё увидит, как мать улыбнётся, как сестрёнки станут бегать по деревне в белых заячьих шубках…
А Лира?! Они столько раз фантазировали, когда вместе шли, бывало, в школу: она поступит в МГУ, он в Тимирязевку, это в Москве, говорят, совсем рядышком.
Выходит, этого теперь не будет? Но ничего, ничего, надумал всерьёз, значит, чем-то и поступиться надо. Ничего! Лира окончит свой филфак и вернётся преподавать литературу сюда же, в Арылах…
На первой перемене он отозвал Юрчу Монастырёва в сторону. Юрча тоже мечтал о Москве, и у них было нечто вроде мужского договора – в столице держаться вместе. Отозвал, не глядя другу в лицо, твёрдым голосом, как об окончательно решённом, рассказал ему всё. Но удивительно – Юрча не рассердился, не попрёкнул. Он хлопнул Гошу по плечу:
– Слушай, Егорша, ты – молодец! О тебе обществу нужно сообщить, народ должен знать своих героев!
Не успел Кудаисов и рта раскрыть, как Юрча уже митинговал перед классом:
– Братцы, народы! Гошка после выпускного добровольцем идёт в колхоз работать! И подаёт на заочный! Нашего общего друга Антипина сдаёт в металлолом на переплавку. Высшая форма сознательности!
Последнее время десятый класс постоянно пребывал во взвинченном состоянии. Его то и дело сотрясали общественные катаклизмы, по поводу чего мужчины держали речи, а женщины, как водится, кричали «ура» и в «воздух чепчики бросали». То история с пастухом Лукой Бахсытовым, то возвращение в строй изгнанника Макара Жерготова, то взбудоражившее всех известие, что старый Левин подарил деревенской молодёжи дом с библиотекой, то находка Вани Чарина. А теперь вот – Гоша Кудаисов.
И снова загомонил десятый класс, слава опустилась на плечи очередного героя. Гоша под этим бременем сидел уткнувшись в парту и головы не поднимал.
– Гоша, неужели правда?
– Что тебе взбрело, Кудаисов!
– Пусть Егорша сам скажет!
– Ой, девочки, как романтично! Егоршин отец, помните, как сказал: я вернусь. И вот в колхоз опять приходит Егор Кудаисов!
– Нинка, тебе бы романы писать!
– А что!..
Лишь одного голоса Кудаисов так и не услышал – голоса Лиры. Глянув в её сторону, он перехватил её тревожный, вопрошающий взгляд и ещё ниже опустил голову: не Юрче Монастырёву, а ей нужно было рассказать прежде всего. Ах ты, дурила!..
– Я вот, Гошка, посмотрю-посмотрю на тебя, да и сам тот же номер выкину… Работать и учиться заочно – чем плохо? На заочный и устроиться легче, – говорил между тем Ким Терентьев.
Он с силой двинул Гошку в бок и уселся с ним рядом. Они сидели, подперев друг друга плечами и вроде бы даже чуть-чуть обособившись от остального галдящего народа.
– Мой дядька бригадиром был, а я что же? Вдвоём двинем, верно?
– Почему это вдвоём? Может, больше наберётся!
Это Макар Жерготов сказал. Будучи человеком рассудительным и «мятым жизнью», он не хлопал по-ребячьи в ладоши, не шумел зря, а с основательностью взрослого человека лишь усмехнулся отчаянному порыву Терентьева:
– Тут, брат, никакого особенного геройства не требуется. Для меня, например, этот вопрос давно решён. Считай, уже трое нас, ещё кого-нибудь сманим. И будет у нас своя бригада.
– Бра-атцы, это идея! Свою ферму, трактора свои, непременно автомашину,
– Ты, Юрча, ещё вертолёт потребуй!
– А ферму возьмём ту самую, Чаран, куда после бурана ходили! Там луга, озеро можно соорудить. Нет, серьёзно! – Монастырев ещё пуще взвинтил себя. – Первая ферма в Якутии! Во всей Сибири! Бра-атцы, я – всё! Остался…