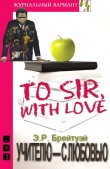Текст книги "Бьется сердце"
Автор книги: Софрон Данилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
XXXV. Мама, защити!
Сопротивляться, доказывать – всё бесполезно. Она поняла это, когда её наконец отпустили, и она, не помня как очутилась на улице, побежала.
Все эти дни Нина жила в состоянии, похожем на сон: летела в бездну, но понимала, что это всего лишь сон. И как во сне, напрягаясь всей душой, держалась из последних сил – лишь бы дотянуть до того момента, когда беда отступит. Но когда они сказали про врачей, она словно проснулась. Сон продолжался наяву. Сергей Эргисович велел ей: иди домой, и она пошла. А они остались там с её дневником. Инспектор из райцентра приехал, чтобы отвести её к врачам.
Тут ей показалось, что уже глубокая ночь, и она идёт не в ту сторону – куда-то в алас, где тайга и валуны. Она в страхе повернула назад, но скоро остановилась: а в другой-то стороне, что там? Разве среди людей – не тайга, разве не валуны?
Вдруг будто светом её озарило: мама! Ты одна можешь меня спасти, умоляю тебя, мама!
Нина кинулась к дому.
Рослая женщина, большерукая и по-мужицки широкоплечая, недвижно сидела в кухне. Ей было видно, как двором пробежала Нина в распахнутом пальто.
– Мамочка!.. – Нина уткнулась ей в колени. Она плакала обречённо, как не плакала никогда в прежние времена. Но колени были неподвижны. Почему она не погладит дочь своей большой тёплой ладонью?
Девочка подняла лицо и увидела отчуждённые глаза матери.
– Отчего пришла такая? Гнались за тобой?
Где знать девушке, какие длинные ноги у сплетни, какая в ней таится сила, как она может поколебать даже самое верное сердце.
Один бог знает, что пережила сегодня Анфиса Габышева, поджидая дочь из школы. Ещё утром к ней заглянула коротышка Настасья и с удовольствием пересказала то, что всем остальным уже известно. Выпроводив разносчицу новостей, мать, словно из помойного ушата облитая, весь день просидела у окна, думая об услышанном, вспоминая, какой странной стала дочка в последнее время. Вперится в одну точку и долго так стоит – котёл с мёрзлым мясом успел бы закипеть… А то ночь напролёт ворочается в постели. Учитель Сергей Аласов… По годам-то он, наверно, и самой Анфисы старше!
– Что же ты молчишь? Или позор в дом принесла? – Анфиса оттолкнула дочь.
– Мама!
– Ты знаешь, негодница, что о тебе говорят?
– Мама, не надо!
Девочка боком, путаясь в пальто, стала пятиться от матери и вдруг нырнула в сени.
Взошёл над деревней месяц-светляк. Он забегал то справа, то слева, будто пытался заглянуть ей в лицо.
Неизвестно, долго ли она брела, увязая в снегах, только вдруг наткнулась на сенную изгородь. За редкими деревьями мигали огни, от которых она ушла. За городьбой слышен был настороженный гул леса.
– Мама!..
Перегнувшись через прясло, она плакала в голос что было мочи – никто её здесь не мог услышать. Потом утёрла слёзы, посмотрела на манящие огни деревни. Разве может она вернуться? Убежать бы далеко-далеко, оставить позади весь позор!
Она двинулась по санной дороге к восточному краю аласа. Как в деревянном чороне с кумысом, в голове у неё что-то бродило, но никак не могло оформиться в мысль – только неизбывное чувство несчастья стояло над всем.
Скоро она сообразила всё же, куда идёт. Было у неё заветное местечко в этом лесу: если пройти берёзовую рощу, попадёшь в листвяк, а в том листвяке кругленькая поляна. На поляне когда-то две берёзы росли из одного корня. Одну спилили, лишь пень от неё, а другая осталась. Одна осталась… Была она кривая, – наверно, за то её и не тронули. И всё тянулась туда, где когда-то стояла её подружка… Не раз минувшей осенью Нина приходила к любимому дереву – посидеть на пне в одиночестве, помечтать.
Увязая в снегу, она долго тащилась по этому странно непохожему на себя лесу, где всё похрустывало, всё гудело.
Подойдя к берёзе, Нина обняла её: о, бедная моя, бедная! Потом опустилась на пень, обхватила голову руками: забыться, забыться…
Снег, набившийся в валенки, стал подтаивать. Надо бы походить, согреться, но будто чей-то голос, очень похожий на кылбановский, велел: «Сидеть! Мы тебя судить будем… Врачи всё узнают…»
Во всём я одна виновата. Это я навлекла беду своим проклятым дневником, в школу его зачем-то принесла, доверилась Вере. Я должна спасти Сергея Эргисовича – хоть ценой жизни!
Она замёрзнет здесь, у одинокого дерева, на холодном пне. Как у Некрасова: «А Дарья стояла и стыла в своём заколдованном сне…»
Не поверили её любви! Что ж, они ещё пожалеют об этом – на её похоронах. И он придёт к её гробу, скажет: она унесла с собой великое чувство… Тогда и мама всё поймёт.
Живите без меня, я всем вам мешала. Только не прощайте им моей смерти, Сергей Эргисович! За меня возненавидьте Пестрякова с Кылбановым, за мою любовь отомстите! «А Дарья стояла и стыла в своём заколдованном сне…» Как горло болит! Вот передохну чуть и встану, не надо меня торопить. Веки тяжёлые-тяжёлые. И тепло так…
Анфиса рванулась было за дочерью, да удержалась: пусть помучается, осознает, что натворила. Побежала, конечно, к Верке, жаловаться. А может, к нему самому? О, подлая!
Тем не менее уже через час она стала беспокоиться. Муж, вернувшись с работы, набросился на Анфису: «Сплетнице поверила, богом убитой коротышке. А дочку в ночь выгнала, да ещё, говоришь, с ангиной… Попомнишь у меня!»
Он выскочил из дома, Анфиса за ним. У подружки Веры дочери не было, она и не заходила сюда. Вера, узнав, в чём дело, пришла в такое смятение, что Анфиса и вовсе пала духом. Теперь они втроём пошли из дома в дом – к знакомым, одноклассникам, родственникам. Через полчаса всё село, уже собравшееся было ко сну, поднялось. Чуя тревогу, с лаем носились собаки.
Оказывается, Нину Габышеву после уроков допрашивали в учительской, а к врачу со своей ангиной она и не обращалась. Из школы ей было велено идти домой, после этого никто, кроме матери, девушку не видел.
Прибежал, застёгивая на ходу шубу, сам председатель колхоза Егор Егорович. Часть ребят обходила избы уже подряд – не пропуская ни одного двора, другие побежали звонить из правления к дальним родственникам Габышевых в Силэннях.
Но ни обход деревни, ни телефон ничего не дали. Машина, посланная на тракт, вернулась. Надо было прочёсывать весь алас. И скоро на тропах за околицей Арылаха замелькали фонари, там слышались надрывные крики: «Нина! Ниночка-а-а! Габышева, отзовись! Нина!»
Широко шагая по дороге, огибающей лесную опушку, Аласов в одном месте увидел следы маленьких ног – они уходили от дороги. Страшась затоптать след, он пошёл за ним. Но это оказались всего лишь ребячьи шалости – играли тут днём, выскакивали на целину.
Полчаса назад у колхозного правления Фёдор Баглаевич кидался от одного к другому: «Друзья, постарайтесь! Разыщите девочку». Даже Кылбанов был здесь – отправился на поиски в грузовой машине, с борта прокричал: «Найдём или не найдём, но отвечать кое-кто будет!» Гнида проклятая.
А впрочем, все мы хороши. После того, что увидел в учительской, разве не его долг был как учителя, классовода – успокоить девочку, отвести её домой, разумно поговорить с родителями?
Сзади послышалось тарахтение колхозного «газика». Поравнявшись, машина высадила Веру Тегюрюкову с двумя парнями, а сама двинулась прочёсывать дорогу дальше.
– Ничего, Сергей Эргисович?
– Ничего…
– Слушай, Верка, – Жерготов, видимо, не в первый раз задавал все один и тот же вопрос. – Ты припомни: куда она могла пойти? Вы же ведь «двойняшки», чёрт возьми, кому же знать, как не тебе!
Но та в ответ лишь хлюпала носом. И вдруг…
– Ребя-ята… – прохрипела Вера голосом, застуженным от долгого крика на морозе. – Вспомнила! Сергей Эргисович, я вспомнила! Осенью ходили с ней… Полянка там, пенёк, кривое дерево… Вон в ту сторону!
– Что же ты молчала до сих пор, тетеря! – набросились на неё ребята. – Тебе бы только слёзы лить.
Вприпрыжку на своих коротеньких ножках Вера кинулась по дороге назад, остальные за ней. Берёзовая роща, поляна с одиноким деревом – Макар Жерготов тоже что-то смутно припоминал. Не эта ли?
Ночью берёзовая роща вся сливалась в одно белесое пятно, расплывалась в морозном мареве.
– Там… – указала Вера.
Впереди открылась поляна. Одинокое дерево. Свет фонарика заметался по стволу. Пенёк… Она!
– Нина! Нинка-а! – взвыла Вера, с отчаянием выдёргивая ноги из глубокого снега. – Ниночка!
Та не пошевельнулась. Спит? Мертва?
Страшась правды, Аласов с усилием протянул руку, поднял голову девушки и ахнул: голова была горячая.
– Машину!.. Быстрей за машиной!..
XXXVI. Приказ
В пустой учительской сидели голова к голове Пестряков и Кылбанов – совещались. Можно было представить о чём! На приветствие Аласова они не ответили, но его сегодня трудно было вышибить из седла. Сегодня праздник: Нина будет жить! Он взглянул на коллег – знают или нет?
Странное превращение произошло с Тимиром Ивановичем: ещё недавно это был важный и высокомерный человек, а теперь водил дружбу с Кылбановым, весь в своих интригах, стал суетным, дёрганым, говорил резко, фразы недоговаривал. Теперь он и часа не обходился без своего задушевного советчика – Акима Кылбанова, они даже чем-то походить стали друг на друга. По крайней мере, сейчас, когда оба враз, словно по команде, отвернулись от Аласова – ну совершенные близнецы!
После звонка с очередного урока стали сходиться учителя. Каждый справлялся о Нине, и каждому Аласов опять, слово в слово, повторял всё, что узнал от врача.
– А у меня, Сергей Эргисович, тоже добрая новость, – Нахов потряс пачкой ученических тетрадок. – В восьмом «А» записали рассказы четырёх участников Отечественной войны. Бригадный метод: ветеран говорит, все записывают, потом варианты сводятся в один – самый полный. Здорово придумано?
– Все ищут героев войны, непременно подавай им героев, – откликнулся Евсей Сектяев. – Подадутся как один в историки!
– Или того хуже – в писатели, – засмеялся Аласов.
– Э, не смейтесь! – возразил Нахов. – Совершается верное дело. Пусть ищут, пусть пишут…
Запыхавшись, влетела Саргылана Кустурова – розовощёкая, с ресницами в инее, с побелевшей прядкой на лбу.
– Товарищи, ка-акую новость я вам принесла! Ниночка наша…
Новость все знали, но никто не стал лишать Саргылану удовольствия сообщить её ещё раз.
– За эту весть вам от коллектива поцелуй в щёчку! – сориентировался Нахов. – Евсей, друг, что же ты?
Перемена кончилась, раздался звонок. Учителя пошли в классы.
– А вы, Сергей Эргисович, погодите…
Аласов в нетерпении остановился.
Тимир Иванович постучал в перегородку:
– Фёдор Баглаевич, вас ожидают…
Хмурый, будто заспанный и оттого ещё больше похожий на зимнего медведя, вышел из директорской Кубаров. Глядя в сторону и немилосердно пыхтя трубкой, он положил на стол перед Аласовым лист с текстом, отпечатанным на машинке.
«Приказ…» Аласов скользнул взглядом ниже: «За организацию склоки в коллективе, за нарушение нормальной деятельности школы, а также за морально-бытовое разложение отстранить от учительской работы…» Подпись: «Заведующий районным отделом народного образования К.С. Платонов».
– Считать себя уволенным могу лишь после того, как выйдет приказ директора школы.
Завуч остановил Аласова движением руки:
– Минуточку! Поскольку я являюсь заведующим учебной частью, то властью, данной мне, запрещаю вам, Аласов, входить в класс. Отдайте журнал Акиму Григорьевичу! Вы сняты, с вами всё покончено. А если вы нуждаетесь в приказе директора, то вот он, – Пестряков эффектно развернул лист. – Фёдор Баглаевич, я всё тут учёл, о чём мы говорили…
Даже со стороны было видно, как основательно Пестряков «всё тут учёл», – его аккуратным почерком исписана была вся страница.
Кылбанов, победно зажав журнал под мышкой, отправился на урок в десятый класс.
– Попрошу, Фёдор Баглаевич: перепишите в книгу приказов, а копию вручите этому человеку.
Кубаров, торопливо водивший в эту минуту пером по бумаге, был немало удивлён тишиной в учительской: за перегородкой никто не произнёс ни слова.
И тут вскоре ворвался в учительскую Кылбанов:
– Диверсия, иначе не назову! Да его не то что с работы снять, его…
– Аким Григорьевич, что произошло?
– А то, что в десятом классе моей ноги больше не будет! – Кылбанов швырнул по столу журнал, тот, перелетев столешницу, шмякнулся на пол.
Вышел Кубаров из своего закутка, держа в руках выписку.
– Да что там случилось, говори по-человечески! – рявкнул Пестряков.
– Так я же рассказываю… Десятиклассники наотрез отказываются учиться. У них, видите ли, по расписанию должна быть история, и они хотят заниматься только историей! Я им говорю: «Учитель истории отстранён от занятий», а они давай крышками стучать. Молокососы! Бунтовать вздумали…
– Да, бунтуют. А что вас удивляет, Аким Григорьевич? – с печалью сказал завуч. – Полгода ученики обрабатывались в определённом направлении. В угоду личным целям отдельного лица. Теперь пожинаем плоды. Фёдор Баглаевич, прошу вас, пройдите с Кылбановым в десятый, наведите там порядок.
Кубаров, оставив свою бумажку на столе перед Аласовым, послушно отправился с физиком. Вернулись они минут через пять.
– Убедились? – упрекнул Кылбанов директора. – Вы думаете, что Аким Григорьевич не способен…
– Замолкни ты! – Кубаров был вконец раздражён. – А что им делать остаётся? «Историк отстранён… историк изгнан…» Кой чёрт поручал вам соваться с объявлениями? Эти парни лучше нас чуют, что хорошо и что плохо.
– Вот теперь и стрелочника нашли! Кылбанов теперь во всём у вас виноват!
Показав крикуну спину, директор обратился к Аласову:
– Сергей Эргисович, уважь просьбу старого человека. Нельзя дать бунту разрастись…
Аласов молчал.
– Не ради меня, ради школьников, – продолжал директор.
– Однако как же… Мне ведь запрещено.
– Разрешаю! – поспешно сказал Кубаров.
– Хорошо, попробуем… – кивнул Аласов. Подойдя к двери класса, он сказал физику: – Придётся минуту здесь подождать. Если получится, я вас позову.
Класс, радостно ахнув, стеной встал ему навстречу: «Здравствуйте, Сергей Эргисович!»
– Садитесь. Сейчас вместо истории у вас будет физика. Меня отстранили от учительства, – просто сказал Аласов.
Поднялась буря: «Неправильно это!». «В райком комсомола напишем», «Не уходите, Сергей Эргисович!»
Юрча Монастырёв вскочил с места:
– Эй вы! Тише, говорю. Тегюрюкова, умолкни! Цыц, сказал! Сергей Эргисович, мы ведь не маленькие, и с нами нечего в кошки-мышки. Это клевета, и вы не имеете права отступать!
– Погоди, Монастырёв. За то, что верите, – спасибо. Да, тут несправедливость, и я это докажу. Но при условии, если мне не будет мешать ваш десятый класс.
– Мы комсомольцы, Сергей Эргисович, – возразил Саша Брагин. – Мириться с несправедливостью…
– А я вас не призываю мириться с несправедливостью. Никогда не миритесь! Однако ведь Монастырёв тут ответственно заявил: «Мы не маленькие». А если так, то знаете, как ваш срыв урока называется? Замутить историю ещё больше, на одно другое навалить! Думаете, это на пользу? Как бы не так! Всякий рассудит: вот, значит, как Аласов вёл воспитательную работу! Если я прошу вас о чём-либо в тяжёлый момент, так об этом: не ставьте мне палки в колёса. Вы поняли меня? Могу я на вас рассчитывать?
Аласов едва не пришиб дверью Кылбанова, – к счастью, физик успел увернуться.
– Прошу…
Вошёл Кылбанов в класс боком, робея. Десятиклассники встретили его с неожиданным, необъяснимым для него спокойствием. Аласов за дверью удовлетворённо кивнул головой.
Из соседнего класса показалась голова Майи: «Серёжа?»
Она вышла, плотно прикрыв за собой дверь.
– Что там у вас происходит? Митинг какой-то… Разве сейчас не твой урок?
– Заменили Кылбановым.
Тут только Аласов обнаружил, что держит в руке выписку из директорской книги приказов. С этим листком он так и беседовал в классе.
Директорский приказ был кратким: «Согласно приказу роно освободить учителя истории Аласова С.Э. от работы».
Пожав плечами, Аласов протянул бумажку Майе.
– Что значит «освободить»? Ты сам уходишь? Или тебя увольняют?
– Потом расскажу.
Он пошёл, но что-то заставило его обернуться. Майя смотрела вслед.
– Сергей! – она подбежала к нему. – Тебя прогонят – и мне тут нечего делать… Борись за двоих!
Аласов взял её руку и поцеловал.
Пожалуйста, можешь залечь спать. Можешь, пожалуйста, почитать роман или взяться наконец за свои аспирантские учебники. Пожалуйста…
Всегда, изо дня в день, из часа в час был занят, вздохнуть некогда: школа, кружки, посещения ребят на дому, родительские собрания, отчёты, поурочные планы, беседы на ферме и лекции в клубе, возня с будущим музеем, вечно откладываемая на потом аспирантура, партийные собрания, да ещё что-то надо по дому сделать, матери помочь, да и на лыжах хочется, и с ружьишком по лесу…
И вдруг никакой заботушки, свобода!
Он шёл медленно, едва волоча ноги.
Уж не надеешься ли ты, что начальство одумается, бросится вслед с признанием: мы ошиблись? Нет, выписка из приказа у тебя с собой – чёрным по белому. И при всей своей дикости она – совершенный факт.
Это факт, что Сергей Аласов, всю жизнь занимавшийся учительством, любящий своё дело, сейчас идёт по улице, уволенный из учителей.
Уволен за морально-бытовое разложение. Бывают бытовые условия, бытовые приборы, бытовая химия… А у него, пожалуйста, бытовое разложение… Нелепость этого словосочетания неожиданно развеселила и как-то вдруг успокоила Аласова. Всё это было бы так грустно, когда бы не было смешно…
Есть возня науровне мышиного подпола. А есть – борьба, когда ты ясно утверждаешь правду, за которую – хоть на костёр! Если на такой высоте стоять, то ничегошеньки они с тобой не сделают, брат Аласов. Майя как раз это и имела в виду: «За двоих борись…»
Спокойно, Аласов. Будь мужчиной – как сам же к этому призывал других. Не суетись, не маши руками. Прежде всего об увольнении нужно матери рассказать. Пусть узнает от меня, а не от соседей. Затем – Аржаков. Если он вернулся с партконференции, надо немедленно ехать в район. Потребовать, чтобы на бюро было поставлено моё персональное дело, чтобы выслушали меня коллективно. Там-то всякой мышиной возне и конец придёт!
Не то задремал он, сидя за столом, не то задумался, – вдруг голоса под дверью, какое-то там движение народное.
– Сынок, к тебе!
На пороге ребята из десятого.
– Сергей Эргисович, мы к вам учиться. По истории… Если, конечно, согласитесь…
– Соглашусь, конечно. Это вы лихо придумали. Как вот только я размешу вас в своей клетушке…
– Разместимся!
– Мы утрамбуемся…
– Веру я себе на колени посажу!
– Я вот тебе посажу!
Загудело в избе!
– Мама, складывайте одёжки прямо на кровать.
– Сейчас, сейчас, оыночек! Чайку вам поставлю…
– Вот это я понимаю, урок! С чаем!
– Ну ладно, ладно, – сказал Аласов строго. Проглотил что-то в горле, даже губу закусил. – Тише, товарищи. Если урок, так всерьёз. Начинаем сегодня новую тему…
XXXVII. Бегство
Собираясь, Надежда подстёгивала себя: «Скорей, скорей!»
Достала из-под кровати небольшой чемоданчик, вытряхнула содержимое прямо на пол, стала набивать заново. Ничего ей пестряковского не нужно! О боже, как он ненавистен ей, это лягушечье лицо в очках, белая тощая грудь… Что ещё им куплено?
Но разве определишь, разве вспомнишь? Лучше она вообще ничего не возьмёт! Платья полетели назад в гардероб. Пусть будет как можно меньше из прошлой жизни! Несчастная, за эти тряпки ты продала свою молодость, свою жизнь! На тряпки обменяла любовь…
Надежда склонилась над пустым чемоданом. Тряпки ещё наживёшь, а молодость? Кому ты теперь нужна такая? Нелепо устроен мир, если мудрость приходит тогда, когда она человеку без надобности. Уже накануне брачной ночи она ясно сознавала, что не любит его. Но ханжеская, дураками придуманная пословица утешала тогда: стерпится – слюбится…
Стерпится – слюбится – рассуждала она в те времена, и, казалось, весьма разумно рассуждала, мало ли семейных пар вокруг – сходились без книжной любви, а живут себе, да как ещё хорошо живут!
Несчастная… Если бы она тогда могла знать, как лживо это – стерпится. Если бы кто-то умный, видящий на много лет вперёд, объяснил тогда: нет, дорогая, в жизни совсем не так, как ты себе нашептала. Всё по-другому будет. Сначала-то как раз всё будет нормально: первая сладость супружества, новые хлопоты, детишки. Отрезвление придёт позже, когда ты, кажется, уже привыкла к жизни с немилым. Тут вдруг и поймёшь, что жизнь у человека одна. Не жила, а терпела – изо дня в день. Но с каждым годом всё трудней становилось, из терпенья проросла ненависть. Отвратителен голос его, жесты, глянцевый блеск его очков, шарканье его ног по комнате, тоскливые мысли его – высказанные и невысказанные. Девчонкой думала: учитель, ум, культура, благородный человек. А оказался? Мелкая душа. А знаний его – на одну школьную тетрадку. Что привёз из пединститута, тем и довольствуется по сей день. Маленький человек, что мог он дать ей? Замуровал её душу… Ни разу, сколько помнила себя замужем, она не порадовалась так, чтобы кровь вскипела. Вовремя накормить его, выслушать его рассуждения, нарожать от него детей…
Ах, если бы не дети! В мыслях она ведь давно ушла от него. Когда поссорились после кражи дневника, и вовсе выставила его на диван, швырнула туда подушку и одеяло. Не было вечера, чтобы она не сказала себе: «Сегодня последняя ночь. Завтра я уйду». Но утром, встретившись с вопрошающими взглядами детей (они давно почувствовали, что в доме неладно), теряла решимость. Но сегодня – всё!
Пестряков собрал учителей и, не пытаясь скрыть торжества, огласил приказ об увольнении Аласова. Она слушала ликующий голос мужа, и мысль её была одна: «Вот и конец! Вот и конец!»
Щёлкнул выключатель, и комнату залило светом – это Лира пришла из школы. В пальто и с сумкой, она всё стояла, держа руку на стене около выключателя.
– Мама? Разве тебе не темно? Мамочка, что такое? Скажи, мама!..
– Деточка… Мы уходим сегодня отсюда. Совсем уходим…
– А папа?
– Папа остаётся.
– Мамочка, не надо… Не надо, мамочка!
У девочки от слёз перехватило горло. Она рванулась, как бы желая обнять мать, но тут же круто повернулась и выскочила из комнаты. Хлопнула входная дверь.
Ты уверена, что дети когда-либо поймут и оправдают тебя? С тобой всё ясно – нет у тебя иного выхода. Но как это видится глазами дочери? А сын? Он ещё крошка, он и не подозревает, что сейчас происходит – мать и отец никогда уже не будут вместе! Беспечно играет на улице… Если она увидит плачущего сына, она не переступит порог. Надо уйти прежде, чем кто-либо вернётся домой. Потом она их заберёт. Завтра же придёт за своими детьми, но уже оттуда.
Надежда выгребла из ящика свои безделушки, ссыпала в сумку, вспомнила про документы, нашла их, потом оделась и взяла чемодан. Прощай. Всё тут было ухожено её руками – вышивки, накидочки, подставочки. Но совсем не «гнёздышком» был этот дом – тюрьмой! Будь ты проклята – вместе с тюремщиком!
Подумала – и застыла с чемоданом в руке: хлопнула дальняя дверь. Муж, знакомое шарканье.
Что ж, пусть так. Уйду не крадучись. Пусть он войдёт и увидит… Но где же он, почему не входит? Ах, да – он разденется сначала. Прошёл в кухню. Наконец идёт сюда. Взялся за ручку двери…
– Это как понимать – мы сегодня без обеда? – недовольное лицо, раздражённый голос. Взгляд сначала сердитый, потом удивлённый, брови поползли вверх. – Ты откуда?
Выдвинутые ящики, раскрытые дверцы, одежда и обувь по всей комнате.
– Н-надя, это… что?
Она шагнула к двери, выставив чемодан перед собой.
– Так, так… – сказал Тимир Иванович и опустился на стул, обхватив руками голову, как человек, который приготовился выслушивать любые объяснения, упрёки, угрозы. Его выставленное колено дрожало.
Но жена ничего не стала объяснять, она уже взялась за ручку двери. Она уходила!
– Стой! – крикнул он тогда. – Не рассчитывай, что я тебя отпущу вот так… Почему ты молчишь? Ты уходишь из дому? Почему? Я виноват перед тобой? Отвечай!
Она смотрела на его шевелящиеся губы и молчала.
– Ты!.. – крикнул он, захлебнувшись, бросился, прижал дверь спиной. – Надя, Надюшечка, подумай только, что делаешь. Разденься, присядь, поговорим разумно… Куда идёшь, к кому? Уж я ли тебя не люблю! Ты вон письмо Нахова подписала, донос на мужа, а я и это простил тебе… Если какие мелкие недоразумения, разве можно из-за них? На руках носить тебя буду. Разве ты не видишь, что я всё только для тебя, чтобы тебе было хорошо, семье! Разве я тебя тронул хоть пальцем, как другие мужья? Ведь мы столько лет с тобой, Наденька, ведь ты же любила меня? Если меня не жалеешь, то детей!..
Надежда с силой рванула дверь на себя и шагнула через порог. Он догнал её в сенцах, попытался схватить за плечо, но она оттолкнула его.
– Уходишь, так уходи! А детей не дам!
На дверях библиотеки висел замок. Надежда в темноте с трудом разобрала записку, пришпиленную рядом с замком: «Уехала в райцентр». Она так уверенно рассчитывала на пристанище у Тамары-библиотекарши, и вот…
Стараясь держаться подальше от людных тропок, по еле видимой санной дороге побрела она к окраине Арылаха – сама толком не зная куда. Чемодан оказался тяжёлым. Сначала она несла его перед собой, потом попыталась умостить на плече.
…Поздней ночью, когда замолкла электростанция и в деревне уже не было ни огня, Надежда, уставшая и чуть живая от холода, постучалась к Степаниде Хастаевой.
– Кто тут?
– Я, Стёпа… Я…
Послышался шорох спичечной коробки, запрыгал бледный огонёк. Степанида, увидев Пестрякову, густо покрытую снежным куржаком, так и застыла со свечой в руке.
– Надежда Алгысовна?!
– Я самая… Переночевать пустите?
Хастаева помогла раздеться, усадила гостью у тёплой плиты.
– Грейтесь, грейтесь. Сейчас я чаю вам…
Только в тепле Надежда почувствовала, как замёрзла. Зубы стучали – невозможно было унять.
– Что случилось, Надежда Алгысовна?
– От мужа ушла. Не спрашивайте, Стёпа…
Хастаева стала собирать для Надежды постель на диванчике. Та сидела неподвижно, странная и незнакомая при свете колеблющейся свечи.
Почему, зачем? К Аласову собралась? Сомнительно. Ни ты, Надежда Алгысовна, ни я, грешная, никто из нас ему не нужен. Там другая вошла клином. Какие фортели жизнь выкидывает – гордячка Надежда Пестрякова среди ночи стучится к ней, к Стёпе Хастаевой! Та самая Пестрякова, которая привыкла свысока смотреть на безалаберную Стёпку, лишь изредка снисходя до беседы, да и то из милости. Важная дама, «хозяйка школы» и мать своих прекрасных детей, она разговаривала со Стёпой точно с Лукой-пастухом или с косоглазой Настасьей-сплетницей…
– Детей я оставила, – словно про себя сказала Надежда.
Ага, детей вспомнила. Страдальческое признание беглой жены. Несомненно, Стёпе тут следует разжалобиться, как всякой женщине при мысли о несчастных детках. Но у Стёпы был, видимо, нестандартный характер – она ничуть не разжалобилась. Несчастные дети, несчастная семья? А кто виноват, Надежда Алгысовна? Хорошо известно, как ты обошлась с Аласовым в войну, как ловко окрутила важного завуча. Тогда ведь Сергей Аласов любил тебя. Экое счастье шло в руки! Нет, дорогая, в этом среднем мире ни одно бесчестье не остаётся безнаказанным! Дети страдают невинно – это уж точно. Рожать детей – тоже право должно быть. Иная родит – как преступление совершит. Что же касается её, Степаниды, то никогда в жизни она не пойдёт за нелюбимого!
Конечно, негоже обижать гостью, однако не сдержалась, проговорила в ответ:
– Детишек жалко. А вас, Надежда Алгысовна, мне, по правде сказать, не жаль.
Надежда подняла глаза, лицо её отвердело.
– Я и не нуждаюсь в жалости, Степанида Степановна.
– Ну хорошо, хорошо, – спохватилась та. – Спать-то будем?
Огарок свечи догорел и потух, стало беспросветно темно.
– Спите? – спросила Степанида.
Гостья не ответила.