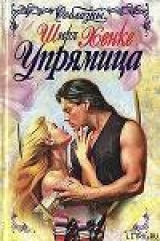
Текст книги "Упрямица"
Автор книги: Ширл Хенке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Он с особой страстью впился поцелуем в ее полуоткрытый рот.
На мгновение оторвавшись от ее губ и набрав в легкие воздуха, Ник заявил многозначительно:
– Ты – моя, а то, что принадлежит мне, я никогда из рук не выпускаю.
В бледном сумраке раннего утра Мерседес глядела вслед отъезжающему Лусеро. Он держался на коне с врожденной грацией потомственного креола. Каждый его жест был исполнен достоинства и уверенности в себе. На ходу он раздавал краткие распоряжения своим вакеро и среди опытных и ловких наездников все равно выделялся особой посадкой в седле и манерой управлять конем.
Он обернулся к уже далекому от него окошку на верхнем этаже дома, откуда за ним наблюдала Мерседес. Прядь волос упала на его лоб, когда он, прощаясь, приподнял шляпу. Она вспомнила, как эта же упрямая прядь щекотала ее лицо ночью во время жарких объятий. И снова томительная боль вернулась к ней, тело ее страдало от боли, сердце – от тоски.
Кусая губы в досаде, она покинула свой пост у окна. С каждой последующей ночью, проведенной в супружеской постели, ей все труднее становилось сохранять пассивность. Ей хотелось узнать, что она теряет, не отвечая ему на его страстные порывы и возбуждающие ласки, почему возникает эта назойливая боль в низу живота, что возносит его на вершину наслаждения, доводит до содрогания, до взрывного неистовства, которым всегда заканчивалось их слияние. Должно быть, наслаждение и в самом деле велико и способно потрясти душу. Одинаковые ли чувства испытывают при этом женщина и мужчина? Конечно, нет… и все же почему тогда некоторые женщины дразнят мужчин, строят им глазки и с затаенным обожанием ощупывают их взглядом? Она подмечала подобные моменты в поведении женатых пар из числа прислуги. И даже среди мужчин и женщин ее сословия, когда бывала в Эрмосильо.
Своих родителей Мерседес помнила смутно, но до сих пор никак не могла забыть вибрирующий смех матери, проникающий даже сквозь стены их спальни. Но там все происходило иначе, так ей сейчас казалось. Ее отец был не похож на Лусеро Альварадо, который попользуется ею, а потом бросит за ненадобностью, как сбрасывают лишнюю, ненужную карту. Разве он уже не поступил так однажды?
Мерседес применяла все ухищрения, которые могла придумать, чтобы не поддаваться его ласкам. В ее памяти запечатлелись его грубые слова при их обручении, его пренебрежительное отношение к ней и проявление жестокости в первую брачную ночь, и даже то, как он разъяренно, по-зверски расправился с бандитом, напавшим на них по дороге в Эрмосильо.
Когда размышления о супруге, особенно о его загадочном поведении в последнее время, дошли до опасной черты, она отвлекла свой воспаленный мозг хозяйственными заботами, проверкой амбаров с зерном и даже скучным пересчетом цыплят и овец. Но ничего не помогало.
Были ночи, когда напряжение достигало предела, и она всерьез опасалась, что, подобно хрупкому сосуду, рассыплется на осколки, едва он коснется ее.
Слова, произнесенные им этой ночью с алчной, собственнической интонацией, и днем не давали ей покоя:
«То, что принадлежит мне, я никогда из рук не выпускаю…»
Говорил ли он это серьезно? И какой еще иной смысл вложил он в свое высказывание?
– Он не такой, каким был прежде. Он ставит меня в тупик, – пробормотала Мерседес и принялась тереть виски, избавляясь от подступившей мигрени.
Она плеснула себе в лицо холодной водой. Слишком много домашней работы ждет ее, чтобы заниматься самокопанием и жалеть себя. Что будет, то будет. На поверхности ее сознания блуждала коварная мыслишка, что ей надо молить Бога ниспослать ей поскорее беременность, и тогда Лусеро оставит ее в покое. Но другая часть ее существа, причем не так глубоко спрятанная, как ей хотелось, интересовалась, сдержит ли он слово и по-прежнему будет делить с ней ложе, даже когда ее талия будет увеличиваться в объеме? Впрочем, к чему сейчас эти пустые рассуждения? К своему сожалению, Мерседес пришла к выводу, что ее воли недостаточно, чтобы противостоять его обольстительным ласкам, и скоро она окажется беззащитной.
Пока Мерседес завершала свой утренний туалет, Николас успел отъехать на порядочное расстояние. Он миновал пастбища, где еще щипали траву немногочисленные стада, не отправленные на зимовку. В мыслях своих он постоянно возвращался к тому же, о чем размышляла и Мерседес. Сложность их взаимоотношений тревожила его. Он не сразу откликнулся на зов одного из своих вакеро.
– В чем дело, Гомес?
Он пришпорил коня и ворвался в тесное кольцо всадников, окруживших парочку незнакомых ему пеонов. Вакеро, все как один, грозно дымили самокрутками и, кажется, были очень довольны собой.
– Эти двое проходимцев из Сан-Рамоса зарезали бычка с клеймом Гран-Сангре.
Худое лицо говорящего сияло в предвкушении развлечения.
– Не позволите ли вы мне подвергнуть их нашему обычному наказанию, хозяин?
Он потянулся за плеткой, свернутой наподобие черной змеи на луке седла за его спиной.
Фортунато ощутил приступ дурноты, но не показал виду. Он знал про феодальное право, по которому пеон, уличенный в краже домашнего скота у помещика, заслуживает наказания плетью. Впрочем, это было минимальное наказание. Разрешалось также – и часто практиковалось – нанесение увечий ножом, отрезание пальцев тут же на месте и даже казнь через повешение без суда.
– Я разберусь с ворами сам, – холодно произнес Фортунато, направляя коня на Гомеса и отстраняя его тем самым от расправы.
Сезар Ортега стоял ни жив ни мертв от ужаса, видя, что к нему приближается господин верхом на огромном коне. Хотя на всаднике была простая одежда, любой житель Мексики тут же признал бы в нем могущественного дона, аристократа, рожденного, чтобы повелевать.
Сезар раскаивался в том, что поддался на уговоры брата и отправился с ним на нечестный промысел. Антонио говорил так убедительно: «Кто хватится в Гран-Сангре одного несчастного бычка, когда у хозяина их тысячи?» Жалобный скулеж голодных детишек подкрепил аргументы Антонио.
А теперь кто накормит их семьи, если они будут искалечены или мертвы?
– Смилуйтесь, хозяин! Умоляю… – Антонио упал на колени прямо под копыта огромного серого жеребца.
Сезар остался на ногах, разглядывая высокомерного креола. Лучше бы он забрал Сильвану и детей и ушел в горы к партизанам. Тогда он мог бы расстаться с жизнью достойно, как мужчина, с оружием в руках. Но теперь уже поздно. И все равно он не станет молить о пощаде, как Антонио.
Николас окинул взглядом пленников. Тот, что помоложе, пресмыкался, ползая в пыли. Другой застыл неподвижно – спина прямая, подбородок вскинут вверх, губы упрямо сжаты. На обоих пропыленная, рваная одежда, почти лохмотья. Даже висевшие мешком длинные рубахи не могли скрыть жуткой худобы пеонов. Лица покрывали морщины, но не от прожитых лет, а от тяжкого труда на неблагодарной, жестокой к бедным людям земле.
Не имея возможности позвать на помощь всадников, чтоб те расчистили дорогу воде, пеоны в маленьких деревнях уповали только на дождь, который мог напоить их посевы. А дождей в сезон созревания урожая всегда выпадает мало – в прошлые годы еще меньше, чем обычно, судя по рассказам Мерседес, впрягшейся в ту же лямку, что и окрестные земледельцы. Этих двоих довел до отчаяния голод. За пятнадцать лет непрерывных войн Нику довелось проехать на коне через сотни деревень, подобных той, откуда пришли неудачливые воришки. Будь это Крым, или Северная Африка, или Мексика – у голода везде одинаковое лицо.
Не обращая внимания на вопли молодого пеона, Ник обратился к старшему:
– Что ты скажешь в свое оправдание?
Сезар показал на труп животного с перерезанным горлом, лежащий в узком овражке, куда им, на свою беду, удалось загнать глупого бычка. Кровь на мачете Сезара явно доказывала его вину.
– Да, мы зарезали его. Многие недели наши дети ели только муку, смешанную в воде с золой из очага. Засуха погубила весь урожай. Все запасы съедены. У вас столько скота, а у нас – ничего.
Его заявление пугало своей простотой.
– Вы оба молоды. Почему же не ушли воевать за Хуареса? – спросил Фортунато и был вознагражден вспыхнувшим в глазах изможденного пеона огнем.
– Я думал об этом, но мертвый солдат не сможет прокормить детей. У меня их четверо. У моего брата Антонио – трое. Его жена ждет четвертого.
– Они размножаются, как кролики, – усмехнулся Гомес.
Антонио, заметивший, что его брат чем-то расположил к себе благородного дона, прекратил плакать, поднялся с колен и встал рядом с Сезаром плечом к плечу.
– Мы готовы принять наказание, – уже более спокойно произнес он.
– А мы уж ради вас постараемся, – мерзко ухмыльнулся один из сотоварищей Гомеса.
Ник глянул в лица добровольных палачей, с садистским вожделением ждущих его сигнала, чтобы приступить к расправе над двумя беззащитными существами. Но это были не существа, а люди из той же плоти и крови, с искрой Божией в душе, зароненной в них при появлении на свет.
«Вот как набирает Хуарес новобранцев! Мы сами поставляем их ему».
Когда он начал считать себя частицей этой земли, креолом, гасиендадо? Может быть, в тот же миг или час, когда стал думать о Мерседес как о своей жене?
Выразив накопившееся раздражение в богохульном ругательстве, Фортунато объявил:
– Забирайте свою добычу. Но если вы еще раз появитесь на моей земле, то я сам, своими руками, посажу вас на кактусы и полюбуюсь, как оба вы истечете кровью, а муравьи будут выедать вам внутренности.
Подав знак удивленной свите следовать за ним, он поднял коня на дыбы, развернул и умчался прочь. Один Хиларио смог догнать хозяина. Когда их глаза встретились, Ник уловил в них какое-то странное выражение. Оно тут же пропало, и он уже не был уверен, что ему это не пригрезилось.
Слух о необычном поступке хозяина просочился во все службы и помещения гасиенды. Дон Лусеро, который четыре года сражался за императора, теперь подкармливает республиканских солдат и дурачит французских патрульных. Он даже отпустил двух пеонов, которых имел право засечь до смерти, если бы выбрал именно такой способ наказания. Все шушукались о том, что война по-разному влияет на людей. Обычно с войны возвращаются разочарованными, циничными. Но избалованный и надменный молодой дон вдруг стал трезвомыслящим и трудолюбивым. Засучив рукава, он принялся наравне со всеми восстанавливать то, что его отец пустил по ветру. Он был вполне достоин своей жены, уважаемой всеми доньи Мерседес.
Но Инносенсия, ожидающая своего звездного часа в зловещем молчании, исподтишка следила за таинственными переменами своего бывшего любовника. Время шло, а он по-прежнему сохранял верность своей блеклой супруге. Инносенсия оставила всякую надежду вновь затащить его на любовное ложе. Он был окончательно потерян для нее. Она лишилась не только любовника, но и легкой жизни в поместье, к которой мечтала вернуться.
– Лентяйка! Кончай спать на ходу и займись-ка делом. Почисть котлы и сковороды, выгреби золу из печки, – гоняла ее без устали Ангелина.
Сенси глядела в окошко на то, как у колодца под слепящим полуденным солнцем Лусеро опрокидывает ведра с ледяной водой на свое потное тело. К нему подошла его тощая белокурая зануда и привела с собой – наверное, чтоб он полюбовался, – его ублюдочную дочку. Сенси сгорала от ненависти, в то время как дружная троица веселилась, прохлаждаясь после дневных трудов.
Голос Ангелины вознесся до крика. Сенси пришлось вернуться к очагу, схватить тяжелый чугунный котел и начать скрести его под неусыпным наблюдением суровой командирши. Во время работы ей пришла в голову некая мысль… Что-то неопределенное, но важное, связанное с Лусеро… Но что?
Ближе к вечеру Лазаро осмелился побеспокоить хозяина, который занимался хозяйственными счетами совместно с Мерседес. Войдя в кабинет, Лазаро произнес неуверенно:
– Большая группа людей забрела в поместье. Среди них женщины и дети.
Николас поднялся из-за массивного дубового стола, принадлежавшего еще не так давно старому дону Ансельмо.
– Я так понял, что это не солдаты?
– Нет, хозяин. Но это не наши люди. Это гринго.
На лице у слуги появилась пренебрежительная гримаса, отчего Ник мысленно усмехнулся.
«Как бы ты повеселился, Лазаро, если б узнал, что я тоже гринго!»
Николаса охватило любопытство. Какого дьявола группа американцев странствует по Соноре, да еще с такой обузой, как женщины и дети?
– Я разберусь с ними.
– Мы, конечно, должны проявить гостеприимство, – сказала Мерседес, тоже выходя из-за стола и машинально поправляя складки на юбке. Боже, с волосами, заплетенными в косы, переброшенными за спину, в простой одежде, она абсолютно не готова встретить иностранных визитеров, какими бы утомленными они ни были с дороги.
Николас поспешил успокоить ее:
– Ты, как всегда, выглядишь великолепно. Пойдем вместе и поприветствуем незваных гостей. Вполне возможно, что это всего-навсего заблудившаяся контргерилья со своими шлюхами в обозе. В таком случае нежелательно приглашать их к обеду.
– Но если они американцы…
– Многие из моих бывших соратников пришли к нам как раз оттуда, с того берега Рио-Гранде. В большинстве это были южане, оставшиеся не у дел, вернее, сбежавшие, как крысы с тонущего корабля, когда Конфедерация начала пускать пузыри.
– Я слышала, что имперский уполномоченный по вопросам иммиграции Матиас Маури пригласил в Мексику тысячи конфедератов. Ведь они считались союзниками Максимилиана. Может, это как раз те самые люди?
– Может быть, – без особого энтузиазма произнес Ник.
Они спустились в нижний холл, где их ожидала внушительная толпа. К своему облегчению, Ник отметил, что пришельцы хоть и были грязны, как черти, и изрядно иссушены ветрами, но на его друзей-наемников никак не походили.
Мужчины были все разного возраста, некоторые средних лет, другие – помоложе. Женщины держали на руках двух маленьких девочек, к ним жался еще мальчик чуть постарше. Несколько мужчин были облачены в выгоревшую форму армии Конфедерации с позолоченными эполетами на плечах. Остальные были в гражданской одежде, поношенной и потертой. Женщины в темных костюмах для верховой езды держались со скромным достоинством, свойственным респектабельным светским красавицам, испытывающим временные материальные затруднения. Они намеренно отступили на второй план и хранили молчание, предоставив право вести беседу своим мужчинам.
– Полковник Грэхам Флетчер к вашим услугам, сэр, – явный предводитель группы произнес это с мягким техасским выговором.
Флетчер протянул руку Нику. Он был высок ростом, с рыжеватыми волосами и длинным узким лицом, указывающим на шотландское или британское происхождение его предков. Улыбка его была сердечной, собравшей добрые морщинки в уголках ясных голубых глаз.
– Добро пожаловать в Гран-Сангре, полковник. Я дон Лусеро Альварадо, а это моя жена, донья Мерседес.
Николас представился по-английски, и едва заметный акцент выдавал в нем уроженца Нового Орлеана.
Флетчер галантно поклонился Мерседес.
– Вы южанин? – обратился затем он к Нику. Его озадачило сочетание явно испанской внешности гасиендадо с нью-орлеанским уличным выговором.
Николас ответил с обезоруживающей улыбкой:
– Разумеется, нет, но я воевал здесь, в Мексике, бок о бок со многими южанами. Они научили меня говорить по-английски.
– Это хорошо, потому что большинство из нас не знает испанского, – вмешался другой американец, худой, как скелет, с лысым черепом, покрытым редкими тусклыми волосами. Он представился как Мэт Макклоски.
– Мы направляемся в распоряжение генерала Эрли. Он был нашим командиром во время войны, – пояснил Флетчер. – Но боюсь, что мы сбились с дороги. Нам предстояла встреча с другой, более значительной партией иммигрантов, но каким-то образом мы разминулись.
– Произошло это по моей вине, – подал голос третий из гостей, человек с бесцветными глазами и такой же прической, до этого совсем незаметный среди других. – Меня зовут Эмори Джонс. Я числюсь вроде бы проводником, но по пути из Эль-Пасо я по глупости поверил дорожным указателям, и это кончилось тем, что мы оказались здесь.
Невзрачный облик говорившего вызывал у Ника какие-то смутные и не очень приятные ассоциации. Кого-то он ему напоминал. Но кого? Эмори Джонс был невыразителен во всем. Даже его южный выговор был не такой заметный, как у его спутников. И все же… кого-то он напоминал Нику.
– Эмори – единственный республиканец среди нас. Он родом из Сент-Луиса, – вставил Макклоски с гримасой отвращения. – Мы наняли его в Эль-Пасо-дель-Норте, где полно таких янки, как он.
– Моя мать родилась в Виргинии. Позже ее семья переселилась в Миссури и там осела, – как бы извиняясь за что-то, скромно пояснил Эмори Джонс.
В это время Мерседес познакомилась с измученными, усталыми женщинами и завела с ними тихую беседу.
Услышав превосходный английский, на котором изъяснялась Мерседес, женщины просветлели. Хозяйка провела их с детьми в залу, затем, распорядившись подать им прохладительное, удалилась, чтобы подготовить гостевые комнаты. Гостеприимство было незыблемой традицией среди мексиканских креолов. Неважно, что ее кладовые опустошены. Гостям должно быть подано все самое лучшее.
Когда Мерседес возвратилась, мужчины уже испробовали в кабинете Лусеро напиток более крепкий, чем ледяной лимонад, которым освежились женщины. Ангелина обслуживала их, а Розалия робко стояла в дверях, прижимая к себе любимую куклу Патрицию и с любопытством разглядывала детей гринго.
– Розалия, подойди и познакомься с гостями.
Мерседес с гордостью отметила, как изящно дочь Лусеро выполнила реверанс. Дочка Люсинды Мэфилд – Кларисса – неотрывно смотрела на куклу, которую Мерседес купила для Розалии в Эрмосильо.
– Может быть, ты поделишься ненадолго своей Патрицией с Клариссой и Беатрис?
Три девочки отправились поиграть во двор. Языковой барьер не мешал их только что завязавшейся дружбе.
– Моя Би тоскует по своим игрушкам, – с грустью сказала Марион Флетчер. – Янки сожгли наш дом дотла. Мы лишились всего, даже дочкиных кукол. Нам почти нечего было взять с собой, когда мы собрались переселяться в Мексику.
Другие женщины могли поведать о себе то же самое. Безысходность и растерянность – вот что проглядывало за внешне сдержанными, скупыми фразами о своем прошлом и в туманных представлениях о том, что их ждет в будущем.
– Простите, а… а разве вся Мексика такая же бесплодная, как Сонора? – застенчиво спросила Люсинда. Тоненькая, похожая на птичку брюнетка, вероятно, раньше обладала молочно-белой кожей, но долгие странствования под беспощадным солнцем превратили ее чуть ли не в индианку.
– Нет, нет! Большую часть страны занимают долины с пышной тропической растительностью. Там собирают по нескольку урожаев в год, – поспешно ответила Мерседес, понимая озабоченность женщин. – Когда я впервые попала в Сонору, я тоже ужаснулась, но у этой земли есть своя особая дикая красота. К ней надо привыкнуть. Если б не гражданская война, гасиенда бы процветала. Но все-таки нам удалось оросить почти сто акров посевов, а муж собрал несколько тысяч голов рогатого скота и табун чистокровных лошадей.
– Нам обещали выделить землю, – с надеждой в голосе сказала Марион. – Как вам удается содержать такой чудесный уютный дом среди этой пустыни?
Женщины стали делиться опытом ведения домашнего хозяйства. Мерседес выяснила, что Люсинда и Марион жили раньше в достатке, а Макклоски обмолвилась, что у них с мужем была маленькая ферма в Теннесси. Все они были дочерьми и женами потерпевших поражение бойцов, которые потеряли землю и богатство – но не гордость – в гражданской войне. Теперь они мечтали начать жить заново, но их пугала чужая страна.
Мерседес, как могла, приободрила своих новых знакомых, поделилась своими впечатлениями о жизни в Мексике. Потом речь зашла о войне. Для всех женщин война была слишком насущной проблемой, чтобы разговора о ней можно было избежать.
Пока женщины делились своими опасениями и надеждами, мужчины говорили о том, что им предстоит сделать завтра. Ник вынул карту и показал Эмори Джонсу, как кратчайшим путем достичь Дуранго, где собиралась основная масса иммигрантов из бывшей Конфедерации. Потом беседа коснулась их планов на будущее.
– Я слышал, что мексиканская равнина – райское место, где поют птички, а индейцы только и ждут, чтобы начать работать на нас, – не без иронии поведал Макклоски.
Флетчер добавил совершенно серьезно:
– Мистер Маури заверял нас, каждая семья получит тысячу акров плодородной земли и, разумеется, пеонов для ее обработки.
– Мексика, в большей ее части, благодатная страна, но война многое в ней изменила, – осторожно сказал Фортунато. – Я сомневаюсь, что кто-либо, даже сам император, сможет выделить вам свободные земли, а уж тем более гарантировать, что индейцы согласятся на вас трудиться.
– Вы подразумеваете, что ваше правительство нас обмануло? – Макклоски тут же ринулся в атаку.
– В Мексике уже почти десять лет фактически нет правительства. Враждующие между собой партии либералов и консерваторов поочередно берут бразды правления в свои руки, чтобы тут же отдать их противнику. Это и заставило французов посадить на трон Максимилиана. А как известно, со штыками можно делать что угодно, но только не сидеть на них.
Эмори Джонс поболтал в бокале свою порцию бренди и выпил ее одним махом. Равнодушным тоном он заметил:
– Что-то в ваших рассуждениях сходно с хуаристской пропагандой, уважаемый дон Лусеро!
Ник пожал плечами:
– Это не я сказал, а сын императора французов его величества Наполеона Третьего, принц Плон-Плон. Что касается меня, я уже утерял интерес к политике.
– Но вы говорили, что сражались за императора! – Флетчер не способен был понять, как человек мог отказаться от своих принципов.
– Можете считать, господа, что я сторонник прекращения войны… причем мне безразлично, кто выйдет из нее победителем. Смертоубийство в стране дошло до того, что некому уже пасти и охранять мои стада и табуны.
– Потому что все ваши люди воюют на стороне Хуареса. Такие ходят слухи, – вставил свое слово Эмори Джонс.
– Ходят слухи, что какой-то индеец объявил себя президентом Мексики, – гнул свою линию Макклоски.
– Мало ли что дикарю взбредет в голову, – отмахнулся полковник Флетчер. – На то он и дикарь. И дикарем останется.
– Боюсь, что вы недооцениваете этого индейца, – возразил Ник. – Хотя конституцию, провозглашенную в 1857 году, разорвали на клочки, он за нее держится с завидным упорством. Ваши враги янки не считают его дикарем, а с их помощью он вполне может одержать победу.
Неловкое молчание воцарилось в комнате. Фортунато, как бы случайно, наткнулся на испытующий взгляд Эмори Джонса. В глазах гостя он прочел намек на то, что американцу известно нечто, о чем здесь не было сказано.
– За здоровье императора Максимилиана Первого, – неожиданно прозвучал тост странного янки.
Все подняли бокалы, включая хозяина Гран-Сангре. Фортунато показалось, что Эмори Джонс предложил тост в насмешку над всеми, включая и его. Чего добивается этот невзрачный человек? И кто он такой – Эмори Джонс?








