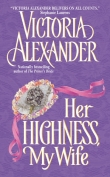Текст книги "Грешный"
Автор книги: Шарлотта Физерстоун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Шарлотта Физерстоун
Грешный
И настал день, когда угроза навсегда остаться нераспустившимся бутоном оказалась страшнее, чем опасность, которую таит в себе цветение.
Анаис Нин
Глава 1
Пресытившийся жизнью, с холодным, жестоким сердцем в груди, Мэтью, граф Уоллингфордский, совершенно точно знал, какова человеческая природа: соблазн и физическое удовольствие. По крайней мере, сущность графа была таковой, и он с готовностью признавал собственную испорченность. В отличие от многих людей своего круга Мэтью не притворялся, что он иной.
Граф слыл прожигателем жизни – неуемным, бессовестным, без единого проблеска мысли или чувства. Распутником, обладавшим ненасытным аппетитом до плотских утех. Бесчестным гулякой, сердцеедом с дурной репутацией, как его с отвращением называли женщины. Впрочем, эти нелестные отзывы слетали с уст тех же самых дам, которые принимали графа в домах своих мужей и охотно развлекали его – ощущая что угодно, но только не отвращение.
Ах, эта внешняя сторона викторианской морали! Какая насмешка эпохи! Это было весьма подходящее, просто замечательное время для кого–то вроде Мэтью. Того, кто не верил, будто врожденная природа человека – нечто большее, чем эгоистичное потакание своим желаниям. В своей жизни граф видел слишком мало сердечности. Неудивительно, что теперь он сам оказался бесконечно далек от того, чтобы быть благонравным и добродетельным.
Каждый день граф сталкивался с поразительной силы алчностью. И нигде на всей земле не было такого расцвета человеческого эгоизма, такого стремления к поиску приключений, как в Лондоне, в кругах аристократической элиты.
За трепещущими шелковыми веерами, вдали от шикарных бальных залов, где рекой текли шампанское и светские беседы, скрывалась выгребная яма распущенности и порока. Это противопоставление показной чопорности и безнравственности Мэтью находил презабавным.
Граф получал истинное наслаждение, наблюдая за представителями родовой знати, которые с энтузиазмом работали над претворением в жизнь королевских благопристойных воззрений на религию, семью и личные отношения. Это были мужчины, состоявшие в браке, растившие детей и назойливо, на все лады расхваливавшие достоинства семейной жизни. Лидеры, которых уважала сама королева, в которых она безоговорочно верила. Они с пеной у рта отстаивали социальные реформы и решительно сплачивались, до хрипоты борясь в стенах парламента за то, чтобы очистить улицы от шлюх и спрятать секс под личиной благочестия.
С циничным наслаждением Мэтью думал о том, что это были те же самые мужчины, которых он встречал вечерами, разъезжая по борделям, игорным залам и шикарным ресторанам. Черт возьми, а ведь граф время от времени даже сиживал с этими господами в одной компании! Попыхивая сигарами и потягивая из бокалов портвейн, они вместе наблюдали за шоу обнаженных танцовщиц, которые трясли грудями и ягодицами на сцене, обольстительно двигаясь под вульгарную мелодию.
Набожно и высоконравственно, в самом деле. Даже теперь на коленях секретаря лорд–мэра устроилась женская голова, а рука чиновника гладила грудь еще одной прелестницы. А сам лорд–мэр? Несколькими минутами ранее он удалился со своей давнишней любовницей, буквально вцепившейся в его руку. Мэтью задавался вопросом, вспомнил ли лорд–мэр хоть на мгновение в этот вечер о своей семье – молодой жене и сыне двух дней от роду. Вряд ли.
Пресытившееся нутро графа, в котором томились его сердце и душа, смеялось над подобным лицемерием. Очевидно, что мораль и Лондон были несовместимы. Человеческая природа и порок – отныне эти два понятия были синонимами. И Мэтью понимал это лучше других.
Обводя взглядом вечерний клуб, заполненный дымом, граф внезапно осознал, что его никогда не переставало изумлять разнообразие дурных возможностей, предлагаемых столицей. В викторианском Лондоне можно было найти всевозможные, на любой вкус, искушения. Для того чтобы получить удовольствие, не требовалось быть обладателем огромного состояния: одни порочные развлечения обходились весьма дешево, другие стоили дороже. Не говоря уже о том, что некоторые мужчины продали бы свою душу за шанс вкусить сладкий нектар запретных наслаждений. И этот факт, вместе с осознанием того, какие чувственные утехи были доступны людям высшего общества, в котором состоял граф, привели его сюда сегодня вечером.
О похоти и продаже души Мэтью знал не понаслышке. Это был болезненный, запавший в память урок, который, однако, сослужил графу хорошую службу. Урок, который должен был окупиться нынешним вечером.
Считавшийся знатоком множества доставляющих наслаждение пороков, Мэтью был настоящим асом в таких вещах, как развращенность и скандал. И сегодня он использовал эту репутацию в своих целях.
Пока какой–нибудь истинный джентльмен, типичный представитель светского общества, изображал нравственное поведение днем и предавался разврату ночью, Мэтью и не думал натягивать на себя маску безгрешного. Графа просто не волновало мнение, которое могло сложиться о его персоне.
Мэтью не видел повода лицемерить: в самом деле, зачем притворяться джентльменом, если ты – всего лишь похотливый ублюдок? Он никогда не понимал, почему так необходимо вести себя словно два разных человека. На это тратилось слишком много сил, и все ради чего? Граф уважал этих притворщиков не больше, чем вора или каторжника. А возможно, думал он с легкой усмешкой, даже меньше. По крайней мере, в воровской среде существовали некоторые понятия чести, а у высоконравственных джентльменов в шикарных костюмах и с вежливыми улыбками чести не было вовсе.
Вот так, не желая быть лицемером, Мэтью проводил свою жизнь во грехе, развратничал денно и нощно. И иного существования для себя не мыслил. Возможно, граф должен был ощущать небольшую досаду из–за того, что мог с такой легкостью признать этот порок, но он не обнаруживал в себе чувства стыда. Ни совести, ни души в нем не было. Так же, впрочем, как и сердца. Оно разбилось и умерло много лет назад. А то, что осталось в груди Мэтью, превратилось в камень, лишь следы шрапнели зияли на этом черном полом месте, которое не чувствовало ничего. Только пустота, смертельная скука и… ничего больше. И это ему нравилось.
Граф не сближался ни с одной из женщин, даривших ему удовольствие. Кроме того, он никогда не приглашал их в свой дом и предпочитал предаваться разврату где угодно, кроме постели. Что ж, таковы были его наклонности – Лондон мог предложить и более причудливые извращения. Найти девиц, которые дали бы графу то, что он хотел, не было проблемой. Единственной реальной трудностью была необходимость избегать этой раздражающей эмоциональной чепухи, которой женщины так любили портить интим. Мэтью интересовал только секс, плотское наслаждение, и ничто иное. В траханье, как он любил это называть, для него существовали только член, влагалище и стоны наслаждения. Ничего больше, только физическая связь, встреча мужских и женских гениталий.
Конечно, поэты наверняка с пеной у рта отстаивали бы иную точку зрения, и лучший друг графа, лорд Реберн, энергично бросился бы отговаривать его от подобного предвзятого мнения. Но Мэтью разбирался в этом вопросе лучше. Он никогда не встречался с женщинами, готовыми раскинуть бедра просто так. Для секса обязательно существовала какая–то причина: деньги, продвижение в обществе, даже нечто совсем уж приземленное, вроде попытки вызвать ревность у мужа или другого любовника. Так или иначе, у поступков этих дам, всегда был мотив.
От Мэтью не требовалось много усилий, чтобы понять, что женщины манипулируют мужчинами при помощи секса. Это было наиболее смертоносное и действенное женское оружие. И, будучи мужчиной, который привык удовлетворять свои желания, он не видел иного выхода, кроме как подчиняться любовницам, поддаваясь на все их манипуляции.
– Привет, папочка, – произнес знойный голос, и руки графа легонько коснулась чья–то роскошная грудь.
Мэтью напрягся всем телом, изо всех сил стараясь отправить рвавшиеся наружу давние страхи и неприязнь в ту зияющую пустоту, на месте которой когда–то находилась его душа. Графа не беспокоило то, что он может оказаться во власти женщины, взявшей на себя инициативу в отношениях. Просто в охоте за удовольствиями он предпочитал роль хищника. Но эта женщина с глазами самки и надутыми губками явно не собиралась быть добычей. Окутывавший ее флер невинности был лишь иллюзией. Дама казалась расчетливой до мозга костей, покорность, сквозившая во всем ее облике, отдавала фальшью.
– Знаешь, а я могу высосать Темзу досуха.
Сосредоточив взгляд на сцене, где медленно двигались танцовщицы с голыми грудями, в одних трусиках, Мэтью проигнорировал хриплый голос и тонкий, едва уловимый звук, который издали пухлые губы этой притворщицы.
– Я не в настроении играться с твоим ртом.
– А для чего тогда ты в настроении, папочка? – прошептала женщина, расчесывая рукой волосы графа.
«На все готова ради денег!» – со злостью подумал он, раздраженный тем, что вынужден сидеть здесь и выносить это навязчивое внимание. Мэтью уже задыхался от запаха духов женщины, а она все продолжала подпихивать свою грудь к его лицу.
– Тот симпатичный джентльмен сказал мне, что ты написал, непристойную картину и ее будут продавать с аукциона сегодня вечером.
Мэтью взглянул в сторону «симпатичного джентльмена». Броутон. Что ж, его друг никогда не умел держать свой рот на замке. Броутон перехватил хмурый, рассерженный взгляд Мэтью и усмехнулся – вот ублюдок!
– Почему бы тебе, не дать мне шанс, папочка? – промурлыкала женщина, и ее рука пробежала по бедру графа. – Я тоже могу вести себя непристойно.
Мэтью по–прежнему игнорировал все попытки дамы, даже когда кончики ее пальцев устремились вниз по штанине брюк.
– Боже мой, какой ты твердый! – проворковала она. – Какие сильные бедра! Держу пари, у тебя там как у быка, не так ли?
Ну зачем она это сказала! Несмотря на отвращение, которое Мэтью чувствовал к надоедливой даме, тело отреагировало на ее присутствие эрекцией.
– Прошу прощения, – прорычал граф и, едва не сбросив несостоявшуюся любовницу, резко сорвался со стула.
– Вернись, папочка! – неслось ему вслед. – Мы можем хорошенько поразвлечься!
Вскоре граф с облегчением увидел, что женщина сосредоточила все свои усилия по обольщению на Броутоне. Она уже буквально ползала по приятелю, а тот, откинувшись на стуле, благосклонно принимал знаки внимания.
Мэтью никогда не был сторонником подобных игрищ, предпочитая нечто более прямое, откровенное – вроде члена в женском лоне, и без всяких предварительных ласк. Какой смысл несла в себе прелюдия, если это его совершенно не интересовало? Когда граф хотел заняться сексом, он жаждал получить удовольствие. А все остальное могло катиться к чертям!
Взяв бокал шампанского с проносимого слугой подноса, Мэтью прошел в заднюю комнату, туда, где находился написанный им портрет, который вот–вот должен был уйти с торгов. Этим вечером граф выслушал достаточно резких замечаний и заметил немало глупых выходок, чтобы понять: это злачное местечко просто идеально подходило для проведения его художественного аукциона. Клиентура клуба представляла собой сочетание потомственной финансовой аристократии и новоиспеченных денежных мешков. Постоянные посетители заведения заплатили бы за портрет кисти графа целое состояние, и он смог бы вложить вырученную сумму в свою галерею произведений искусства.
Опрокинув залпом содержимое бокала, Мэтью ощутил, как шампанское медленно, обжигающей струей устремилось по горлу. Хотелось бы ему, чтобы это был напиток покрепче, – хотя он уже находился на грани опьянения. Граф мрачно подумал о том, что все чаще и чаще ходил по грани. Человек, влачивший подобное существование – беспутное и одинокое, отчаянно нуждался в компании кого–то, кто сумел бы услышать и понять.
Взяв еще один бокал, Мэтью принялся наблюдать за мужчинами, толпившимися в комнате в компании танцовщиц и своих любовниц. Этим вечером в клубе не было жен, но это обстоятельство Уоллингфорда совсем не волновало. Он был здесь из–за денег, ради того, чтобы финансировать свою художественную галерею. Только и всего.
– Все идет замечательно, – раздался голос Реберна, и друг хлопнул Мэтью по плечу. – Какая дикая сутолока!
Мэтью усмехнулся в ответ и, сделав глоток шампанского, обвел взглядом комнату. Действительно, тут царила безумная толкотня. Не было ни одного угла, свободного от истекавших слюной похотливых господ, ждущих шанса увидеть портрет, который был написан для того, чтобы подразнить, раззадорить их. Оставалось надеяться, что художественное произведение вдохновит джентльменов настолько, что заставит их серьезно раскошелиться. Наличные нужны были графу для открытия собственного выставочного помещения. Галерея уже очень долгое время была единственной важной вещью в его жизни.
Мэтью наконец–то оторвал пристальный взгляд от толпы и обернулся к лучшему другу.
– А я и не знал, что из твоей тюремной камеры можно сбежать, – пробормотал он.
Реберн рассмеялся, жестом давая понять стоявшей поблизости горничной, что она свободна.
– Тюрьма? – произнес Реберн, и его глаза ярко вспыхнули. – Если ты называешь то, что прекраснейшая из женщин оказалась в моем полном распоряжении, тюрьмой, так тому и быть. Я согласен умереть в этом заключении.
Мэтью в раздражении вскинул бровь. Очевидно, Реберн был безумно влюблен, и граф никак не мог решить, что же это такое – величайшее счастье или настоящая беда.
– Я и правда считаю моногамию тюрьмой, – проворчал Мэтью, неодобрительно взирая на блеск в глазах друга. – Для меня было бы равносильно смертному приговору провести всю свою жизнь с одной–единственной женщиной.
– Ты просто еще не нашел правильную женщину, ту, что идеально бы тебе подошла.
Граф в ответ возмущенно фыркнул:
– У меня такой богатый опыт, что, уверен, я обязательно нашел бы такую женщину, если бы она на самом деле существовала. Ну, согласись же, чудак!
Друг лишь пожал плечами:
– Многие мужчины влюбляются до беспамятства. «Но не всем везет, как тебе», – со злостью подумал Мэтью. Граф никогда не встречал любви, подобной той, что связывала Реберна с Анаис. Даже он, испорченный до мозга костей, циничный бабник, восхищался глубиной их чувств. И когда Мэтью был честен сам с собой, что случалось крайне редко, почти никогда, он остро улавливал, как свирепые пальцы зависти пробегали по его телу и сдавливали горло – как теперь.
– Знаешь, с тех пор, как я вошел в клуб, только и слышу отовсюду волнительный гул. Все гадают, какую же скандальную штуку ты выкинул.
Мэтью стряхнул с себя все мысли о любви и верности:
– Почему бы тебе, не остаться и не увидеть все самому?
– Определенно я не буду принимать участия в торгах. Сомневаюсь, что эта картина – как раз то, что моя будущая жена была бы рада видеть в нашем доме. И все–таки я приехал, чтобы взглянуть краешком глаза. И оно того стоило – просто восхитительное зрелище! Везучий ублюдок! – Реберн хитро посмотрел на графа. – Вокруг только и представляют, как ты втиснулся в свою крошечную мастерскую с теми голыми женщинами. Ты, должно быть, упиваешься своей славой.
Мэтью слушал друга, не спуская глаз с присутствовавших в клубе. Шампанское текло неиссякаемой струей, словно вода из фонтана. Совсем скоро гости опьянеют и почувствуют неодолимое желание поторговаться за его произведение.
– Не то чтобы я сам пошел на такое, разумеется, – продолжил Реберн, – я счастлив с Анаис. И ни одна другая женщина не сможет прельстить меня.
– Я прекрасно осведомлен об этой твоей доводящей до бешенства преданности по отношению к суженой. Должен тебе сказать, я нахожу это довольно раздражающим.
– Нет, ты так не думаешь, – усмехнулся Реберн, покачавшись на пятках взад–вперед. – Ты просто завидуешь.
– Да, черт возьми, завидую! – прорычал Мэтью.
– И этим вечером он снова несчастен, – язвительно заметил Реберн. – Не волнуйся о картине, дружище. У меня такое чувство, что цена будет расти еще очень долго. Все вокруг просто жаждут хоть мельком взглянуть на этот постыдный портрет.
– Я никогда не волнуюсь, – пробормотал Мэтью. Тем не менее, все внутри у графа предательски сжалось, он чувствовал, что задыхается. Подобные проявления беспокойства были ему несвойственны.
– Я попросил Анаис пригласить на нашу свадьбу леди Берроуз. – Реберн все болтал без умолку. – Мне показалось, это могло бы сделать уик–энд более приятным для тебя. Я ведь знаю, что ты чувствуешь на свадьбах и других подобных мероприятиях…
– Не стоит меня благодарить, – добавил Реберн, когда Мэтью нахмурился. – Что ж, полагаю, мне пора идти. Понимаешь, Анаис дома одна.
Реберн многозначительно поднял брови, а Мэтью трагически закатил глаза:
– Подумать только, всю оставшуюся часть жизни ты будешь ложиться в постель с одной женщиной! Я никогда не пойму, почему тебя не отпугивает идея моногамии.
– Я буду ложиться в постель с правильной женщиной, Уоллингфорд. – Реберн растягивал слова, подчеркивая смысл сказанного. – Ты никогда не пресытишься ею. В постели правильной женщины ты никогда не заскучаешь.
Интересно, мог бы Мэтью быть моногамным, если бы страстно захотел этого? Нет, он так не думал. Граф отличался от своего друга, был совершенно другим человеком. Холодным. Отстраненным. Он не относился к категории тех, кто способен сделать женщину счастливой. С ним она нашла бы лишь одиночество и пустоту, что едва ли способствовало бы счастливому супружеству.
– Что ж, мне пора, – нарушил молчание Реберн, ставя бокал на поднос, который проносил мимо лакей. – Не забывай, что ты – шафер. Я сочетаюсь браком с женщиной мечты, а на церемонии с моей стороны не будет больше никого из тех, кого я бы хотел видеть.
– Я там буду.
– Мне казалось, у тебя аллергия на свадьбы. Мэтью пожал плечами и потянулся за очередным бокалом шампанского:
– Проинструктирую камердинера, чтобы не забыл уложить в мою дорожную сумку целебную мазь.
Реберн усмехнулся:
– Желаю удачи сегодня вечером.
Отсалютовав другу бокалом, Мэтью принялся бесцельно слоняться по комнате. Рядом со столом находился тот самый постыдный портрет, все еще задрапированный холстом. С одного из углов картины ткань начала постепенно соскальзывать, и взору графа предстала изысканная позолоченная рама. В мерцании свечей, бросавших отсвет откуда–то сверху, золото искрилось, словно бриллианты в ожерелье.
– Джентльмены, – громко возвестил аукционист. Какофония голосов и смеха тут же стихла, уступив место неестественному зловещему молчанию.
– Черт возьми, Уоллингфорд, ты уже достаточно раздразнил нас, так долго скрывая эту маленькую работу! Дай взглянуть хоть одним глазком, приятель! – раздался раздраженный голос лорда Тонсомби, только что опрокинувшего в свою жирную глотку еще один стакан бренди.
– Да, ты уже поразвлекся, дай теперь и нам посмотреть! – выкрикнул кто–то из глубины комнаты.
– Джентльмены, – завопил аукционист, ударяя своим молоточком по деревянной кафедре. – Всему свое время, господа. Итак, мы начнем торги за право стать обладателем этого необыкновенного творения с пятисот фунтов.
– Давайте для начала взглянем на лот! – прокричал Фредерик Бэнкс, инвестиционный банкир. Мэтью поймал себя на том, что улыбается. Потомственные аристократы никогда не заботились о том, что покупают, но новоиспеченные толстосумы… Они выжидали, внимательно наблюдая, как растет цена лота, и расставались с деньгами только после того, как убеждались, что вложения окупятся с лихвой. Старина Бэнкс был представителем последних – тех, кто старался вкладывать один пенс, чтобы получить два.
Мэтью даже не сомневался, что Фредерик сочтет его портрет чрезвычайно удачной инвестицией – если, конечно, репутации этого распутника можно было доверять.
– Джентльмены, леди… представляю вам «Танец семи покрывал»!
Старший лакей клуба с шумом сорвал ткань с картины. Оценивающий ропот прокатился от центра толпы к отдаленным уголкам комнаты. Это был тихий, почти благоговейный трепет, и в установившемся безмолвии угадывалось почтение, заставившее Мэтью повернуть голову и пристально взглянуть на картину.
Произведение было столь же великолепным, сколь и эротичным. Прекрасным, написанным со вкусом и при этом явно возбуждающим.
До слуха графа донесся одобрительный шепот. «Просто ошеломляющий», «чувственный и великолепный», «изящный и сладострастный» – все эти слова заставляли его ощущать безмерную гордость.
Когда у Мэтью возникла идея проведения аукциона, он знал, что творение наделает много шума. Портрет просто обязан был стать сенсацией и заставить состоятельных господ распрощаться со своими денежками – возможно, даже с весьма внушительными суммами.
То, что замышлялось как непристойный портрет, в процессе работы трансформировалось, превратившись в утонченное и довольно декадентское произведение. Каждый мужчина, обожавший женские формы, наверняка готов был кровь пролить ради обладания этим шедевром!
Стоя позади толпы, Мэтью пытался критически оценить свою работу. Он пробовал смотреть на нее отстранение, выискивал недостатки, и все же не мог найти ничего, что было бы достойно порицания. Картина была превосходной, безупречной даже в мельчайших деталях – изображении женских грудей обнаженных героинь портрета, покрывал, собранных у их лодыжек и запястий.
Женщины на любой вкус – европейской внешности, темнокожие, азиатка, арабка, индианка – были изображены в изящных позах на фоне украшенных бриллиантами шелковых тканей, которые выгодно подчеркивали оттенки их сияющей кожи. Дамы были обнажены и беззастенчиво открыты восхищенным взорам мужчин–вуайеристов. Одни соблазнительницы растянулись на темно–красной бархатной кушетке, другие стояли на коленях.
Губы двух женщин, крепко связанных кроваво–красным покрывалом в области грудей, слились в страстном поцелуе. Парочка других обольстительниц исследовала тела друг друга, а еще одна героиня картины наблюдала за этим зрелищем, бесстыдно лаская себя, с лицом наполненным удовольствием.
В целом эти семь женщин были потрясающе красивы, великолепно сложены и, самое главное, позировали автору в высшей степени расслабленно, непринужденно. И такая оценка была не проявлением высокомерия, а абсолютной правдой – точно так же, как и признаком искусного художника.
Легкое самодовольство сияло на лицах женщин, угадывалось в блеске их глаз, манере кривить надутые губки в таинственной, провокационной улыбке.
– Тысяча фунтов, – прокричал кто–то.
– Две тысячи, – моментально возразил слывший осторожным инвестором Бэнкс.
Участники аукциона продолжали выкрикивать суммы, размеры которых росли приятными темпами. С таким количеством наличных Мэтью мог купить здание, о котором мечтал, – старый маленький магазин в Блумсбери с восхитительным эркером. Ради такой покупки стоило потрудиться, но Уоллингфорд был бесстыдным негодяем, не привыкшим работать до седьмого пота. И все же он хотел эту галерею. Это была единственная вещь, которую он захотел за последние шестнадцать лет.
– Шесть тысяч фунтов, – вскричал аукционист. – Раз… два… Продано мистеру Бэнксу!
С довольной улыбкой Мэтью взглянул на Фредерика Бэнкса, пробиравшегося к нему через толпу.
– Черт возьми, какая прелестная картина! – взволнованно произнес счастливый обладатель творения, пожимая руку Мэтью своей запотевшей ладонью. – Я переведу деньги на ваш счет утром.
Кивнув, Мэтью еще раз бросил взгляд на свою картину:
– Я прикажу одному из своих лакеев доставить вам портрет. Возможно, банк будет самым подходящим местом?
Глаза Бэнкса расширились.
– Да–да, – рассмеялся он. – При виде этого произведения у моей жены наверняка случился бы нервный припадок, хотя картина может научить ее парочке шалостей, не так ли?
Судя по тому, что слышал граф об этом семействе, миссис Бэнкс была хорошо сведуща во множестве восхитительных маленьких проказ.
– Благодарю вас, мистер Бэнкс, – пробормотал Мэтью, желая вырваться из растущей на глазах толпы, которая, казалось, вот–вот поглотит его. – Думаю, мне пора идти Уоллингфорд не хотел задохнуться в этом столпотворении, да и интереса в поддержании праздной беседы он не чувствовал.
– Похоже, вам стоит выпить. Отпраздновать свой успех.
Мэтью знал голос, который произнес эту фразу. Член в брюках стал твердым, стоило ему взять стакан, наполненный загадочной зеленой жидкостью, и заглянуть в прекрасное лицо, воззрившееся на него с непреодолимым желанием.
– Ах, абсент – «зеленая фея»! Откуда вы узнали?
– Женщина никогда не выдаст свои секреты, – ответила собеседница, улыбнувшись графу с показной, кокетливой скромностью. – Абсент чудесным образом влияет на разум, не так ли?
– М–м–м, – пробормотал Мэтью, выпив стакан до дна. Никакой другой напиток не мог заставить его забыть, кто он и где находится, – только абсент.
– Какая соблазнительная, даже порочная картина! – произнесла красотка, и ее глаза оценивающе пробежали по портрету. – Готова поспорить, этим женщинам действительно нравилось позировать вам.
– Возможно, – тихо ответил Мэтью, внимательно изучая жеманницу. Прежде он уже несколько раз видел эту соблазнительную даму, но никогда к ней не приближался. Сегодня вечером на ней было надето красное платье с глубоким вырезом корсажа. И ему нравилось видеть то, что бесстыдно вываливалось из этого дешевого наряда.
– Я хотела бы позировать вам, – прошептала она. – Вы готовы к этому сегодня вечером?
О боже, Мэтью уже был готов ко всему – твердый, напряженный… Эффект от абсента и эйфория от получения шести тысяч за картину только усилили его возбуждение.
– А вы, моя дорогая, готовы?
Ресницы красотки затрепетали, пряча глаза, почти такие же циничные, как его.
– Это, милорд, зависит от того, чего вы хотите.
– Вас. Связанной.
Взяв у Мэтью опустевший стакан, она поставила его на подлокотник кресла:
– Это придется оплатить дополнительно, разумеется. Граф улыбнулся: на что только не пойдешь, изнывая от скуки!
– Это всегда обходится недешево.
– У меня комната наверху. С восхитительно огромной постелью.
– А что, если у стены? – спросил Мэтью, обходя новую знакомую сзади и оценивая ее бедра, которые эротически покачивались под безвкусным красным атласом. – Обычно я предпочитаю именно так.
Женщина, направившаяся было к лестнице, оглянулась:
– Это будет стоить еще десять фунтов.
Мэтью кивком дал понять, что согласен. Что значили каких–то десять фунтов по сравнению с его неприязнью к сексу в постели? Это была инвестиция в собственное удовольствие – об этом ему еще успели сказать жалкие остатки здравого смысла.
– А вы – большой оригинал, – прокомментировала дама, и ее накрашенные глаза мягко взглянули на спутника в свете бра. – Сломленный, как мне кажется.
– Сломленный? – рассмеялся он в ответ. – Мадам, я окончательно и бесповоротно сломан и ремонту не подлежу. Даже не трудитесь собирать меня по кусочкам. Я почти уничтожен и гожусь только для мусорного бака.
Итак, куда, ради всего святого, вы меня ведете? – спросил Мэтью, чувствуя, как абсент добрался до мозга и начал путать мысли. Может быть, сегодня вечером постель пришлась бы ему как нельзя кстати. Он понял, что явно перебрал.
– Чуть дальше, еще совсем немного, – прошептала дама.
– Но ведь это уже выход! – из последних сил рявкнул Уоллингфорд, пытаясь хоть что–то разглядеть затуманенным взором. – Разве вы не сказали, что у вас комната наверху?
– Хорошо, я солгала, – резко бросила она голосом, вдруг превратившимся из сладкого лепета сирены в отрывистую, холодную речь старой девы. – Признаюсь, я тоже сломлена. Так что гоните–ка свои денежки и драгоценности, да поживее!
Эта нелепая попытка ограбления насмешила Мэтью, но в следующее мгновение чья–то темная тень набросилась на него, вытолкнув из клуба в узкий переулок.
– Мы не шутим, папочка, – произнес кто–то, на диалекте кокни. Вокруг горла графа обвилась толстая рука, его лицо обдало зловоние затхлого дыхания и гнилых зубов. – Отдай то, что нам нужно, и мы сохраним тебе жизнь.
– О, какое наслаждение! – произнес граф, нарочно, издевательски растягивая слова. – Будет что вспомнить утром! Обычным утром нового, ничем не примечательного дня. А вы действительно знаете, как подчинить себе мужчину, не так ли?
Мэтью почувствовал, как напавший на него обернулся и взглянул на даму в красном, задавая ей немой вопрос по поводу психического состояния жертвы.
– Я не знаю! – отозвалась подельница, приготовившись к ссоре. – Он безумен, как Шляпник, но богат, как Крез.
– Это и правда, и неправда, милая. Безумный? Да. Богатый? Боюсь, нет.
Мужчина, державший графа за горло, отвлекся и ослабил хватку, позволив Мэтью неожиданно дать хук слева.
– Ой! Он сломал мне нос! – вскричал грабитель, спотыкаясь и отступая назад. А Мэтью уже вскочил на него, пуская в ход мастерство, отточенное за годы обучения боксу. Уоллингфорд был огромен и силен как бык, с выносливостью жеребца – хилый нищий кокни вряд ли мог устоять против его кулаков.
– Боюсь, ты ошибся с выбором жертвы, приятель. Я не какой–то слабый «папочка», я занимался боксом последние десять лет!
Внезапно из глубины переулка послышался яростный крик, и из темноты выскочили еще трое головорезов. Махая кулаками и пинаясь ногами, Мэтью умудрялся отбиваться от них даже сквозь хмельной дурман.
«Подождите, я еще доберусь до той сучки!» – со злостью подумал он, всаживая удар в горло одного из бандитов. Мэтью уже готов был отправить грабителя в нокаут, с силой ударив его прямо в лицо, как белая вспышка промелькнула мимо его правого глаза. В слепящем круговороте Уоллингфорд ощутил, как что–то с грохотом врезалось ему в висок. Последним, что он почувствовал, были покрытые грязной слизью булыжники мостовой, о которые ударилась его щека.
– Оберите его до нитки, – приказала женщина в красном. – Я видела, как к нему подходил победитель аукциона. Уверена, тот передал какие–то деньги. Как только найдете их, сделайте так, чтобы он не смог меня опознать.