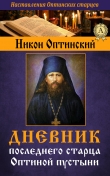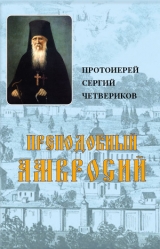
Текст книги "Преподобный Амвросий (СИ)"
Автор книги: Сергий Протоиерей Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Так празднуется временная Пасха Христова на земле, и к сему празднованию допускаются все христиане, достойные и недостойные, потому что настоящая жизнь подлежит изменению: нередко достойные делаются недостойными, и наоборот ― недостойные делаются достойными, что явно оказалось на Иуде и разбойнике. Первый был в лике избранных дванадесяти Апостолов Христовых, три лета последовал за Христом, слушая непрестанно учение Его, и имел дарование изгонять бесов и исцелять многоразличные болезни. Но, наконец, обезумевши от нерадения и сребролюбия, предал Христа и погиб вечно. Последний же более 30 лет был в шайке закоренелых разбойников, но, вразумившись на кресте, исповедал волею Распеншегося Сына Божия Господом и Царем и первый вошел в рай. Примеры эти да содержим всегда в памяти, чтобы воздержать себя от греха осуждения, хотя бы мы видели кого-либо и при конце жизни грешащим, как убеждает нас св. Иоанн Лествичник.
Но иной будет порядок празднования на небеси Пасхи вечной после всеобщего воскресения и суда. К празднованию оной допустятся только одни избранные, достойные. И кто единожды допущен будет в чертог небесный к празднованию Пасхи вечной, тот вечно и останется в лике празднующих оную, во гласе радования. Кто же окажется недостойным участия в этом праздновании, тот уже пребудет в вечном лишении и вечном отчуждении.
Но теперь неблаговременно говорить подробно о горькой участи последних по причине всерадостного праздника. А скажем только одно, что все мы, христиане, пока живы, должны быть осторожны и внимательны к своему спасению. И мнящиеся из нас стояти, по слову апостольскому, да блюдутся, да не падут, памятуя всегда ужасающий пример погибшего Иуды. Немощные же из нас и падающие да возбуждаются надеждою исправления, видя утешительный пример благоразумного разбойника, наследовавшего рай.
О, Пасха, велия и священнейшая Христе! О, мудросте и Слове Божий, и сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего!»
В другом роде было пасхальное приветствие старца, разосланное им в 1881 году:
«Сестры о Господе и матери! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Поздравляю вас с светлым праздником Воскресения Христова и сердечно желаю всем вам встретить и провести всерадостное сие христианское торжество в мире и радовании, и утешении духовном, если кому не помешает несвойственная немощь. Вы спросите, какая же это немощь? Может быть, подумаете, что под этим разумеется неисправное проведение поста св. Четыредесятницы. Но св. Златоуст снисходит нам в этом, говоря: „Постившиися и непостившиися возвеселитеся днесь, воздержницы и ленивии день почтите!“ Также, может быть, подумаете, что это относится к памяти прежних согрешений, которая препятствует радости. Но и об этом он же говорит: „Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия“. Итак, спросите, какая же это немощь? Та несвойственная немощь, которая побудила Каина убить незлобивого Авеля, а иудеев побудила распять Христа Спасителя и Избавителя мира.
Сами можете понять, что говорю вам о страсти зависти, которая, по Писанию, не весть предпочитати полезная. Страсть зависти ни в какой радостный праздник, ни при каких радостных обстоятельствах, не дает вполне порадоваться тому, кем она обладает. Всегда, как червь, точит душу и сердце его смутною печалию, потому что завистливый благополучие и успехи ближнего почитает своим несчастием, а оказываемое другим предпочтение считает для себя несправедливою обидою.
Один греческий царь пожелал узнать, кто из двух хуже, сребролюбец или завистливый, потому что оба не желают другим добра. С этою целью повелел призвать к себе сребролюбца и завистливого и говорит им: „Просите у меня каждый из вас, что ему угодно; только знайте, что второй получит вдвое, что попросит первый“. Сребролюбец и завистливый долго препирались, не желая каждый просить прежде, чтобы после получить вдвое. Наконец, царь сказал завистливому, чтобы он просил первый. Завистливый, будучи объят недоброжелательством к ближним, вместо получения обратился к злоумышлению и говорит царю: „Государь! Прикажи мне выколоть глаз“. Удивленный царь спросил, для чего он изъявил такое желание? Завистливый отвечал: „Для того, чтобы ты, государь, приказал товарищу моему выколоть оба глаза“.
Вот насколько страсть зависти зловредна и душевредна, но еще и зложелательна. Завистливый готов подвергнуть себя вреду, лишь бы только вдвое повредить ближнему. Мы здесь выставили самую сильную степень зависти. Но и она, как и все другие страсти, имеет разные размеры и степени, и потому должно стараться подавлять ее и истреблять при первом ощущении, моляся Всесильному Сердцеведцу Богу псаломскими словами: „От тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади рабу Твою или раба Твоего“ (Пс. 18, 13–14). Также со смирением должно исповедовать немощь эту пред духовным отцом. А третье средство ― всячески стараться не говорить чего-либо противного о том человеке, которому завидуем. Употребляя эти средства, мы можем с помощию Божией, хотя не скоро, исцелиться от завистливой немощи.
Зависть происходит от гордости и вместе от нерадения к исполнению должного. Каин понерадел принести избранную жертву Богу. А когда Бог за такое нерадение презрел его жертву, а усердную и избранную жертву Авеля принял, тогда он, объятый завистью, решился убить и убил праведного Авеля. Всего лучше, как сказано выше, стараться истреблять зависть в самом начале смиренною молитвою, смиренною исповедию и благоразумным молчанием. Кто с помощию Божиею возможет истреблять в себе страсть зависти, тот может надеяться победить и другие страсти, и тогда не только в Светлый праздник Воскресения Христова и в другие христианские праздники он может радоваться радостию неизглаголанною, но и в простые дни всегда будет находиться в благом расположении духа и в благом устроении. Аминь.
А меня простите за непраздничное поздравление. Хотел я в праздник сказать вам нечто и полезное, а полезное редко сходится с приятным. Кому не понравится это поздравление, пусть прочтет его на Фоминой неделе и да заметит, что зависть вначале обнаруживается неуместною ревностью и соперничеством, а затем рвением с досадою и порицанием того, кому завидуем. Итак, да будем благоразумны и осторожны при первом появлении завистливого чувства, стараясь отвергать оное, прося всесильной помощи нас ради Распеншегося и в третий день Воскресшего Христа Господа. Аминь! Аминь!!!»
Не приводя других праздничных писем, из коих, в большинстве, старец разъясняет те или другие псаломские слова и церковные песни, например, «Уста моя возглаголют премудрость…», или «Наказуя, наказа мя Господь…», или «Еда забудет ущедрити Бог…», или «Покрыла есть небеса добродетель Твоя, Христе…», или «Жезл из корене Иесеова…», или «Таинство странное…» и т. д., скажем лишь, что этими своими письмами о. Амвросий создавал в своих духовных детях одно общее праздничное высокое настроение и, таким образом, соединял их в одну духовную семью.
Общие письма составляют лишь небольшую часть тех писем к монашествующим, которые были написаны о. Амвросием за 30 лет его старчества[55]55
Письма о. Амвросия к монашествующим изданы Оптиною пустынью в 2-х выпусках.
[Закрыть]. Письма эти не так разнообразны по своему содержанию, как письма к светским лицам; они учат все одному и тому же: как иметь страх Божий, как искоренять страсти, как преуспевать в молитве, как вообще жить монаху или монахине, избегая прелести и обольщений; тем не менее, они глубоко назидательны и могут быть полезны не только для монашествующих, но и для мирян. Вот основные мысли некоторых из них: мудрость христианская состоит в том, чтобы во время искушений хранить веру в Господа; бодрость ― от единения с Господом, уныние ― от тщеславия; сознание своей немощи, самоукорение и терпение ― три ступени к смирению; кратчайший путь ко Христу ― носить тяготы друг друга; главные препятствия к усвоению святости ― похоть плоти, похоть очес и гордость житейская; серьезная болезнь серьезнее обращает к Богу; духовное возрождение начинается освобождением от страстей, а завершается прохождением добродетелей; о том, что грешнику полезнее вспоминать ад, нежели рай; гордый ученик должен искать старца строгого; найти совершенство без покаяния ― самообман; одни правила и посты без соблюдения заповедей не спасут; должно идти средним путем; не должно вступаться не в свои дела, а себе внимать; умеренному деланию цены нет, а крайности ― от диавола; об искушениях на молитве и т. д.
Отец Амвросий в своей келейной обстановке. Будничный и праздничный день старца. Дни исключительные
Внешняя обстановка жизни о. Амвросия была самой скромной. Он занимал, как было уже сказано, небольшой корпус с правой стороны от Св. скитских врат. Небольшое крылечко изнутри скита вело в сени, а оттуда в низенький и темный коридор, по обеим сторонам которого стояли скамьи для приходящих монахов и простых посетителей мужского пола. Из коридора первая дверь направо вела в небольшую приемную зальцу, куда старец выходил также на общее благословение. Передний угол зальцы занят был св. иконами. Стены сплошь увешаны картинами духовного содержания и портретами, между которыми можно было видеть портреты: Государя Императора, митрополитов Филарета и Иннокентия Московских, Филарета, Арсения и Иоанникия Киевских, епископов ― Григория II, Владимира и Анастасия Калужских, Молдавского старца Паисия Величковского и других духовных старцев, оптинских и не оптинских. В зальце стояли диван, стулья, столы и этажерка с книгами духовного содержания, чтобы посетители, в ожидании приема старца, могли на досуге заняться чтением. Рядом с приемной маленькая келлийка келейника о. Михаила. Против приемной дверь в келлию самого старца Амвросия, которая всегда была на крючке и отпиралась только во время служения келейных бдений и еще в некоторых исключительных случаях. Келлия старца была с переднею, в которой висела его простая, иногда даже заплатанная одежда: подрясника два ваточных, подрясника два холодных, балахон, легонькая меховая ряска из малороссийских беленьких смушек[56]56
Смушка ― шкурка, снятая с новорожденного ягненка.
[Закрыть]. Тут же хранились его мухояровая[57]57
Мухояр ― пестрая ткань из смеси льна, шерсти, реже хлопка, окрашивавшихся в пряже.
[Закрыть] мантия, ряска и клобук. Самая келлия старца вся увешана была св. иконами и портретами духовных лиц, большею частью принесенными в дар старцу его почитателями. Между иконами особенное внимание обращали на себя: а) маленькая икона (вершка 4 высотой) Божией Матери именуемая «Тамбовскою», ― родительское благословение старца Амвросия. Пред нею теплилась неугасимая лампада; б) икона Божией Матери «Скоропослушница» (вершков 12 высотой) присланная в дар старцу из Москвы из Афонской часовни; в) большая икона св. великомученика и целебника Пантелеимона, пред которою также горела неугасимая лампада; г) большое изображение на полотне Киево-Печерской Божией Матери с коленопреклоненными преп. Антонием и преп. Феодосием. Эта икона стояла над койкою о. Амвросия в его изголовье; д) икона Нерукотворного Спаса художественной работы.
Между портретами духовных лиц были: Троекуровского затворника Илариона, Вышенского затворника ― епископа Феофана, протоиерея Феодора Александровича Голубинского, Кронштадтского протоиерея о. Иоанна Ильича Сергиева и других.
У восточной стены келлии стоял небольшой письмоводительский столик, где письмоводитель писал письма под диктовку старца. В святом углу аналой со шкафчиком, со следованною на нем псалтирью и другими книгами, необходимыми для вычитывания правила. Вдоль южной стены другой стол, на котором стояли некоторые иконы, подсвечники с восковыми свечами и лежало несколько духовных книг. Вдоль западной стены стояла койка старца, а около нее печка, в зимнее время вся заваленная носками и увешанная фланелевыми рубашками. К северной стене приставлен был шкаф, наполненный святоотеческими и другими духовно-нравственными книгами. Между шкафом и печкой дверь. Затем табуретки три-четыре и два старинных кресла для почетных посетителей. Рядом с келлиею старца келлия другого его келейника, о. Иосифа, тоже вся в иконах и портретах.
Против входных дверей, в конце коридора, дверь в хибарку, или пристроенное, довольно просторное помещение для женского пола, состоявшее из нескольких комнат и коридора, который вел в заднюю еще хибарку, из которой уже был выход наружу. И здесь было множество икон, между которыми особенно выдающеюся была большая Афонская икона Божией Матери, именуемая «Достойно есть». Такова была внешняя обстановка жизни старца Амвросия.
Будничный день старца обыкновенно начинался молитвословием. Келейники в свое время попеременно читали положенное правило, а старец слушал или стоя на своей койке, или, большею частью, по немощи, сидя на тут же устроенном для него седалище… Когда же был болен, во время чтения лежал, а правила все-таки никогда не упускал. Для слушания утреннего правила поначалу он вставал часа в четыре утра, звонил, к нему являлись келейники и прочитывали: утренние молитвы, двенадцать избранных псалмов и первый час. Затем, после краткого отдыха, старец слушал часы ― третий и шестой с изобразительными и смотря по дню ― канон с акафистом Спасителю или Божией Матери, каковые акафисты он всегда выслушивал стоя. Описанные правила всегда были у старца с более или менее продолжительными остановками. Прослушав, например, половину утреннего правила и чувствуя ослабление сил, он отпускал от себя келейных и, отдохнувши несколько, звал опять и дослушивал правило. Так же было и во время часов. Может быть, и другие, более важные причины, заставляли старца делать эти перерывы, именно ― упражнение наедине в умной молитве, о чем можно предполагать с вероятностью. Выслушав положенные молитвословия, старец начинал умываться. Кто-нибудь из келейников ставил возле его койки медный таз на табуретку и начинал понемногу лить на руки ему тепловатую воду из большого чайника; а он на коленях, нагнувшись над тазом, умывался. Во время этого действия со стороны келейников начинались вопросы: «Батюшка! Вот тот-то в таких-то обстоятельствах находится, ― что ему благословите делать?» ― Или: «Вот та-то просит благословения на такое-то дело, благословите или нет?» И прочее, и прочее… Старец и свое дело делал и вместе отвечал на вопросы. После умыванья старец подкреплялся чаем, среди которого диктовал письма и затем выходил к посетителям… Впрочем, так было до 70-х годов, когда силы старца были покрепче; а после того, при умножавшемся год от году числе посетителей, вследствие крайнего переутомления, он и на правило утреннее вставал позже, часов в пять, и по выслушивании часов, с каноном и акафистом, нередко ложился на койку для кратковременного отдыха. Вставая, он, бывало, промолвит: «Ох! Все больно»… В зимнее время он весьма часто простуживался. Встанет с опухшим лицом, с лихорадочным ознобом или ревматическими болями в теле, умоется, начнет растираться спиртом или какою-либо мазью. Келейники же все-таки задают вопросы, а старец едва слышным голосом отвечает. Вместе с тем начнутся у старца переодевания и переобувания, которые в продолжение дня повторялись много раз. О своем нездоровье он и в письмах к близким лицам неоднократно писал: «Слабость и болезненность усиливаются, и переобувания и переодевания утроились; жара и холода равно не выношу. В меру только один семнадцатый градус тепла; а выше и ниже дурно влияет. Вот тут и умудряйся около одного градуса вертеться, и как один этот градус удержать, когда постоянно подходят натуральные печки и своими толками умножают жар».
Пока старец, во время своего утреннего чая, диктует письма, к его жилью мало-помалу подходят посетители, ― с одной стороны изнутри скита мужчины, а снаружи женский пол. Не успел он еще окончить нужное письмо, а уж народ начал и в дверь стучаться и звонить в проведенный снаружи колокольчик. Выйдет келейник. Просят доложить. Тот обыкновенно отвечает: «Старец занят». Вскорости опять со стороны нетерпеливых посетителей стук и звон; опять та же просьба, и опять тот же ответ. Но чем дальше, тем все более и более нетерпение посетителей увеличивалось, и уже доходило до ропота. Стук и звон все чаще и чаще повторялся. Выходившему келейнику уже бесцеремонно говорили: «Что же вы не докладываете?» или: «Вы не хотите доложить» и т. п. ― В хибарке набьются вместе с мирскими монахини из разных монастырей. Кто говорит: «Я вот уже живу здесь и хожу к старцу целую неделю, и никак не могу до него дойти», а иная говорит: «А я ― две». Лишь только выйдет к ним келейник, как в сотню голосов к нему: «Доложите, доложите». Желая хоть сколько-нибудь успокоить посетительниц, он спросит: «Как о вас доложить?» Каждая, конечно, сказывает, откуда прибыла. Но где же ему в такой суматохе всех упомнить? Своеобразно докладывал о них о. Михаил. Придет к старцу и скажет: «В хибарке вас, батюшка, ждут». ― «Кто там?» ― спросит старец. ― «Московские, вяземские, тульские, белевские, каширские и прочие народы». ― «Скажи, чтобы подождали». Выйдет опять. «Ну, что, ― спросят, ― докладывали?» ― «Докладывал». ― «Что же?» ― «Велит подождать». ― «Да вы, должно быть, не докладываете». Между тем болезненный старец, подготавливаясь, выходит к посетителям, переодевался, переобувался, занимаясь вместе с тем с кем-либо из братий с одним или вдруг с несколькими, да велся какой-либо общий разговор. Слушая назидательную речь старца, присутствовавшие в то же время помогали ему в переодевании и переобувании. Снимали сапоги и отсыревшие носки, подавали сухие и проч. Так всегда бывало. Наконец, может быть, уже около часов десяти дня, если не позже, старец выходил к давно уже ожидавшим его посетителям. Пройдется по коридору, где бывали мужчины; кого на ходу благословит, кому скажет несколько слов; с особенными же нуждами принимал в зальце отдельно и занимался по нескольку времени. Потом проходил в хибарку и там уже оставался надолго. Нельзя не заметить при этом, что не все приходили к болезненному старцу за делом, а некоторые только отнимали у него время и тем, в особенности, отягощали его.
Он сам жаловался на таких посетителей в своих письмах: «Старость, слабость, бессилие, многозаботливость и многозабвение, и многие бесполезные толки не дают мне и опомниться. Один толкует, что у него слабы голова и ноги, другой жалуется, что у него скорби многи; а иной объясняет, что он находится в постоянной тревоге, ты все это слушай, да еще ответ давай; а молчанием не отделаешься ― обижаются и оскорбляются. Недаром повторяется иногда поговорка: толкуй больной с подлекарем. Больному хочется объяснить свое положение, а подлекарю скучно слушать; а делать нечего ― слушает, не желая еще более раздражить и растревожить больного толкуна».
Иным нетерпеливым посетителям старец ставил в пример великих угодников Божиих и, советуя им потерпеть, говорил им со своим обычным добродушием: «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, так потерплю ж и я».
Но вот настает полдень ― время обедать. Не отпуская посетителей, старец шел в смежную со своею келлиею ― келлию о. Иосифа, своего келейника; и там, полулежа около стола от утомления, вкушал пищу, которая состояла из двух блюд ― ухи из свежей рыбы, не очень жирной, и клюквенного киселя, а в постные дни вместо ухи ему готовили похлебку или картофельный суп на подсолнечном масле. Как-то пришла ему мысль обойтись без масла и, чтобы постная пища была не очень сурова, велел заправить ее толчеными грецкими орехами. Случилась тут какая-то знакомая старцу игумения, которую он и вздумал попотчевать этим снадобьем. «Да это что же у вас такое, батюшка? ― сказала она. ― Это рвотное».
Пищи съедалось старцем не более, сколько может съесть трехлетний малютка. Обед его длился десять или пятнадцать минут, в продолжение которых келейники опять-таки задавали ему вопросы о разных лицах и получали от него ответы. Но иногда, чтобы хоть сколько-нибудь дать отдохнуть своей голове, старец приказывал кому-нибудь из близких, во время своего обеда, почитать что-нибудь легкое. Любил иногда прослушать что-нибудь из басен Крылова. Книга эта всегда почти лежала при нем на столе в келейной. Доставил ему однажды кто-то сочинение какого-то господина о русских монастырях, в которых, к сожалению, почтенный сочинитель кроме грязи ничего не заметил. Старец прослушал эту книгу с грустно-серьезным выражением лица и никакого своего мнения о ней не высказал.
По окончании обеда старец, если был слаб, тут же, лежа на койке, принимал кого понужнее, или вдруг принимал всех на общее благословение, сначала мужской пол, а после и женский. Набьется полная келлия. На этих общих приемах старец вразумлял нуждающихся метким словом, нередко пословицами, понятными тому, к кому они относились. Или рассказывал что-нибудь такое, что служило ответом на сокровенную мысль кого-либо из присутствовавших. Иногда заставлял кого-нибудь из посетительниц прочитать более подходящую к делу басню Крылова; затем скажет несколько назидательных слов в шутливом тоне и, наконец, преподав всем благословение, направится к своей келлии. За ним во сто голосов: «Батюшка! Батюшка! Мне словечко сказать; мне пару слов». Но усталый, болезненный старец кое-как, при помощи келейников, протискивался сквозь толпу, уходил в свою келлию и запирался изнутри на крючок, чтобы и туда народ не нахлынул.
Если же старец после обеда имел довольно сил, то он выходил преподать общее благословение в хибарку. Предварительно появлялся келейник и закрывал все окна, чтобы не было сквозного ветра. Все сидящие поднимались со своих мест, становились по обеим сторонам, оставляя небольшой проход для батюшки. Наконец дверь отворялась, и на пороге появлялся старец в белом балахоне, сверху которого всегда, и зимою, и летом, носил легонькую меховую ряску, и в ваточной камилавке на голове. Выйдя из двери и остановившись на ступеньке, он всегда молился перед поставленною здесь иконою Божией Матери «Достойно есть» и проходил далее, внимательно вглядываясь в просивших у него благословения и осеняя их крестным знамением. Из толпы слышались вопросы, на которые он давал простые, но мудрые ответы. Иногда старец садился, и тогда все присутствовавшие становились вокруг него на колени, с глубоким вниманием слушая его беседу, смысл которой всегда заключал в себе полезное нравоучение или обличение чьих-либо недостатков. Чаще всего предлагал он советы о терпении, снисхождении к немощам ближнего и понуждении себя к добру, говоря, что Царствие Божие нудится, что многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие, и претерпевый до конца, той спасен будет. Иногда эти поучительные беседы, или общие благословения, застигал час отдыха, и келейник напоминал ему об этом. Тогда батюшка снимал шапочку, раскланивался и говорил по обычаю в шутливом тоне: «Очень признателен вам за посещение; о. И. говорит, что пора…» В иной же раз келейник скажет: «Батюшка, уже два часа»; а батюшка ответит: «Ты переведи их назад, и будет час». Летом в теплые дни выходил он благословлять на воздух; и появление его было истинной радостью для всех томившихся ожиданием. От самого крыльца хибарки устроены были на столбиках жерди, по одну сторону которых стоял народ, а по другую сторону шел согбенный старец, преподавая всем по ряду благословение и временами останавливаясь, давал по вопросам ответы. За оградку к старцу, без его позволения и благословения, зайти никто не смел; а если бы кто отважился на это, должен был, по назначению старца, положить несколько поклонов.
Бывали, хотя весьма редко, и такие дни, когда старец после обеда вовсе не отдыхал, может быть, потому, что чувствовал в себе довольно сил обойтись без отдыха; или просто так не спалось. Тогда он звал к себе писаря и диктовал кому-нибудь письмо. Таким образом у него минуты одной не проходило в праздности. Во время отдыха старца уже никто не беспокоил. Народ уходил на гостиницу. Двери кругом запирались, ― и в хибарке, и в скиту на парадном крыльце. После краткого полуденного отдыха, часа в три, старец был опять на ногах и, если чувствовал здоровье свое порядочным, опять шел к посетителям толковать; если же был слаб, принимал народ в келлии о. Иосифа, лежа на его койке. Тут он среди толков с народом и чай пил часов в пять вечера. И опять, и опять принимал и толковал, толковал и принимал. ― Иногда батюшка неожиданно прерывал свою беседу с посетителями и уходил на некоторое время в свою келлию ― это бывали моменты, когда он чувствовал потребность побыть одному с Богом, в молитвенном самоуглублении, чтобы с освеженной душой снова возвратиться к людям на делание свое. Часов в восемь старец ужинал, ― подавалось на стол то же, что и в обед. И среди ужина келейники кое о чем и кое о ком спрашивали старца, а он не переставал отвечать. Или же опять заставлял почитать что-нибудь. Вскоре после ужина, если силы старца окончательно изнемогали, он ограничивался преподанием всем общего благословения. Если же силы еще не совсем оставляли его, то опять начинались обычные приемы и толки, которые и продолжались иногда до 11 часов ночи… Несмотря на крайнее обессиление и болезненность старца, день всегда заключался вечерним молитвенным правилом, состоявшим из малого повечерия, канона Ангелу-хранителю и вечерних молитв. От целодневных, почти непрерывных докладов келейники, то и дело приводившие к старцу и выводившие посетителей, едва стояли на ногах, однако попеременно читали положенные молитвословия… По окончании правила старец, по обычаю, испрашивал у предстоящих прощения, елика согреших делом, словом и помышлением. В заключение келейники принимали от старца благословение и направлялись к выходу. Зазвонят иногда часы. Слабым, едва слышным голосом спросит старец: «Сколько это?» ― «Двенадцать», ― ответят. «Опоздали», ― скажет.
Спать ложился батюшка всегда одетым ― летом в балахон, а зимой в ватный подрясник, опоясанный непременно кожаным поясом. На голове имел всегда шапку монашескую, а в руках четки. Снимал только сапоги, оставаясь в одних носках. Богу известно, как проводил старец ночные часы. Только по приходе к нему на утреннее правило келейники замечали, что во время ночи он переменил несколько фланелевых рубашек, из чего можно видеть, что непрерывного сна он не имел.
Накануне каждого воскресного и праздничного дня о. Амвросий выслушивал у себя в келлии бдение. Поначалу, в шестидесятых годах, служил всегда эти бдения преданный духовный сын старца, иеросхимонах Гавриил. Тут же около двери стояли два-три человека певчих. Будущий скитоначальник о. Анатолий, в то время еще простой монах, пел басом. Келейники были чтецами; о. Климент ― канонархом. Со временем обстоятельства изменялись. Нездоровые и немощные скитяне, вместо того чтобы идти слушать бдение в монастырь, испрашивали у старца благословение быть на его келейном бдении; и старец, конечно, благословлял. Умножилось, таким образом, число молящихся. Поэтому, чтобы в келлии старца не было тесно и душно, певчим велено было стоять в передней, а наконец, и в коридоре, куда во время службы растворялись двери старцевой келлии. В самой келлии оставался один служащий иеромонах, да еще, может быть, кто-либо из лиц, близких старцу. Впоследствии и в хибарке оставались некоторые, по благословению старца, послушать сквозь дверь его келейное бдение и помолиться. В летнее время неоднократно приезжал в Оптину пустынь граф А. П. Толстой и всегда любил присутствовать на келейном бдении у старца. Сам же старец и среди бдений никогда почти не оставался без обычного своего дела. Во время чтения паремий, кафизм и канона он или кого исповедовал в келлии о. Иосифа, или принимал посетителей, кого не успел принять днем, или же, наконец, подкреплялся вечернею трапезою. Всегда только он выслушивал шестопсалмие и величание праздничное с чтением Евангелия, стоя на своей койке, как можно было заметить, с глубоким вниманием. Величание подпевал. Голос у него, несмотря на старость, был светлый и приятный теноро-бас. Пел он всегда от души и, по слову Священного Писания, разумно. Если же посетителей и исповедников у старца во время его келейного бдения не было, то большую часть службы он слушал сидя, в самоуглублении, а иногда от утомления и лежа. Нередко можно было видеть в это время на лице его слезы. Если старец со своими делами не успел управиться, а бдение до шестопсалмия уже отслужили, в таком случае служба на несколько минут прерывалась, и старца дожидались. По окончании келейного бдения, которое с промежутками продолжалось часа три и отходило почти вместе с бдением, совершавшимся в храме, усталые келейники для усталого старца прочитывали конец вечерних молитв и, получив благословение, отходили на отдых.
Утром, если в скиту была своя литургия, которая обыкновенно начиналась всегда не раньше шести часов, старец с келейниками вставал за полчаса или за час перед службой, прослушивал часы с изобразительными и отпускал келейников в церковь, а сам оставался один с Единым Богом. Только это короткое время и было единственным временем, когда он мог побыть в безмолвии.
Как он проводил это время, уже никому не известно. А приходившие из церкви келейники, вместе с писарем, заставали его почти всегда сидевшим на своей койке, с поджатыми ногами, за чтением книги или Посланий апостольских, или Псалтири, или Добротолюбия, или преподобного Максима Исповедника, или, наконец, св. Исаака Сирина.
Все эти книги он читал непременно на славянском наречии, которое очень любил. На книгах он иногда делал собственноручно заметки; например, как помнится, под словами апостола Павла «дадеся ми пакостник плоти аггел сатанин, да ми пакости деет», подписано было старцем: «Александр ковач». В Добротолюбии же и в книге св. Исаака Сирина было очень много для памяти подчеркнутых старцем мест. Возвратившиеся из церкви писарь и келейники предварительно входили с молитвой к старцу и получали от него благословение; а старец, сидя за книгой, тут же иногда укажет кому-нибудь из них особенно назидательную в книге коротенькую статейку и даст прочитать; потом отпускал всех их подкрепиться чаем и сам подкреплялся. Скоро затем писарь возвращался к старцу, и начиналась обычная диктовка писем, а там подходили посетители и посетительницы. И так уже до глубокого вечера опять все по-будничному. Иногда же от большого в праздничный день прилива посетителей старец утруждался больше, чем в будни.
С некоторою особенностью встречались и проводились старцем великие праздники ― Рождества Христова и Св. Пасхи. Недели за две до праздника старец продиктовывал свое обычное «общее поздравление», которое и переписывалось в немалом числе экземпляров. Удивительно памятлив был старец. В продолжение двадцати одного года он диктовал эти поздравления и несмотря на то, что никогда не справлялся о содержании продиктованных в прежние годы писем, всегда говорил непременно о разных предметах. Но вот наставал канун праздника. Келейники заботились о возможной чистоте старцевых келлий. Число посторонних посетителей сравнительно уменьшалось, так как каждый заботился встретить праздник у себя дома. Старец в это время больше занят был исповедниками, и притом из своих братий. Иногда неспешно переходил он по какой-либо надобности из келлии в келлию. Лицо такое светлое, святолепное. Видно было, что благодатный мир и невозмутимая тишина наполняли его чистую душу. Любящее сердце его отверсто было ко всем. Отечески-ласковое слово, взгляд или прикосновение рукой вызывали иногда у окружающих его слезы умиления.