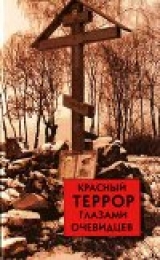
Текст книги "Красный террор глазами очевидцев"
Автор книги: Сергей Волков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
Утром Р-цкий вбежал в камеру в самом радостном настроении. Он бросился на свои нары и даже перекрестился.
– Что, Р-цкий, православие принял? – пошутил кто-то.
– Еще бы! Завтра буду свободен. Сам Сеня мне это сказал. Посидел, говорит, за свой длинный язык – и довольно. Вообще я слышал, что будет очень много освобождений. Человек 50–70. Сам список видел.
К словам Р-цкого мы вообще относились скептически. Однако слухи о массовых освобождениях упорно держались в чрезвычайке. В этот день я с Мирониным посетил камеру, в которой сидели сотрудники чрезвычайки и упомянутые мною два лидера рабочих: член анархистской федерации Ч-ский и правый с.-р. Р-аль. Ч-ский – среднего роста, сухой, мускулистый и очень подвижный мужчина лет 40. Лицо его, длинное, с сильно развитым подбородком и резко очерченными губами обличало необыкновенное мужество и железную энергию. Р-аль – старик-рабочий с умным интеллигентным лицом. Он представлял собою одного из тех старых испытанных борцов за свободу, которых царский режим держал десятками лет в тюрьмах и «отдаленнейших» местах Сибири. На каторге и затем в ссылке Р-аль не только о многом передумал, но успел прочесть немало книг по социологии, государствоведению и политической экономии. И из него выработался цельный, твердый, как гранит, носитель идей социализма. Ч-ский являлся также одним из лидеров анархистов, человеком с большим революционным прошлым.
Оба они были арестованы за открытое выступление на бывших недавно митингах с протестом против советской власти. Несмотря на крайнее возмущение рабочих этими арестами, чрезвычайка считала необходимым проявить свою власть самым беспощадным образом. Коммунисты из ЧК шли, что называется, ва-банк. Они сознавали, что проявление малейшей уступчивости тем требованиям рабочих, которые, с точки зрения «чрезвычайных» коммунистов, являлись малосознательными, может повлечь полное уничтожение осинового гнезда на Екатерининской площади.
Однако в эти дни с достаточной ясностью выяснилось, что чрезвычайка уже не может рассчитывать на поддержку всех вооруженных сил, находящихся в Одессе. Так посланные для разгона митингов броневики отказались применять вооруженную силу по отношению к рабочим. Наконец, бессмысленная бойня людей, производимая во имя красного террора, возмущала буквально всех, а кровь невинных мучеников вопияла из каждого камня ждановского дома. Обычный беззастенчивый обман, в котором власти неизменно держали рабочих, не мог уже закрыть глаза на истинное положение вещей. Поэтому чрезвычайке пришлось скрепя сердце идти на уступки. Главари ее не раз приглашали Ч-ского с предложением выпустить его под условием дачи им честного слова прекратить среди рабочих пропаганду, направленную против деятельности чрезвычайки и большевистской власти. Ч-ский ответил:
– Я анархист и вообще никакой государственной власти не признаю. А тем более вашей бандитской власти. Теперь, после того как я посидел в вашем застенке, я более чем когда бы то ни было являюсь вашим противником. Лишь только я выйду отсюда, я немедленно постараюсь открыть глаза товарищам рабочим на ваши дикие зверства. Я требую от имени рабочих полного прекращения бессудных казней. Вы отлично знаете, что, если с моей головы упадет здесь хоть один волос, анархистская федерация вместе с рабочими разнесет вдребезги вашу чрезвычайку.
И действительно, чрезвычайка не рискнула покарать Ч-ского за его смелые речи.
Между прочим, мы передали Ч-скому и Р-алю подробности ночных рассказов Абаша. Они слушали нас с напряженным вниманием.
– Самое возмутительное, – заговорил по окончании нашего рассказа Р-аль, – что всё это совершается во имя социализма! Да неужели же мы, старые испытанные борцы за народное благо, потратили лучшие дни всей нашей жизни, бросили семьи, личное счастье и всё, всё – для того, чтобы теперь любоваться этим коммунистическим раем!
– Ну, скажите вы мне, коммунисты, – обратился старик к сидевшим в камере арестованным чекистам, – что во всей вашей политике есть общего с социализмом? Кому вы дали счастье? Крестьянам? Да они вас проклинают! Вы их грабите, расстреливаете, совершенно никаких забот об их быте не проявляете. Деревня ходит голая и босая. Что вы им дали? Обувь, мануфактуру? Нет. Школы? Нет. Суды? Нет! Ни одного народного суда нет в Одесском уезде. Вот нужно снимать урожай, а многие земли находятся в споре, так как во время отсутствия владельцев-крестьян засеяны другими… Вы взываете к сознательности крестьян и требуете у них хлеба, а взамен его вы наводняете деревню коммунистической литературой, в которой требуете у крестьян только новых жертв.
А что выдали рабочим? Хлеб? Нет! Работу? Нет! Наводнили все учреждения ворами, которые расхищают народное добро и щеголяют в награбленной в порту обуви и мануфактуре, носят кольца с бриллиантами, пьянствуют и раскатывают целые дни на извозчиках… Они – строители, они учители, а я, тридцать лет страдавший за счастье людей, я – контрреволюционер.
Абаш – социалист, а я – контрреволюционер! Ха, ха, ха!
Да, конечно, я контрреволюционер. Такой революции нам не надо! Будь она проклята, ваша революция!
Старик сильно разволновался и нервно заходил по камере.
– Как вы полагаете, – спросил я, – верно ли, что бессудные казни отменены?
– Не знаю, – ответил Ч-ский. – Во всяком случае, пока мы с ним, Р-лем, здесь, я вам ручаюсь, что никто из вас казнен не будет. Я здесь ваш сторож. При мне они не посмеют учинять свои зверства.
И будущее доказало истинность слов Ч-ского.
Наш караулВосстание немецких колонистов внесло много перемен в жизнь чрезвычайки. Прежде всего большая часть караула была отправлена на фронт. Всего в чрезвычайке были две смены караула. Один караул состоял почти сплошь из евреев. Так и назывался: еврейский. Большинство из них относилось к арестованным очень хорошо. А отдельные красноармейцы отличались редкой сознательностью и с явным осуждением смотрели на расстрелы. В дни дежурства еврейского караула арестованные чувствовали себя значительно свободнее. Кроме того, через этих караульных можно было безбоязненно передавать домой письма и получать через них же деньги и посылки. Другой караул известен был у нас под названием николаевского, так как состоял из николаевских рабочих. В первый же день волнений рабочих николаевцы бросили службу в чрезвычайке и ушли домой, в Николаев. Их заменили турками, отличавшимися изумительной честностью. Эти люди проявляли к арестованным в общем сочувственное отношение. Они охотно выполняли различные поручения арестованных и при этом всегда отказывались принимать в благодарность за оказанную услугу деньги.
В дни восстания колонистов у всех трех камер, выходивших в общий коридор, ставилось два часовых. И те большей частью спали всю ночь. Нередко стены нашей тюрьмы оглашались выстрелом. Это заснувший часовой нечаянно нажимал курок или ронял на пол винтовку. Я не раз обращал внимание Миронина на то, что нас вообще так слабо стерегут, что если бы арестованные пожелали, они могли бы без труда обезоружить часовых и беспрепятственно бежать из чрезвычайки.
– Это верно, – отвечал Миронин. – Мне самому часто приходила в голову подобная мысль.
– Чем же объяснить, что все эти люди с такой покорностью судьбе сидят и ждут своей смерти?
– Я объясняю это тем, – после некоторого раздумья сказал Миронин, – что все эти узники чрезвычайки в сущности ни в чем не повинные люди. Большинство из них сидит здесь неделями и совершенно искренне не может даже представить себе за что. Не чувствуя за собой никакой вины, наши интеллигенты, в силу врожденной веры в право и справедливость, неизменно надеются на то, что недоразумение выяснится, что справедливость все-таки восторжествует. Вот они и покоряются этому ужасному режиму.
Да, и в самом деле: если вся вина ваша в том, что вы – журналист, а моя в том, что я присяжный поверенный, третьего в том, что он коммерсант, четвертого в том, что он офицер, – то человеческая мысль невольно протестует против самой возможности лишения жизни человека только за то, что он занимается той или иной совершенно легальной профессией. Ведь не существует же советского декрета, повелевающего казнить всех офицеров, адвокатов, врачей, коммерсантов…
– Да, – перебил я, – а Каминер? Он расстрелян только за то, что был коммерсантом… Другого обвинения даже и не постарались изобрести против него. А Федоренко? Его убили за то, что он бывший генерал.
– Совершенно верно. Но каждому хочется уверить самого себя, что казнь таких людей – недоразумение, единичный случай, наконец, результат личной мести каких-нибудь негодяев. Наша культурная психика, привыкшая к логическому мышлению, не в состоянии постигнуть весь абсурд массового бессмысленного истребления людей под лозунгом красного террора. Вот все и надеются на что-то, на какую-то правду, которой на самом деле здесь никогда не было и не может быть.
Миронин помолчал.
– И, наконец, – продолжал он, – как ни странно, ни дико, но ужас пред чрезвычайкой, гипноз ее настолько силен, что просто подавляет наши психику, парализует нашу волю. Вообще режим, в котором мы находимся, способен совершенно потрясти психику человека, убить его волю, довести его до полного унижения и обезличения. Эта обстановка может толкнуть на подлость, на низость, на провокацию. Пример последней – Заклер.
И действительно, в этот день мы имели случай убедиться, до какого нравственного падения может довести этот проклятый режим чрезвычайки. В камере нашей сидел молодой моряк, интеллигентный человек, вполне приличный и корректный товарищ. Ночью мы услышали громкие крики в коридоре. Оказалось, что часовой, рабочий, сидевший у дверей нашей камеры, по обыкновению вздремнул и во время сна почувствовал, как кто-то тянет находившийся у него под рукой платок с хлебом и сахаром. Часовой вскочил и застиг на месте преступления упомянутого молодого моряка. Возмущенный красноармеец долго поносил трепещущего, униженно вымаливавшего прощения моряка. На другой день мы сообщили Миронину, как комиссару, о проступке моряка, которым вся камера была в высшей степени возмущена. Раздавались голоса:
– Из-за таких господ эти самые часовые нас всех будут презирать и преследовать. Его нужно примерно покарать.
– Да, это так, – заметил я, – но если об этом дойдет до сведения начальства, моряка расстреляют немедленно.
Миронин позвал преступника.
– Как же это вы, товарищ, пошли на такое низкое дело, на кражу у солдата краюхи хлеба? Ведь вам известно, что и они теперь почти что голодают.
Моряк разрыдался.
– Простите меня, товарищи! Я был голоден и сам не знаю, что на меня нашло. Эта проклятая, проклятая жизнь довела меня до такого падения.
Суд камеры решил возложить на провинившегося в виде наказания обязанность в течение целой недели нести дежурство по коридору то есть мыть коридор и уборную.
– Я на все согласен, – ответил моряк, – чтобы искупить свою вину перед вами.
Через полчаса после этого в камеру вошел вчерашний часовой, который вновь вступил на свой пост у нашей камеры. Он позвал комиссара и сказал следующее:
– Товарищ комиссар, я слыхал, что вы наказали товарища, взявшего у меня хлеб. Назначили его на неделю дежурным по коридору. Вы этого не делайте, потому что я с вас всех за это взыщу. Выпускать не буду из камеры… Одним словом, я не хочу, чтобы вы его наказывали.
– Почему же так, товарищ? – спросил Миронин.
– А потому… Я сам сидел в тюрьме, как политический. Я сам испытал эту жизнь и голод, и тюремное обращение. Как в Сибирь погнали, так проститься с матерью родной не дали даже…
Голос часового задрожал от волнения.
– Я действительно вчера вскипел, вышел из себя и набросился на него. Обидно было, что у меня, бедняка, последнюю краюху хотел отнять. А потом одумался, вспомнил, в каком вы все положении находитесь, как вас содерживают здесь, можно сказать, хуже скотины. Опять-таки вспомнил, как я сидел… и жаль мне его стало. Я ж понимаю… ведь он тоже голодный. Я ему сегодня сам полхлеба отдал… Вот как… И чтобы никто об этом не знал. Пусть так между нами и останется…
– Спасибо, товарищ, вы правы. Будет по-вашему, – раздались растроганные голоса.
Многие наперерыв жали часовому руку и благодарили его за человеческое отношение к узникам.
Новые ужасыЗа последние дни началась усиленная разгрузка чрезвычайки. Освободили около сотни человек. Явился один из членов социалистической инспекции и заявил, что на другой день будут освобождены все остальные.
– Около 200 человек освободят, остальных в тюрьму, – говорил он.
После обеда поспешно освободили Ч-ского и Р-аля. Затем мы вдруг узнали, что нашего Р-цкого Гадис посадил в одиночку, придравшись к тому, что он зря болтается по двору. Под вечер во дворе несколько раз появлялись знакомые нам «менялы». Приходил Абаш, изрядно выпивший. Навестил нас и Володька в своих красных штанах. Он также был пьян и кричал на арестованных во дворе. Нас рано загнали в камеры. Еврейский караул сменили турками. Все это являлось признаками весьма тревожными, но мы были настолько успокоены тем, что, с одной стороны, уже около трех недель не было ни одного расстрела, а с другой – утренним заверением члена социалистической инспекции, что не придавали всем этим печальным предзнаменованиям особого значения.
Еще засветло явился в наш коридор Гадис со своей обычной свитой: Володькой, Абашем и красноармейцем в барашковой шапке. Все были совершенно пьяны. Из двух соседних камер вызвали восемь человек. Среди них Крупенского[101]101
Крупенский Семен Михайлович, р. 1887. Окончил Александровский лицей 1904. Полковник л. – гв. Конного полка, адъютант командующего войсками Одесского военного округа. Расстрелян большевиками 29 июля 1919 в Одессе.
[Закрыть] и молодого Федоренко.
Проходя мимо нашей камеры, Крупенский тихо спросил Миронина:
– Что бы это значило? Куда нас ведут?
– Я думаю, что на допрос, – ответил Миронин. – Ведь еще рано. Вчера привели нескольких человек от следователя около 10 часов вечера.
– Нет, – тихо сказал Крупенский, – я чувствую, что иду умирать… К тому же вы видите, они все пьяны.
Я помню с поразительной точностью, как их вывели во двор и начали обыскивать. Крупенский, бледный, обросший бородой, медленно протер пенсне и, обернувши голову, посмотрел наверх, на окна своей камеры, к решеткам которой припали его соузники. Кто-то из часовых резко окрикнул его, приказав не оборачиваться. Молодой Федоренко молча ломал руки. Раздалась команда – и их повели к воротам.
Стану ли я описывать подробности этой кошмарной ночи? Она была ужаснее всех предыдущих, во время которых происходили казни. Ввиду недостаточности караула палачи пять раз являлись за новыми партиями. У нас забрали старичка Пиотровского. Его вызвали как раз в ту минуту, когда он, по обыкновению, творил усердную молитву в своем углу у окна. Из одиночки вывели Р-цкого. Он был уверен до последней минуты, что его освободят. Но бедного юношу казнили за то, что у него «длинный язык», и казнили те люди, которые, воспользовавшись его наивностью, сами послали его к жене Зусовича с целью извлечь деньги за освобождение ее мужа. Из разговора с некоторыми причастными к чрезвычайке лицами Миронин узнал, что Зусович действительно был жив в тот момент, когда к семье его посылали для переговоров Р-цкого. Когда же история эта раскрылась, Зусовича будто бы тайно расстреляли. Насколько правильна эта версия, я не берусь судить. Р-цкого же решили убить как опасного свидетеля.
В эту страшную ночь во время одного из посещений нашей камеры палачами произошел инцидент, который ярко рисует тот произвол и случайности, жертвой которых могла стать в чрезвычайке человеческая жизнь. Гадис, рассевшись в нашей камере со списком в руках, начал вызывать имевшиеся в нем фамилии. Легко можно себе представить, что переживал в эти несколько минут каждый из нас. Одна фамилия оказалась написанной очень неразборчиво.
– Лап… Лап… Лапин, – прочитал Гадис.
М. И.Лапин, казачий офицер, помещался в одном отделении со мной. Услыхав свою фамилию, он приподнялся и почему-то оглянулся на нашего комиссара Миронина.
Миронин нагнулся над листком и стал разбирать написанное.
– Здесь, товарищ Гадис, – дрогнувшим голосом заявил Миронин, – написано не Лапин, а, кажется, Лапуненко…
– Ну вам-то какое дело, Лапин или Лапуненко! Чего суете свой нос! – закричал на него палач в барашковой шапке.
– Дело в том, товарищ Гадис, – продолжал Миронин, – что Лапуненко, обвиняемый в налете, действительно имеется в верхней камере. А товарища Лапина еще даже следователь не допрашивал.
– Ага, – пробормотал Гадис. – Хорошо, пойдем искать Лапуненко.
Лапуненко действительно нашли в верхней камере. А Лапин был на следующий день освобожден. После того как палачи унесли вещи казненных, узники вздохнули свободнее, но до утра почти никто не спал. Я помню, как молодой художник Кислейко сел на нары и начал есть помидоры. Лежавший недалеко от меня Луневский возмутился.
– Как ты можешь в такие минуты есть! – воскликнул Луневский. – Ты совсем бесчувственный.
Кислейко расхохотался каким-то странным нервным смехом.
– Отчего же мне не съесть помидорку, последнюю, может быть, – ответил Кислейко.
– Что ты, Сережа, глупости говоришь! – сказал Луневский. – К чему бравировать?
– Дик, завтра меня расстреляют.
– Пустяки… За что? Этого не может быть.
– Ну, а если я собственными глазами видел свою фамилию в списке Гадиса, что ты на это скажешь?
– Тебе это показалось… Ведь видишь, размены уже кончились, а тебя не забрали.
– Бросим, Дик, говорить об этом. До завтра. Я хочу поспать… в последний раз.
Кислейко лег и отвернулся к стенке.
– Неужели нас с Сережей разменяют? – простонал Луневский. – Неужели? За что?
Засыпая, я вспомнил слова Ч-вского. Мне стало ясно, почему его так поспешно освободили в этот день.
Последние дниНа другой день утром Миронина вызвали из камеры для перевода в тюрьму. Ему объявили, что после обеда его увезут. Адъютант коменданта Е. сказал ему:
– Ваше счастье, что вас переводят… Раз переводят, значит, вы спасены.
– А остальные? – спросил Миронин.
Адъютант махнул рукой.
– Лучше не спрашивайте.
В это время Миронин заметил в окне своего знакомого следователя. Тот закивал ему головой и попросил подойти к окну канцелярии.
– Вас переводят в тюрьму, я слыхал, – сказал следователь. – Я рад за вас… Вы пережили тяжелую ночь, но это ничего в сравнении с тем, что будет сегодня.
– Как?.. – взволнованно спросил Миронин. – Аостальных двести человек, остающихся здесь, что ожидает?
– Они все – обреченные. Может быть, процентов 10 освободят… – медленно проговорил следователь.
Миронин начал называть фамилии лиц, сидевших в нашей камере.
– А Кислейко, а Колесников, а Луневский?
– Колесников и Кислейко приговорены…
– Но помилуйте, за что?
– Не спрашивайте меня об этом деле. Оно – настоящий кошмар!..
Миронин заволновался.
– Я отлично знаю всю подоплеку этого дела. В гибели Колесникова заинтересованы бандиты. Это их работа. Они имеют здесь своих агентов даже в президиумах… Неужели нельзя предотвратить гибель двух молодых людей, против которых нет решительно никаких улик? Это же чудовищно.
Следователь перебил его.
– Молчите! Здесь и у стен есть уши, – и добавил шепотом: – Если находите это нужным, предупредите их… Прощайте. Может быть, больше не увидимся…
Теперь пришла очередь Миронина утешать меня. Но он был сам не свой.
– Что делать, что делать… – ломал он руки. – Неужели все эти полные жизни люди, эти милые, ставшие мне такими близкими лица через несколько часов превратятся в изуродованные трупы?
Миронин снова подбежал к окну и начал спрашивать следователя про ожидающую меня участь. Отойдя от него, он с чувством пожал мои руки.
– Он говорит, что вам ничего не грозит. Насколько он знает, вы в списках смертников не значитесь! Пойдем наверх, предупредим несчастных.
Мы взбежали по лестнице и вошли в нашу камеру. Навстречу Миронину бросился Луневский.
– Скажите мне правду, дорогой друг наш, вы ведь долго говорили со следователем… Скажите, меня казнят?
– Нет, нет, – проговорил Миронин.
– А Сережу Кислейко?
Миронин хотел что-то ответить, но голос его оборвался, и он зарыдал.
– Сережа… бедный Сережа!
И Луневский затрясся в истерическом припадке. Кислейко стоял тут же. Он слышал весь этот разговор. Неподвижное спокойное лицо его не дрогнуло, только губы стали совершенно белыми. Он подошел к Луневскому.
– Дик, не будь бабой!.. Я бывший офицер и сумею умереть…
В это время во двор вступил грузинский караул. В камеру вошел адъютант и стал вызывать фамилии.
– Кислейко! – прочитал он.
Луневский застонал, вцепившись в руки друга.
– Дик, будь мужчиной… Вот портрет моей невесты… Я не хочу, чтобы он попал в руки этих мерзавцев… Возьми его и передай ей, когда будешь свободен.
Он протянул Луневскому маленькую медальонную фотографию – изображение молодой женщины.
– Прощай, Дик, навсегда, прощайте все!..
Кислейко оторвался от груди рыдавшего Луневского и расцеловался с нами.
– Живее, Кислейко! – крикнул адъютант.
Его вывели во двор. Там, окруженные красноармейцами, стояли человек восемь осужденных. Среди них я заметил присяжного поверенного Шрайдера, человека редко благородной души… За что, во имя чего должны погибнуть эти прекрасные жизни?
Мое прощание с Мирониным было трогательно и продолжительно.
– Я чувствую, что мы с вами увидимся, родной мой, – говорил он. – Крепитесь, я убежден, что сегодня день последнего издыхания наших палачей… Это их последнее кровавое «прости».
Миронин ошибся… Еще долгих две недели продолжались страдания узников чрезвычайки. В ту же ночь казнили несколько десятков человек. Некоторых, в том числе и меня, освободили в течение ближайших дней. Хотя, как я узнал впоследствии, я был включен в список смертников.
Мне потом рассказывали, что перед приходом добровольцев несколько человек были освобождены под «нравственную ответственность». Ночью к каждому из них явилось по одному сотруднику чрезвычайки с просьбой приютить и скрыть в силу данного слова. И все исполнили этот долг благодарности. Луневского расстреляли в ночь падения советской власти.








