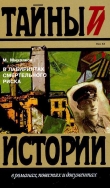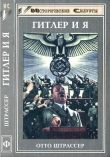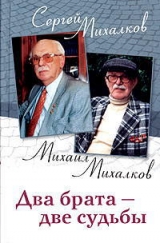
Текст книги "Два брата - две судьбы"
Автор книги: Сергей Михалков
Соавторы: Михаил Михалков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Было и такое:
«Как-то я спустился вниз, на первый этаж. Вижу, пожилая немка в белом накрахмаленном халате убирает коридор, подметает пол. Около палатных дверей, где я стоял, образовалась куча мусора. Я обратил внимание на клочки газет и вдруг, на одном из них, к своему удивлению, прочитал: „Стихи С. Маршака и К. Чуковского“. Я поднял с пола кусок газеты и незаметно для окружающих прочитал два стихотворения. Это была власовская антисоветская газета на русском языке, и вымели ее, очевидно, из палаты власовцев.
С детства я хорошо знал и любил стихи Маршака и Чуковского. Знал их стиль, творческий почерк, их поэтическое лицо и поэтому сразу безошибочно определил, что это фальшивка. Люди, работавшие у немцев в печатных органах, чьи-то бездарные стихи подписывали фамилиями известных советских писателей для того, чтобы порадовать власовцев, мол, и Маршак, и Чуковский давно уже перешли на немецкую сторону и сотрудничают в их прессе. Дешевый трюк!»
И все-таки – Лефортовская тюрьма? Нет, не сразу. Было еще и это:
«…Наконец-то личность моя установлена – пришли документы из Москвы. Следователь стал мягче, уже не стучит рукояткой пистолета по столу, дает закурить. Из ямы меня перевели в сарай, стало чуть теплее.
И вот меня снова вызывает начальник Смерша 8-й гвардейской армии генерал Витков Григорий Иванович. Вхожу в его кабинет. Наручники и кандалы сняты. Конвой остался за дверью. Генерал сидит за небольшим письменным столом справа от входа. Он невысокий, крепкий, круглолицый.
За его спиной большая карта Европы. На столе ваза с фруктами, генерал курит „Казбек“. Напротив меня – длинный стол под зеленым сукном. За столом сидят шесть полковников – все в орденах и медалях. Стою по стойке „смирно“.
– Вот вы вчера рассказывали, что присвоили себе кличку Сыч, – обращается ко мне генерал. Глаза его смотрят на меня спокойно и, как мне кажется, дружелюбно. – Так вот, – продолжает он, – расскажите нам все, что связано с этим именем, с этой кличкой. Когда вы себе ее присвоили? Зачем? Для какой цели? Словом, все по порядку, и как можно подробнее.
Я стал рассказывать и говорил долго и подробно. Все, что я говорил, быстро печатал на пишущей машинке секретарь – мужчина, одетый во все кожаное.
Сведения, накопленные в памяти и зашифрованные в записной книжке, данные о гитлеровской армии, которые по крупицам собирались мною за долгие годы пребывания во вражеском тылу, – сейчас все взято на учет. Моя работа как агитатора-пропагандиста, распространение среди населения советских листовок и сводок Совинформбюро, участие в создании партизанских групп. Рассказал о зверствах фашистов на оккупированной территории, о расстрелах. Привел много фактов, цифровых данных. Рассказал о побегах из фашистских лагерей, о том, как использовал знание немецкого языка… Воспользовавшись небольшой паузой, один из полковников встал:
– Товарищ генерал, разрешите закурить!
– Успеете. Слушайте лучше. Полковник сел.
Я рассказывал о фашистских танковых дивизиях СС „Великая Германия“ и „Мертвая голова“, о Швейцарии, Турции, о патриотической борьбе советских людей в Днепропетровске, Днепродзержинске, на территории Румынии, Латвии…
– Ясно, – сказал генерал. – Так вот, – обратился он к одному из полковников, назвав его по фамилии. – Это и есть тот человек, кличка которого зарегистрирована у нас как кличка неизвестного разведчика-партизана. Примите к сведению. – И тут же обернулся ко мне: – А вы не хотели бы поработать у нас переводчиком?
– Служу Советскому Союзу!
И с этого дня я помогаю как переводчик двум полковникам допрашивать крупных немецких чинов, гражданских и военных. Работа идет напряженная, многочасовая. Нахожусь в подчинении начальника следственного отдела капитана Халифа Михаила Харитоновича».
И все-таки – Лефортово? Мои домашние, тихо переговариваясь, собирали для Миши посылку с продуктами… Я же складывал одно к другому письма людей, которые знали моего брата Мишу там, где он действовал, в тылу врага. Я считал эти свидетельства живых людей самыми важными документами; разумеется, о том, в чем обвиняли моего брата, уже знал, допытался… Но нисколько не верил в справедливость выдвинутых против него обвинений. Миша был увлекающийся, так сказать, рисковый человек в самом хорошем смысле этого слова. И одновременно и прежде всего – он любил Отечество, Родину, как и все мы, Михалковы. И когда я в военной прокуратуре услыхал эту формулировку – «измена Родине», – не поверил, нет, нисколько. Уж что-что…
Да… жизнь каждого из нас устроена так сложно, с такими непредсказуемыми поворотами судьбы, столько в ней боли, хотя с виду, с фасада – одни вроде зеркала и фейерверки…
Уверенный в своей правоте, знающий, как легко подчас беззаконию рядиться в белые одежды правды, я пошел на прием к заместителю министра внутренних дел генералу Чернышеву. Со своим письмом и с письмами тех, кто писал о младшем брате в военные годы в мой адрес.
Меня встретил неторопливый, уравновешенный человек… Он сказал:
– Что я могу сделать? Даже если вы и правы… Ваш брат в руках Смерша… Я же к этой организации не имею никакого отношения.
Я было приуныл. Но генерал добавил:
– Обещаю вам одно: проверить данные, которые касаются его партизанского прошлого на территории Латвии.
Через некоторое время меня пригласили к Чернышеву, и я услыхал:
– Подтвердилось: ваш брат действительно организовал в Латвии партизанскую группу, которая действовала в тылу у немцев. Теперь я советую вам поговорить с Берия…
Проснулся в то утро под первые аккорды гимна, приободрился и спустя время набрал номер, который помню и доныне. Голос секретаря:
– Сейчас соединю…
– Товарищ Лаврентий Павлович…
Излагаю суть дела. Ответ короток. В голосе с грузинским акцентом – властность и категоричность:
– Ваш брат – плохой человек. Но если вы сомневаетесь… ладно, я пришлю полковника, чтобы он все перепроверил…
Могу, конечно, написать, что я испытал, дожидаясь… Но не стану. Многим и многим пришлось в то время куда как тяжелей и безысходней…
Наконец меня вызвали телефонным звонком все туда же, к генералу Чернышеву. Там, в кабинете, находился и тот самый полковник из Смерша. Он спросил меня едва ли не с ходу:
– Почему ваш брат сразу не застрелился?
Для незнающих поясню: сдаваться в плен советский воин не имел права, в крайнем случае он должен был кончить жизнь самоубийством… Я ответил:
– Он не сдавался в плен, если опираться на свидетельства очевидцев. Он попал в плен вместе с тысячами других солдат и офицеров, которые оказались в безвыходном положении. И не собирался засиживаться в плену – бежал из калининградского концлагеря. Подтверждение – в письмах.
– Настоящие патриоты стреляются! – сухо отозвался полковник… То есть получалось – брат твой – враг твой, ибо не настоящий патриот… Впрочем, если ты горой стоишь за своего брата-непатриота, то, выходит, сам-то ты кто?
– Однако если пишут совсем незнакомые люди и рассказывают, как мой брат партизанил и как он под видом немца добывал важные разведданные… – не отступал я.
– Это все еще надо доказать! – был ответ. – Проверить-перепроверить! Займемся!
Разговор, что называется, не получился… Михаилу «влепили» пять лет. Из них целых три года он отсидел в одиночке, в лефортовской камере.
Чего же от него требовали? Подписать предъявленные обвинения в измене Родине. Таскали на допросы, пытались поймать, запутать… и опять: «Подпиши!»
– Нет! Не подпишу!
– Ах, так! Иди в одиночку! Вызову через год! Шел, куда сказали. Через год:
– Подпишешь?
– Что Родину не люблю и предал ее?
– Да.
– Не подпишу!
Он другое писал в той одиночке, в своей голове:
Может быть, не следует,
Может быть, не надо бы
Вспоминать смоленские
Каменные надолбы.
Только эти надолбы,
Из земли торчащие,
Были как заступники,
В дым войны смотрящие.
Только эти надолбы
Грудью твердокаменной
Защищали Родину
От брони и пламени
И почти два месяца
Сдерживали ворога…
За Смоленск захватчики
Заплатили дорого!
Я сдался не сразу, нет, пошел «в бой» за Мишу к председателю Военной коллегии генералу Чепцову:
– За что ему дали пять лет? Он же не совершил никаких преступлений против Родины!
Ответ:
– Он надевал на себя форму офицера СС. Он не должен был этого делать.
Идиоты! Но я опять пытался убеждать:
– Так ведь он убил этого офицера! И эта форма служила ему камуфляжем! Он же руководил партизанской группой!
– Сергей Владимирович, – мягко, сердечно так, по-отечески произнес генерал. – Ему дали не «целых» пять лет, а «только» пять лет. В наше время это не срок, дорогой поэт, в наше время за измену Родине дают двадцать – двадцать пять лет, а то… и высшую меру.
Слава богу, после Лефортова Михаила отправили не в края не столь отдаленные, а в лагерь под Рязанью.
Не скрою, мой приезд в этот лагерь – с орденами Ленина, Красной Звезды, со значками лауреата Сталинской премии на пиджаке… со славой одного из авторов гимна – произвел определенное впечатление на лагерное начальство.
Я не узнал Мишу в первое мгновение… Он был в такой заношенной робе… Он так глядел на меня… Мы крепко обнялись и поцеловались… И остались одни, и он долго-долго рассказывал мне, как и что произошло с ним за многие-многие месяцы войны. А я смотрел на его голые руки, торчащие из коротких рукавов, на впалые, давно не бритые щеки, на разбитые ботинки… А он меня утешал:
– Я-то еще что! Здесь у многих даже ботинок нет, кто в чем, иногда и босые… по замерзшей земле… А чтобы хоть как-то спастись от голода – выкапываем из-под снега картошку… мелкая, промерзшая… но есть можно…
И после лагеря брату моему не разрешили вернуться в Москву. Он стал жить в Рязани, снимал комнату. Я навещал его, помогал… Потом, уже после смерти Сталина, Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрит дела осужденных и «за отсутствием состава преступления» снимет с Михаила все обвинения. Более того, он будет награжден орденом Славы.
13 июня 1968 года ему придет такое письмо от Елизаветы Голуб со станции Долинская:
«…Ушли Вы тогда провожать немца. Родные легли спать, я с опаской жду Вашего возвращения, читаю книгу… Вы вернулись и встали у меня за спиной. Боже! Что делать? Немец ведь, от него всего можно ожидать. Ночь. Все спят „Почему вы считаете, что в Германии текстильная промышленность хуже развита, чем в Советском Союзе?“ – вдруг произнесли Вы по-русски, и я вспомнила какие-то слова насчет текстильной промышленности, когда ругалась с отчимом. Мысли несутся вихрем. Он все знает… Все понимает… Станет известно, что я сбежала из вагона, когда меня увозили в Германию, что ровно год живу в Долинской без учета на бирже труда. Станет известно, что вторично вырвалась из немецких когтей, обманув врачей на медкомиссии… Смотрю в книгу, а буквы сливаются, боюсь поднять голову. Но, собрав всю волю, ответила вопросом на вопрос:
„Кто вы? Откуда вы знаете русский язык? Где учили его?“ – „Угадайте“.
И в этом русском слове, произнесенном Вами, мне вдруг почудилось что-то веселое, задорное, детское… Какая это удивительная была ночь! Мы разговорились. Долго беседовали. Вы вспоминали школьные годы, братьев, маму. Помнится, говорили, что в детстве жили в Пятигорске. Болел отец. Вам приходилось носить ему из аптеки кислородные подушки. Говорили о немецком языке. „Язык врага надо знать – это наше оружие!“ Когда я уходила спать, то оставила на столе безобидную записку, надеясь, что заметите ее утром. Но утром Вас в доме уже не было, а я с чердака в щель все смотрела: „Может, уже уехали…“ Днем, видимо разыскивая меня, Вы по лестнице забрались на чердак и уселись рядом.
„Прочли мою записку?“ – „Да“. – „Так кто же вы? Знаю, что москвич, а дальше?“ – „Я скоро должен ехать. Соберите всех к столу. Я должен вам кое-что рассказать“. Это звучало как приказ. И мы спустились вниз. „Славка! – сказала я братишке, что прятался на чердаке. – Ты слышал, что он сказал? Что будем делать?“ – „Надо всех созвать“.
Мы вытащили из ямы Якова Фомича (он потом погиб под Яссами). Вся семья собралась за столом, и Вы сидели рядом со всеми. Вы говорили, что немцы повсюду отступают, советовали, как нам быть, в нашей тесной хате Вы провозгласили тосты за освобождение, за победу, за счастливое возвращение наших войск… В это время с улицы донесся сигнал машины.
„Это за мной, – сказали Вы. – Верьте в нашу победу!“ – были Ваши последние слова.
Опомнившись, я посмотрела в окно. Вы на ходу цеплялись за грузовую машину. Рыжий немец, смеясь, втаскивал Вас за руки в кузов. Машина повернула за угол и увезла Вас навсегда…
Теперь я буду знать, что Николай Соколов – это тот самый „немец“, которого мало знала, но которому поверила…
Посылаю Вам свою фотокарточку, так как у меня другой нет, посылаю старую. На этом фото только семь лет отделяют меня от встречи с Вами.
Оставайтесь живы, здоровы. Желаю Вам больших успехов в труде и личной жизни.
С уважениемЕлизавета Голуб».
Девушкой юной была Елизавета. А моему брату Михаилу еще не исполнилось и двадцати… И он столько уже знал про войну. И столько еще ему предстояло узнать и про войну и про жизнь…
После камеры Лефортовской тюрьмы и лагеря Михаил вышел не униженным, потухшим, угрюмым… Он быстро нашел себе дело, много работал, писал стихи… И юношеская его общительность осталась с ним, и многие, многие годы никто из тех, кто знал его послевоенного и видел его улыбчивые глаза, не мог и предположить, что ему довелось вытерпеть, выдержать. И сохранить благорасположение к людям… И «оставить на память потомкам» собственный расстрел – на память и, думаю, в назидание, чтобы знали – биться за жизнь стоит до последнего. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не терять надежды.
В своей книге брат вспоминает:
«– Сынок, а сынок! – снова слышу над самым ухом.
Прихожу в себя. Ничего не пойму. Где я?
Слышу голос старика:
– Заболел ты, горячка у тебя. Второй день бредишь. Все плывет перед глазами. „Вот и смерть пришла…“ И мерещится смерть с косой, костлявая, в белом балахоне, что-то мне шепчет и улыбается… Голова чугунная.
Жарко, нечем дышать.
– А ну, скинь рубашку, – говорит старик. – Э, браток, так у тебя тиф. Все тело в сыпи. Здесь врач был из военнопленных, он тебе таблетки в рот совал… Найти бы его…
Я сползаю с нар, пытаюсь выйти на воздух.
– Погоди! – Старик сует мне в руку грязный узелок. – Деньги твои, – шепчет он, – сберег, а то пропали бы.
Я с трудом вспоминаю, откуда у меня эти деньги… Шатаясь, иду по коридору. И вдруг роняю узелок, и деньги рассыпаются. Какой-то плешивый заключенный в обмотках мгновенно присел на пол и сгреб бумажки раньше, чем я успел опомниться.
– Отдай! – кричу. – Не твои!
– И не твои! – зло огрызается он и бьет меня по лицу кулаком.
Я падаю, поднимаюсь. Из носа хлещет кровь. Вытираю рукавом, выхожу во двор. Пощупал карман, в нем еще пачка. „Тысячи три будет“, – подумал и пошел к тюремному „базару“. Заключенные, попавшие в рабочие бригады, приносят в зону продукты, продают их втридорога.
Пробираюсь среди сидящих на земле. Слышу крик, оборачиваюсь – матрос. Он подходит ко мне.
– На твои деньги! – И он возвращает мне пачку денег, отнятую у плешивого. – Я его, гада, поймал – и за яблочко. – Он делает выразительный жест рукой.
– Задушил?
– Придавил. Может, и задушил, – брезгливо говорит матрос. – Подлюга! Мразь болотная! – И он смачно сплевывает себе под ноги.
К нам приближается мужчина с бородкой и в пенсне (очень похож на Антона Павловича Чехова) – это бывший военврач 1-го ранга. Я лично его не знаю, а он меня узнает, протягивает порошки:
– Вот лекарство. Примите-ка, голубчик, и оставьте на вечер.
– Что это?
– Хина.
– От малярии, что ли?
– Глотайте. Не бойтесь, не отравлю.
Я глотаю порошок.
– Если бы не эти порошки, – говорит врач, – вас давно бы свезли в ров, молодой человек… А вам, полагаю, следует еще пожить… – Он уходит. Матрос тоже куда-то исчез. Все плывет у меня перед глазами, едва держусь на ногах, но покупаю за сто рублей луковицу, за двести – пять картофелин, за пятьсот беру напрокат котелок, за триста – две щепотки махорки. Отдаю двести рублей за щепотку сухого листа (листья с деревьев здесь тоже курят), сто рублей за полкотелка воды, немного дров и два сухаря приобретаю за триста рублей. Пришлось купить и спички. Подошел к яме с нечистотами, в ней несколько трупов. Мертвый с тремя шпалами по-прежнему лежит здесь. Пистолета не видно.
Выбираю место – здесь найти свободный клочок еще можно. Сажусь, хочу развести костер. Владелец котелка присаживается рядом, помогает. Сотни жадных, голодных глаз впиваются в меня. Я отдаю кому-то щепотку листьев. Делюсь сухарем с владельцем котелка, и он за это возвращает мне деньги. Свертываю „козью ножку“. Люди нагибаются надо мной, чтобы хоть подышать махорочным дымом. Сырые дрова тлеют и дымят. Подкупаю еще дров. Но вода так и не закипела. Пришлось съесть сырую картошку и запить ее некипяченой водой.
„Обед“ окончен. Надо искать немцев-барахольщиков. Они тут как тут. Подхожу. Кое-как, жестами и отдельными немецкими словами, объясняю, что мне надо.
Наконец один из них понимает меня.
– А-а, – тянет он, улыбаясь, – хочешь Freiheit?.. Wo ist das Geld? [8]8
Хочешь свободы? Где деньги? (нем.)
[Закрыть]– Вот!
Немец пересчитывает, говорит:
– Мальо, мальо!
Я пожимаю плечами:
– Больше нет.
– А, es genug! – машет он рукой. – Komm! [9]9
А, достаточно! Идем! (нем.)
[Закрыть] – И вдвоем повели меня в неизвестном направлении.Под их конвоем оказываюсь за пределами тюрьмы. Ноги не слушаются. В голове шум, мутит.
– Болен?
– Да.
– Некорошо, некорошо, – сочувственно произносит худой немец, спрятавший в карман мои деньги, и добавляет: – Бу-дэж ла-за-рэт!
И вот конец пути. Передо мной открывается дверь барака, до отказа набитого людьми. Женщины, старики, дети стоят, прижавшись вплотную друг к другу. Меня тычком впихивают в этот ад, и дверь с внешней стороны защелкивается на задвижку.
– Что это? Кто здесь?
– Евреи из Кировограда, – доносится сдавленный старческий голос.
В те кровавые дни 1941 года немцы в Кировограде и его окрестностях собирали и расстреливали еврейское население.
Так я очутился в лагерном „лазарете“. Ничего не скажешь, немцы-„барахольщики“ хорошо „пристроили“ меня…
Наутро следующего дня к сараю подкатила французская грузовая машина, с брезентовым верхом и отброшенным бортом. Ворота сарая распахнулись.
– Лос! – гаркнул фашист.
Я попадаю в первую машину, вместе с детьми, женщинами и стариками. Нас привозят ко рву.
Выгружаемся. И вот я стою около рва, длинного, широкого, сплошь заваленного трупами. Машины все прибывают. Справа и слева – танкетки с жерлами спаренных пулеметов. Рядом с ними – рота карателей, у каждого убийцы фашистская свастика на рукаве – это молодчики из зондеркоманд, гестаповцы, сотрудники службы безопасности…
Каратели не курят, стоят молча с автоматами наперевес. Расстояние от одной танкетки до другой – метров сто. Мы – в середине. Машины все прибывают. Обреченных уже человек восемьсот.
Как только прозвучала команда: „Feuer!“ [10]10
Огонь! (нем.)
[Закрыть] – мои ноги подкосились, и я в полуобморочном состоянии упал почти на самый край обрыва. Крики, стоны, ругань, молитвы, душераздирающие вопли, стрельба из крупнокалиберных пулеметов, автоматные очереди – все слилось в один истошный смертельный вопль… На меня упало несколько трупов. После первой „свинцовой обработки“ началась вторая. Сначала по груде простреленных тел двинулась рота карателей: они добивали живых. Потом с противоположной стороны двинулась новая волна убийц… И наступила тишина. Только изредка доносились приглушенные стоны и отдельные пистолетные выстрелы.Меня спасло чудо. При первой „свинцовой обработке“ вся толща тел не была пробита, а при второй – не было разгона пулям, в первой же жертве они застревали. Это и спасло мне жизнь. Меня даже не ранило.
Зазвучали команды, и каратели стали растаскивать трупы и бросать в ров. Очередь дошла до меня. Замираю, не дышу. Тащат за ноги, лицом по траве… Лечу вниз… Меня заваливают трупами, дышать становится все тяжелее, груз все прибавляется, сплющиваются ребра, легкие…
Шевелиться было крайне трудно, руки то упирались в чьи-то головы, то ощущали чью-то еще теплую липкую кровь.
Я был жив, один среди тысяч мертвых. И когда я понял это, то напряг последние силы, подпер руками грудь и попытался пролезть между мертвыми телами к краю обрыва – к земле, единственному, что здесь было живым, кроме меня. Но сил не хватало, и я потерял сознание…
Очнулся глубокой ночью. Сначала не мог понять: где я, что со мной. Потом ожила память, и первой мыслью было – поскорее выбраться наверх, наружу. Я не мог шевельнуть ни одним суставом. Но неистребимая жажда жизни все же заставила меня карабкаться навстречу спасительному воздуху.
Земля, моя живая, влажная, теплая мать-земля, была, наконец, под ладонями! С какой надеждой хватался я за цепкие корни кустарника, протискиваясь между мертвыми телами. И вот первый целебный глоток кислорода… В голове зашумело, загудело, кровь застучала в висках…
Я сел на краю обрыва, ноги были чужие, будто ватные. Передо мной зиял кировоградский ров смерти, прикрытый пеленой ночного тумана. Кружился снег…
Еле пришел в себя, отдышался. Луна озарила страшное зрелище… Вдали я заметил тень человека, видимо такого же „счастливца“, как и я…
Быстро перебираюсь на противоположную сторону рва, хочу бежать, но не могу, падаю и ползу неведомо куда, как затравленный зверь, спасающийся от преследования…»
Любой человек – загадка для другого. Вроде бы я все-все знаю про Михаила, но сейчас бывает, что гляжу на него с удивлением: «Как же, как ты через все это прошел? Я же помню тебя веселым мальчишкой, безобидным, смешливым юношей, который любил приласкаться к маме…» И любил стихи, те, «жалостливые», некрасовские, которые все мы, семьей, любили и почитали:
Поздняя осень.
Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она…
А тут такое:
«Шел всю ночь. Мела метель.
Наконец решил, что пора расстаться с капитанскими сапогами, которые могут меня выдать. Сел в снег и стянул с ноги сапог. Аккуратно отрезал охотничьим ножом голенище по щиколотку. Это же проделал со вторым сапогом и, обувшись в импровизированные полуботинки, зарыл в снег пару голенищ. Потом я решил отделаться еще кое от чего, принадлежащего капитану Мюллеру, разорвал на клочки письма медсестер из польницкого госпиталя и развеял их по ветру.
В темноте вышел на проезжую дорогу. Здесь было идти значительно легче. Вдруг впереди увидел тень верхового. Мы поравнялись. Не дожидаясь вопросов, выхватил „Вальтер“ и разрядил его в полицейского. Тот, так и не сказав ни слова, рухнул с коня. Я опрометью бросился наутек и побежал снова по целине прочь от дороги, все дальше и дальше, пока совсем не задохнулся и не упал в снежную яму…
Через несколько часов, на рассвете, в маленьком немецком городишке я уже нанимался работать к мяснику, внешность которого полностью оправдывала его профессию. Это был тучный тип, краснощекий, с тройным подбородком, не дававшим ему возможности глядеть под ноги, а его крошечные, заплывшие глазки напоминали мне глаза австралийского попугая.
Поистине судьба бросила меня сюда, в это чудовищное заведение, специально, чтобы дать возможность переоценить ценности. Каждое утро в ворота бойни вводились одна за другой коровы. На ноги им надевались обручи с цепями, на рога – металлические наконечники с проводами, подключенными к току высокого напряжения. Секунда, и корова валилась мертвой. Тут же лебедка поднимала коровью тушу, переворачивала на цепях вверх копытами, восемь рабочих свежевали ее, спускали кровь, разделывали тушу на части, подвешивали части на крюки, гнали конвейером в другие цеха. Кровь сливалась в жбаны на кровяную колбасу, шкуры тут же отправлялись на кожевенные предприятия, кости, копыта, рога – все сортировалось. Ничего не пропадало, все до мелочи подсчитывалось, из всего извлекалась польза. И так корова за коровой…
Меня поставили к машине – мясорубке. Она была выше моего роста, и я должен был с неимоверными усилиями, упираясь в ручку обеими руками, вертеть колесо. Фарш тут же поступал в мешалку с солью и специями, а потом шел к трубке, соединяющейся с еще теплыми, промытыми кишками. Получалась колбаса, которую время от времени рабочий перевязывал шнуром и подвешивал на крюки.
Вертеть эту адскую машину было невероятно трудно. Все работали молча, и только слышались команды:
– Гони кишки!
– Ящик для костей!
– Еще ведро для крови!
– Ток!
– Свежевать!
– Вагонетку для шкур!
На рабочих (в основном эвакуированных из разных мест) были негнущиеся фартуки из клеенки (свою одежду они оставляли в специальных шкафах при входе). Руки за день так уставали, что к вечеру пальцы едва сгибались. За работу полагалось всего три марки в день, мясной обед и одна сигара. Ночлега хозяин не предоставлял, и потому мне пришлось с большим трудом снять угол в переполненной гостинице.
С неделю меня никто не беспокоил. На восьмой день хозяйка гостиницы попросила меня сдать в полицию документы. Я отговорился тем, что мои документы на работе, хотя в действительности их вообще у меня не было. И даже офицерское удостоверение вместе с „Вальтером“ я спрятал на чердаке полуразрушенного дома. Импровизированные полуботинки с отрезанными голенищами я выменял на базаре на старые эстонские унты, приплатив хорошие деньги. Собственно, единственным где козырем, где минусом мог служить у меня только „Браунинг“.
– Непременно захватите свои документы сегодня же, – беспокоилась хозяйка гостиницы. – Вечером я обязана сдать их в полицию для регистрации.
Я кивнул в знак согласия и вышел из ее приюта, зная, что больше сюда не вернусь.
Решив послать к чертям собачьим и мясорубку, и жирного мясника, я тут же из гостиницы отправился на вокзал и уехал, но теперь уже на восток, навстречу фронту. В ту же ночь я был снят с поезда, как не имеющий документов.
…Двор был обнесен десятиметровой кирпичной стеной. Земля залита цементом, и по нему белыми линиями обозначены три трека. Посредине двора – круглая железная клетка с вертящимся сиденьем на высоком постаменте. Здесь сидит фашист-автоматчик в черных очках и в каске. Он медленно вращается на сиденье, наводя автомат на три ряда заключенных, прогуливающихся по тюремным трекам. Два крайних ряда идут в одном направлении, средний – им навстречу. В среднем ряду политзаключенные – в кандалах и наручниках, соединенные цепями. Они идут друг за другом, и цепи монотонно звенят: „дрень, дрень, дрень…“ Я, сам не знаю почему, принялся искать среди политзаключенных Эрнста Тельмана. Мне казалось, что он именно здесь и я его вот-вот увижу. Всматриваюсь в хмурые, суровые лица заключенных и никак не могу отыскать знакомое по фотографии лицо.
Каска автоматчика, сидящего в клетке, тускло поблескивает под лучом зимнего солнца, сверкают черные зловещие очки, кружится ствол автомата, семь минут узники в полосатой одежде ходят по кругу. С кирпичной степы, сверху, глядят на них два пулеметных ствола. В холодном январском небе кружатся редкие снежинки. У входа кучками стоят охранники и покрикивают:
– Молчать!
– Не разговаривать!
– Не отставать!
– Шире шаг!
Камера, в которую я попал, сырая, темная, на четверых. Два старика и молодой парень – все немцы, заняты тем, что плетут корзины из ивняка. Мне было предложено заняться этим же делом, но я отказался, ссылаясь на то, что никогда не плел корзинок, и мне принесли использованные конверты, которые я должен был отмачивать, переворачивать и склеивать – в Германии не хватало бумаги.
В обед открывается окошко-кормушка, проделанное в двери, и в камеру передают миски с какой-то вареной бурдой из тухлой капусты и свеклы. На второе получаем каждый по две вареные картофелины. Утром и вечером – по ломтику хлеба с маргарином или повидлом и эрзац-кофе. Прошло два дня. Наступает третье тюремное утро. Закончился завтрак. Сижу в камере, клею конверты. Соседи плетут корзины. Все работают молча. Всматриваюсь в лица немцев. О чем они думают? О чем? О свободной Германии без фашизма? О своей семье?.. Один из немцев, самый пожилой, чему-то улыбается. Что у него на уме? И вообще, что они за люди… Как понять немца?
Вот жизненные факты, которые я запомнил в дни своих скитаний. Бомбят немецкий городок, а дворник подметает улицу. Парадокс, но факт! Он имеет приказ и выполняет его даже под бомбежкой.
Немец-врач, покидая с семьей разбомбленный городок, не забывает сиять с входной двери своей квартиры дощечку с расписанием часов приема. В этот, казалось бы, самый горький час его жизни он не забывает о своих клиентах: люди могут прийти и будут напрасно ждать.
Гестаповец конфискует старый костюм казненного – пригодится и это.
Палач в Дахау прибивает весной к виселице скворечник – он так любит птичек.
А как понять ту немку – старую седую женщину, которая в поезде назвала двух польских девочек „свиньями“? Как понять ее? Неужели Гитлер, придя к власти, и впрямь сумел убедить ее, уже немолодую женщину, что все поляки – свиньи?
А как можно понять главного хирурга немецкого госпиталя в городе Александрия Отто Драма? Человек, казалось бы, гуманной профессии, спасавший жизни одним людям, других посылал на смерть? Разве в обязанности хирурга входило вмешиваться в административные дела лагеря и быть одновременно палачом? Его бесчеловечное отношение к пленным – результат выполнения гитлеровских заповедей, гласивших: „Забудь на войне, что ты человек! Тебе разрешается убивать людей – убивай! Главное – меньше всего раздумывать и размышлять. Всякие размышления лишь сокращают жизнь и сушат мозги. За тебя думает фюрер. Завоюешь одну страну, завоевывай другую. Умрешь – так суждено. Победишь – получишь землю, дом, автомобиль и много рабов…“
Повсеместно был провозглашен лозунг: „Повелевай, фюрер, мы следуем за тобой!“ „Мы должны, – говорил Геббельс, – апеллировать к самым примитивным, к самым низменным инстинктам масс. Немецкий народ надо воспитывать в абсолютно слепом восприятии веры…“
Я поглощен своими мыслями. Немцы плетут корзины. Они молчат. Один из них улыбается. Что у него на уме? Надзиратель смотрит в глазок. А я все склеиваю конверты и думаю, думаю…
С немцем, самым пожилым, молчаливым и истощенным, с руками изуродованными изнурительным физическим трудом, я встретился глазами, и мы улыбнулись друг другу, хотя каждый думал о своем.
За тюремным окном – далекие взрывы. Немцы, не отрываясь от работы, прислушиваются к бомбежке. Молчат. Передач никто не получает. Очевидно, все неместные.
…Война пришла и сюда… В камере тихо. Немцы плетут корзины. Внезапно открывается дверь и появляется тюремщик:
– Фридрих Доннер, к следователю! Латыш-колонист немецкого происхождения Фридрих
Доннер – это я! Шагаю за тюремщиком, спускаемся на первый этаж. Стражник пропускает меня вперед. За столом в камере с зарешеченными окнами сидит мужчина средних лет в синем гражданском костюме.
– Садитесь!
Допрос шел на немецком языке. Я присел возле стола.
– Год рождения?
– 1924-й.
– В армии служили?
– Нет, не приходилось.
– Каким образом попали в Германию?
– В сентябре прошлого года, когда латышское население выехало в Германию из Либавы, очутился в Лейпциге. Но я был разлучен с отцом. Отца перевели в Шпремберг, и тогда я решил проехать и отыскать его…
– А где же ваши документы?
– Еще в Латвии их отобрали у меня и так и не вернули.
– Значит, вы попали в рабочий лагерь? – допытывался следователь.
– Да что вы! Я жил в городе на частной квартире и работал переводчиком при одном из лагерей для перемещенных лиц в Лейпциге, у майора Холингера.
– Кто этот Холингер?
– Начальник лагеря.
– Какими языками владеете?
– Немецким, латышским, русским.
– Выходит, из Лейпцига вы просто сбежали?
– Зачем? От кого? Я отпросился у майора Холингера к отцу на несколько дней, сел в поезд и поехал в Шпремберг, но был снят с поезда и доставлен сюда.
– Откуда у вас „Браунинг“?
– Мне подарил его майор Холингер.
– За что?
– За хорошую работу в качестве переводчика.
– Но вы же не военнослужащий? – допытывался следователь.
– А при чем тут военнослужащий? Я два года был переводчиком у командира роты капитала Берша в танковой дивизии СС „Великая Германия“, тоже не был аттестован как солдат, но всегда был при оружии, и это там поощрялось. Ходил и в военной форме, и в штатском.
Зацепившись за Берша, следователь стал скрупулезно допрашивать меня, пытаясь в чем-либо уличить, но здесь я был на сто процентов неуязвим, и все мои ответы, касающиеся 2-й штабной роты Берша, звучали настолько точно и правдиво, что следователь в конце концов поверил, что все было именно так, как я отвечал, – и поверил в мою добросовестную службу на благо немецкого рейха.
– Вы убедили меня, – сказал следователь. – Я верю в вашу искренность. И я за вас спокоен.
Потом в непринужденной беседе я узнал, что, оказывается, следователь родился в русской семье в Германии, куда его родители эмигрировали в 1919 году. И 2-й штабной ротой капитана Берша он заинтересовался только потому, что сам с начала войны служил переводчиком при штабе танковой дивизии СС „Великая Германия“ и капитана Берша знал лично…
– Ну что же, – сказал следователь, как бы подводя итог своего допроса, – желаю здравствовать и честно служить великой Германии!
– Благодарю за доверие!
В эту минуту вошел еще какой-то штатский и отвлек внимание следователя, видимо, более серьезным вопросом, чем мой. Меня отправили обратно в камеру. Я был спокоен: Латвия, наверно, уже освобождена советскими войсками и проверить мои выдумки невозможно. К тому же сейчас в Германии сотни тысяч перемещенных из самых различных стран Европы, и разобраться, кто сбежал из Германии, а кто – в Германию, было просто немыслимо.
На следующий день меня вызвали в тюремную канцелярию, вернули одежду, вернули „Браунинг“ и отослали в военную комендатуру для зачисления в фольксштурм – народное ополчение.
И вот снова солдатская форма. „Все лучше, чем полосатая куртка“, – думал я, подпоясываясь ремнем и пристраивая на голове пилотку. В кармане у меня солдатская книжка, на плече винтовка, в руке лопата и кирка, я иду в строю фольксштурмистов – рыть окопы на окраине городка.
Но рыть пришлось недолго, всего один день. Наутро я был снова вызван в комендатуру.
– Вы владеете двумя языками?
– Так точно, господин лейтенант.
– Мы направляем вас в Познань, в школу переводчиков. Лопату у нас есть кому держать, а иностранными языками владеют не многие, поэтому вот вам предписание: Отправляйтесь на вокзал и следуйте по указанному маршруту.
Я вышел из военной комендатуры, обрадованный тем, что мне снова предстоит дорога на восток».