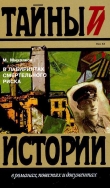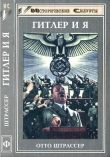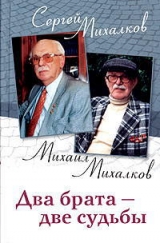
Текст книги "Два брата - две судьбы"
Автор книги: Сергей Михалков
Соавторы: Михаил Михалков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Ночевал я у Шандора в его фешенебельном особняке. В семь утра тихо поднялся, стараясь не разбудить беспечного хозяина, побрился, наскоро перекусил на кухне, надел подаренный мне костюм, сиял с вешалки шляпу и драповое пальто и, захватив свой «Браунинг» и румынские деньги, покинул гостеприимный дом…
Ровно в девять утра самолет Мержиля из Будапешта взял курс на Женеву…
Это было как в сказке, которая может прийти только во сне. После жестоких боев, прорывов из вражеского окружения, после александрийского лагерного барака, кировоградского рва смерти, побега с днепропетровского вокзала, смертельно опасного перехода через Днепр, пребывания в роте капитана Берша и скитаний по Карпатам я оказался в мирной, безмятежной стране. Я надеялся, что и здесь смогу добыть сведения, полезные для Советской армии, разрушающей последние бастионы гитлеровского фашизма.
Что я знал тогда о Швейцарии? Нейтральная страна. Один из центров международного туризма. Население – около четырех миллионов человек. Столица – город Берн. Женева, расположенная на берегу живописного озера, знаменитый курорт. Я знал также, что Швейцария получает огромные проценты за хранение в падежных банках капиталов, принадлежавших вкладчикам из всех стран мира. Наконец, я знал, что во всех частях света славятся швейцарские станки, часы, шоколад.
…А вот и конец пути. Наш юркий самолет приземлился на аэродроме.
Мосье Мержиль сел в свою легковую машину, и вскоре я очутился в его роскошном особняке, на горе, в черте так называемого Старого города.
Мосье Мержиль был миллионером, директором ряда торговых фирм, и его влияние распространялось далеко за пределы Швейцарии. Выходец из старинного дворянского рода, он окончил в Париже Сорбоннский университет, изучал в Лондоне юридические науки и слыл в определенных торговых кругах образованным, предприимчивым и умным человеком, умеющим делать деньги. Вполне естественно, что, вернувшись в Женеву, он сразу с головой окунулся в свои коммерческие дела и, познакомив меня со своей дочерью Беатой, разместил меня в одной из комнат своего особняка. Дом стоял на возвышении недалеко от старого парка «Мои Репо» («Мой отдых»). Рядом – Всемирный центр Красного Креста. Из окна моей комнаты в лучах солнца отчетливо вырисовывалась белая снеговая шапка Монблана.
Беата была хрупкой, изящной девушкой, с коротко подстриженными волосами. Ее большие серо-голубые улыбающиеся глаза смотрели весело и доброжелательно. Одета она была модно и со вкусом.
– Надолго вы в паши края? – спросила Беата по-немецки.
– Не знаю. Многое будет зависеть от мосье Мержиля.
– Папа сказал, что мы сегодня вечером можем пойти в ресторан. Деньги для вас он оставил в конверте, вот они на столе.
– Благодарю, – ответил я. – Если папа разрешил, значит – можно. Буду рад составить вам компанию.
Когда начало смеркаться, мы сели в машину и по моей просьбе покатались по улицам Женевы. Потом остановились возле небольшого уютного ресторанчика на берегу Женевского озера. Беата попросила шофера не уезжать. Предупредительный официант встретил нас у входа, и мы устроились за одним из столиков, стоявших у широко раскрытого окна с видом на озеро. Город пестрел афишами, крикливой рекламой. Озеро поблескивало веселыми огоньками. Из соседнего кабаре доносилась музыка. А где-то в затемненных номерах отелей тайные агенты Канариса – начальника разведки фашистской Германии – деловито обсуждали планы своих секретных заданий. Где-то на конспиративных квартирах затаились связные из французского Сопротивления, и немецкая разведчица фрау Вернер, работая на советскую разведку, налаживала связи с политэмигрантом-подпольщиком венгром Радо, который после войны написал свою знаменитую книгу «Под псевдонимом Дора». Где-то играли в бридж. Где-то пели песни. Разноязычная и неповторимая Женева жила своей обычной жизнью…
– О чем вы думаете? – спросила Беата.
– Хотелось бы побывать во Франции, – ответил я.
– Она совсем рядом, два-три километра отсюда. Только сейчас война. И французская граница строго охраняется немцами, а до войны нужно было только иметь при себе паспорт. Один трамвай ходил в направлении города Аипемасс, другой – до города Сен-Жульен… Вы никогда не были в Женеве?
– Нет, не приходилось.
– А я родилась в Марселе, потом жила в Ницце… И вот уже двенадцать лет живу здесь. Хочу поступить в университет. Буду готовиться к экзаменам… Вы из Берлина?
– Да.
– Мой папа хочет, чтобы я от него уехала. Куда бы вы рекомендовали мне уехать?
– Во всяком случае, не в Берлин. И вообще куда угодно, но только не в Берлин.
– А что, сейчас там так опасно жить?
– Опасно.
– Вы думаете, русские победят немцев?
– Я далек от политики и прогнозов на этот счет не делаю… А вам надо просто выйти замуж за хорошего человека, и сразу станет все ясно – куда ехать и как жить.
К нам подошел любезный официант. Мы заказали ужин и вместе закурили.
– Но, чтобы выйти замуж, – сказала Беата, – я должна сначала встретить подходящего человека. Иначе все развалится, потому что не будет основ, удерживающих брак. Я читала американских сексологов. Считаю, что они правы.
– А ваш итальянский темперамент?
– Не в темпераменте дело! Главное, чтобы люди были одного круга, с идентичным воспитанием, образованием и складом ума. Тогда у них будут общие интересы. Я не признаю брака по расчету. А вы?
– Я тоже не признаю. Кстати, один французский писатель сказал: «Любить – не значит смотреть друг на друга, а значит – вместе смотреть в одну сторону». Его изречение подтверждает вашу мысль.
– Надо, чтобы люди понимали друг друга с полуслова, чтобы они жили друг для друга.
– Это в идеале. Об этом пишут в любовных романах. А в действительности – все равно должны быть компромиссы. Что-то в человеке для тебя – главное, что-то – второстепенное. Стопроцентная близость и гармоничность человеческих натур – это миф, встречается крайне редко, только при генетической совместимости – это утверждает немецкий сексолог Нойберт.
– Незнакома с таким автором.
– Постарайтесь найти его книгу «Новое в супружеской жизни». По-моему, у нее такое название, если не ошибаюсь.
– Постараюсь… А живя в Женеве, я убедилась, что швейцарцы в отношении любви – слишком деловые люди… К тому же они очень замкнуты. Работа и дом. Дом и работа. Вот почти и вся их жизнь. В гости они ходят крайне редко, и только к родственникам. А мне по душе совсем другая жизнь. Я – итальянка.
– Тогда вам надо ехать в Италию и выходить замуж за итальянца.
– Возможно, но этого я пока для себя еще не решила… К тому же я хочу сильно любить человека, за которого выйду замуж, и хочу во всем ему доверять.
– Доверять – это хорошо. Если человек порядочный, достаточно интеллигентный, уважает вас, ценит – почему бы ему не доверять. А вот насчет любви – здесь, мне кажется, вопрос серьезнее. Дело в том, что любовь – это вуаль. Человек любящий идеализирует предмет своего внимания, он его придумывает для себя таким, каким он хотел бы его видеть. Чувства превалируют над рассудком и затемняют главное, что надо обязательно знать. И женщина впоследствии может горько разочароваться в своем избраннике, вовремя не заметив тех пороков, которые он, ухаживая, естественно, скрывал от своей возлюбленной.
– А вы, я смотрю, философ любовных наук!
– Нет, просто читал Нойберта, анализировал, делал выводы.
В ресторане заиграл джаз. Официант принес закуски: красную икру, ветчину, устриц, какой-то соус, масло, свежие овощи, бутылку сухого вина, виноградный сок, свежий хлеб; пожелал нам приятного аппетита, и мы принялись поглощать вкусные блюда, беседуя на тему о любви, всегда волнующую молодых людей.
Удачное знакомствоЗа соседним столиком сидели двое мужчин: один – старик, с окладистой седой бородой, высоким открытым лбом и глубокими проницательными глазами; другой – благообразный мужчина средних лет, одетый в яркий шерстяной свитер. Они оживленно беседовали на чистейшем русском языке. До меня то и дело долетали реплики и обрывки отдельных фраз. Я изредка посматривал в их сторону и старался прислушаться к их разговору.
– Кто эти люди? Вы их знаете? – кивнул я в сторону соседнего столика.
– Одного я знаю, того, кто моложе. Это – Александр Сосновский, он из России, сын русского эмигранта. Очень состоятельный человек. Манекенщик… с причудами. Но мастер, говорят, великолепный. Многие манекены, стоящие в витринах европейских городов, в Америке, Англии, Австралии, выполнены его руками. Это просто гениальный скульптор.
– А второй?
– Того не знаю. И первый раз вижу.
– Они говорят по-русски. Как бы мне с ними познакомиться?
– А вы тоже говорите по-русски? – удивилась Беата.
– Да. Когда я был еще совсем маленьким, мой отец возил меня в Москву. Он ездил туда по своим служебным делам. И прожил в Москве три года. С тех пор я изучал русский язык.
Мы пили вино и вели непринужденный разговор. Беата мне нравилась. Она была умна, симпатична, хорошо воспитана, любознательна и непосредственна в общении.
– А вы не хотели бы изучить русский язык?
– Я знаю три языка: итальянский, французский и немецкий. Куда же больше! Если я начну изучать четвертый, то в моей бедной голове все перепутается. – Она весело засмеялась.
Джаз играл веселую мелодию, Беата загадочно улыбалась, а я пил сухое мартини.
– Что-то вы посматриваете в нашу сторону, молодой человек, – вдруг обратился ко мне бородатый старик. – Не знаете ли вы, случайно, русский язык? Если знаете, милости просим к нашему шалашу, будем рады.
– Идите, идите, поговорите с ними по-русски… Он вас как будто приглашает, – сказала Беата.
К Беате подсела ее подруга, и они стали довольно громко щебетать по-итальянски, энергично жестикулируя. Я встал и подошел к соседнему столику.
– Прошу, прошу, молодой человек, присаживайтесь! – любезно произнес бородач – Вы – француз?
– Нет, я немец.
– О, это совсем хорошо! Я смогу узнать у вас последние новости, а то немецкие газеты что-то умалчивают.
– А что вас интересует?
– Прежде всего меня интересуют те легендарные победы, которые одерживают доблестные немецкие войска на Восточном фронте. Их, по-моему, становится все меньше и меньше. А вы не такого же мнения?
– Сейчас немецкие войска концентрируют значительные силы в Прибалтике. И собираются зажать русских в танковые клещи.
– А где вы так выучили русский язык? – улыбнулся старец.
– Учил, вот и выучил.
– Смею заметить, что вы в этой области весьма преуспели. Всех разговаривающих по-русски здесь в Женеве я знаю наперечет и могу сосчитать по пальцам, а вот вас вижу в первый раз. Значит, вы, видимо, только что приехали?
– Да, я первый день в Женеве.
– Берлинец? – спросил второй собеседник.
– Да.
– Что-то Берлин редко стал заказывать мне манекены, поиздержался, что ли?
– Обеднел, бедняжка, – усмехнулся старик. – Или все деньги запрятал в швейцарские банки.
– Возможно, – сказал я. – Все возможно.
– А ну-ка, Петр Степанович, – обратился Сосновский к старику, – докажите мне еще раз вашу проницательность.
– Ради бога!
– Скажите, о чем думает сейчас вон тот господин. – Сосновский указал на один из столиков, стоящих в стороне.
– Это какой господин: с лысиной или с усами?
– С лысиной, с лысиной.
– Сейчас скажу… На мой взгляд, у него недостаточно денег, чтобы оплатить счет, и он займет их у соседа.
– Сейчас увидим, – заметил Сосновский.
Действительно, господин с лысиной, сидевший невдалеке, сделал весьма кислую физиономию, покрутил в руке счет, попросил деньги у соседа по столу, рассчитался с официантом и, тяжело дыша, встал из-за стола.
– Как в воду смотрели! – рассмеялся Сосновский. – Куда там Шерлок Холмс! Он по сравнению с вами просто ребенок! Как вы могли догадаться?
– Дедукция, братец ты мой! Вот поживешь с мое, еще лучше будешь угадывать. Да, стар стал, стар. Надо идти отдыхать, лечить свой радикулит, проглажу-ка сегодня поясницу утюжком.
– Помогает? – спросил Сосновский.
– А как же! Еще как помогает.
– А сколько же вам лет; если не секрет? – спросил я.
– Девяносто девять, голубчик мой. Одного месяца не хватает, чтобы дотянуть до сотни! Вот так.
В отеле «Россия»Этой ночью, лежа на кровати в богато меблированной комнате, я рассматривал визитные карточки, полученные мной в ресторане. Сосновский приглашал навестить его на следующий день часам к двенадцати, а Петр Степанович Белобородов, мой новый знакомый долгожитель, в этот же день ждал меня в своем номере в отеле «Де Рюсси» («Россия») часам к пяти пополудни.
Утром, позавтракав и поболтав с Беатой, примерив модный белый костюм, подаренный ее отцом, вынув деньги из очередного конверта, перечитав два иллюстрированных журнала: «Flügel» и «Die Wehrmacht», [35]35
«Крылья» и «Армия» (нем.)
[Закрыть]свежие немецкие газеты, я извинился перед Беатой, сказав, что несколько задержусь, приду только к вечеру, и отправился в гости.
Я шел по Женеве. Я понимал, что возмужал, обогатился опытом, акклиматизировался в немецкой среде, сознавал, что если мне что-то и удалось сделать полезного в 41-м году, то в 42-м сделано больше, и, пожалуй, с каждым днем острее сознаю себя разведчиком…
У меня не было задания Центра. Я сам для себя был Центром. Сам ставил перед собой задание, разрабатывал его и воплощал в жизнь. Борьба с нашествием фашизма – была моим солдатским и гражданским долгом, и я был вереи этому долгу. Нравственный мой долг обязывал также бороться, терпеть муки и лишения, порой надо было жертвовать собой ради благополучия других. Самосознание, моральные принципы были заложены во мне самой человеческой природой.
Я сознавал, что, ведя свою «тайную войну», либо одержу победу, либо погибну. Третьего не дано. Тогда, в ту пору, я не знал и не мог знать, что впереди ждет меня не женитьба на дочери миллионера, не райская жизнь на Западе, а… Лефортовская тюрьма в родной Москве, где после войны я пробыл в камере ровно три года, до полного изнеможения… И это тяжелейшее испытание я тоже выдержал, не сдался, не сломился.
…В камере-одиночке всегда горел свет. Поэтому я никогда не знал, который час. Наверху под потолком над стеной небольшое зарешеченное окно под козырьком. Неба не видно. Рядом с дверью параша с крестообразной металлической пластинкой и дыркой посередине. Сесть на парашу можно, но с опаской. Едва услышишь стук – вставай, не то – карцер. Неделю сидеть на цементном полу, питаясь лишь хлебом и водой. Я там уже бывал. Никто из моих родных не знал, что я здесь неподалеку от них – в Лефортове. И что умерла моя мать, я тоже не знал. Сесть в камере было не на что: ни стула, ни табуретки, ни кровати. О столе и думать нечего, и читать не дают. Словом, стой или ходи. А сколько можно ходить? Камера, кроме параши, – пуста. Вот целый день и хожу. Со временем стали отекать ноги – если долго стою на месте. Поэтому надо только ходить. Ходить и ходить, как маятник: семь шагов к двери и семь шагов обратно к стене. Я отшагал, наверное, сотни тысяч километров по этой одиночной камере. Не помню, чтобы хоть один раз мылся или был в бане. Совершенно выпало из памяти, остальное помню отчетливо. Питание слабое. В глазок на меня всегда смотрит бдительный глаз. Со мной никто не имел права разговаривать. Я задавал вопрос, никто на него не отвечал: ни врач, ни охранник, ни конвоир, который раз в сутки выводил меня на прогулку на один час, и там я тоже ходил…
Вечером появлялся дежурный и освобождал прикрепленную к стене доску. Доска держится на двух цепях в наклонном положении. Это тоже один из методов пытки. Дежурный молча вносит из коридора табуретку. Я залезаю на доску и, чтобы не упасть, обе йоги цепляю, как могу, за цепь, а верхняя цепь проходит у меня под руками. Под верхнюю цепь я пролезаю всем туловищем. Так я прочно устраиваюсь на ночь, держусь за цепь, чтобы не свалиться на цементный пол. Доска короткая для моего роста, и поэтому часть туловища, шея и голова в висячем положении. Доска голая. Ни подушки, ни матраца, ни одеяла. В камере сыро. Доска находится от пола на полуметровом расстоянии. Устав от вечной ходьбы, сразу засыпаю. Ночью ноги сами освобождаются от цепи, свешиваются вниз, я повисаю на верхней цепи и… мгновенно просыпаюсь. Чаще всего верхняя цепь удерживает меня, но случается, я падаю на пол и разбиваюсь. Синяки и ссадины врач молча обрабатывает и уходит, а дежурный снова вносит табуретку, и я снова забираюсь на доску…
Следователь – белобрысый мужчина лет сорока – вызывает меня и с искусственной улыбкой спрашивает:
– Как здоровье?
– Ничего.
– Гуляете?
– Гуляю.
– Ну, будете подписывать протокол, что вы готовились в Познаньской школе как диверсант к забросу в советский тыл?
– Нет, не буду. Я находился в этой школе – в правом здании от ворот, в секторе переводчиков, а не в левом, где готовили диверсантов для заброса в советский тыл.
– Хорошо, – говорит следователь. – У меня вопросов больше нет. Вызову вас через полгода.
И я снова хожу и хожу по камере. …Ровно через полгода – тот же следователь и тот же главный вопрос. И тот же мой ответ.
– Хорошо. Я вызову вас ровно через год.
…Ровно через год – тот же следователь и тот же главный вопрос. И тот же мой ответ.
– Хорошо, – говорит следователь. – Я вызову вас через два года.
И я снова хожу по камере…
Отходил еще полтора года… Уже на прогулку не выводят – ослаб. Все время хотелось есть. Пропал сои. Пошли галлюцинации. Порой держусь за стену, чтобы не упасть. С трудом залезаю на доску…
Однажды я стоял, расставив ноги, и о чем-то думал. Было что-то около 8 часов вечера. Поднял голову, смотрю – кормушка открыта и на меня смотрит мужское лицо. Дежурный молчит, и я молчу. Мы смотрим друг на друга, и вдруг он говорит:
– Подойди!
Я подхожу.
– Куришь?
– Курю, да нечего.
Дежурный свертывает мне козью ножку, передает, поджигает ее зажигалкой и говорит:
– Когда я заступаю на дежурство, слушай три удара – это значит, я заступил. Буду давать тебе курить. Только никому ни слова. Понял?
– Понял.
От первой затяжки закружилась голова. Блаженное чувство охватило меня, на глаза навернулись слезы. Появилась надежда и вера.
– За что сидишь?
– Не знаю.
– Как так? А срок какой?
– Не знаю.
– Да не может этого быть… Впрочем, здесь разные сидят. Вот один рядом с тобой. Треппер – его фамилия. Польский еврей. Ему пятнадцать лет влепили. Говорят, опасный преступник.
Я рассказал дежурному о себе. Он заинтересовался, но часто поглядывал по сторонам – нет ли кого лишнего. Поведал я ему о своей семье и шепотом дал адрес – на всякий случай… Охранник выполнил мою просьбу. Пришла первая передача: мясные американские консервы, хлеб, несколько пачек «Казбека» и записка от брата…
Но все это было потом, уже после войны, а пока я шагал по роскошной благополучной Женеве.
…Сосновский жил в центре города в красивом особняке, напоминающем небольшой дворец. Он встретил меня приветливо, угостил вином, показал свою мастерскую, где было множество металлических и пластмассовых конструкций будущих манекенов, показал, как работает с глиной, картоном, пластилином, продемонстрировал журналы, где его «изваяния», выставленные в витринах Америки, были запечатлены на цветных фотоснимках. Затем Сосновский поводил меня по своим жилым апартаментам, показал мне картины известных голландских мастеров, которые он приобрел на разных аукционах, и в одной из комнат сказал:
– А здесь, обычно по вечерам, я собираю гостей, и мы при свечах играем в покер или преферанс, но гости – только мужчины, и обслуживают нас тоже только мужчины. Ни одна женщина не должна перешагнуть порог этого дома – таково было предсмертное желание моего любимого отца.
Мы уютно сидели в мягких креслах, пили вино, непринужденно беседовали, совсем не касаясь военной темы и политики, и, как мне показалось, остались друг другом вполне довольны.
После визита к Сосновскому я бродил по городу, заходил в кафе, посмотрел небольшую художественную выставку французского художника, затем подсел в скверике на скамейку к какому-то мальчику и обратил внимание, что он вертит в руках и внимательно рассматривает какие-то листочки.
– Что это у тебя за рисунки? – спросил я.
– Сам не знаю, полез на дерево и в дупле нашел.
– А ну-ка покажи!
Мальчик отдал мне два листка и убежал играть с мальчишками. Я стал рассматривать рисунки. Как мне показалось, это были какие-то чертежи с зашифрованными названиями каких-то объектов, возможно и военных. Я спрятал эти два листочка в карман. Ровно в пять я был у Белобородова в номере его отеля.
Он встретил меня так же радушно и приветливо, сидя в кресле (дверь открыл слуга), и, когда мы остались одни, внимательно посмотрев мне в глаза, неожиданно спросил:
– Итак, вы берлинец?
– Да.
Он задал мне несколько вопросов, касающихся Берлина, на которые я довольно удачно ответил.
– Голубчик вы мой, простите уж меня, старика, что я вас так называю. Хочу заметить, однако, что шнурки завязывают бантиком и на два узла только русские люди, а ваши завязаны именно так. Вы – представитель Советской России, никакой не немец. Ни один немец никогда не способен выучить русский язык так, как вы говорите по-русски. Вы – коренной москвич, у вас московское произношение, вы из интеллигентной семьи, и я предполагаю, что в вашей семье была бонной немка, заставлявшая вас с детства говорить по-немецки. А то, что вы, позвольте назвать вещи своими именами, разведчик, мне подсказывает то, что в левом кармане ваших великолепных брюк находится дамский «Браунинг» бельгийского производства. Ловите! – И он бросил мне яблоко.
Я поймал угощение на лету.
– Вот видите, вы поймали яблоко левой рукой. А почему? Потому что вы левша! И стреляете вы левой рукой. Поэтому-то и «Браунинг» лежит у вас в левом кармане, а не в правом. И здесь вы не случайно… Нет, нет, нас на пленку никто не записывает. Там, где я живу, – это исключено!.. И не отпирайтесь, вижу, что вы хотите мне возразить. Уж поверьте мне, старику, моему жизненному опыту. Я никогда не делаю преждевременных выводов, пока абсолютно не убежден в истине. Говорю вам с полной откровенностью, потому что очень хорошо отличаю русских эмигрантов и немцев от советских. А знаете почему?
– Нет, не знаю.
– Да потому что, как-никак, я – генерал-полковник царской армии, эмигрировал с разведкой и контрразведкой на Запад и должность в России занимал немалую, я был начальником управления по особо важным делам России. Вы, молодой человек, настолько прозрачны для меня, что я без какого-либо риска решил вам открыться, дабы оказать вам посильную помощь здесь, в Женеве… Покажите мне ваши руки.
Я показал.
– Вот видите, у вас на правой руке наколка. Для разведчика – это большой минус. Нельзя, чтобы немцы осматривали вас. Всегда помните, что у вас на правой руке. Вам эту татуировку сейчас иметь так же опасно, как потом, после войны, опасно будет иметь такую улику эсэсовцам. Нацистская татуировка у них на внутренней стороне бицепса под мышкой левой руки… Между прочим, в начале войны на отдельных участках фронта немцы приказывали выжигать на ягодицах советских военнопленных клеймо, подобно тому, как метят скот. Те, кому удалось бежать из лагерей, придя к своим, показывали свежее клеймо на теле, наглядное свидетельство того, что тебя ждет в фашистском плену. Недаром красноармейцы, попадая в критические ситуации на фронте, предпочитали сражаться с немцами до последнего патрона, до последней капли крови. Увидев, что подобная акция не возымела успеха, фашисты прекратили клеймение советских военнопленных раскаленным железом… А у вас, мой друг, трудности еще впереди, и вы их одолеете, хочу в это верить. А пока не стесняйтесь, пейте вино, ешьте фрукты. – Старец наполнил свой бокал. Мы чокнулись и отпили немного вина. – Между прочим, – изрек мой собеседник, – да будет вам известно, что с самого начала войны Германии с Советским Союзом белая эмиграция раскололась. Такие подонки, как генералы Краснов, Шкуро и еще кое-кто, были заодно с немцами, но большинство разведчиков и контрразведчиков русской эмиграции предпочли быть на стороне сражающейся Советской России, ибо они, как истинные патриоты своей Родины, и не мыслили поступить иначе… Вы молоды, вам надо набираться знаний, накапливать опыт, почаще слушать нас – стариков… А через фронт на советскую сторону я перейду на территории Австрии. – Он назвал населенный пункт, назвал и номер советского стрелкового корпуса, который должен освободить территорию Австрии от фашистов, и добавил: – А начальник особого отдела того стрелкового корпуса сейчас генерал-лейтенант советской армии. В тысяча девятьсот тринадцатом году он был прапорщиком, когда я брал его в свой аппарат. Талантливый был молодой человек!
Я знаю, он обрадуется, увидев меня, своего крестного отца… Вам же, голубчик, я, возможно, облегчу вашу миссию в Стамбуле. Я знаю, ваш шеф Мержиль скоро летит туда. Я дам вам письмо к моему хорошему другу – полковнику царской армии, человеку вполне надежному. Он вас не подведет и сделает все, что от него зависит. Я в нем уверен, как в самом себе…
Мы сидели друг против друга, два русских человека, пили вино, курили. Старик жаловался мне на свой радикулит, смеялся, что так долго живет на белом свете и даже пережил своих четырех жен, а потом вдруг неожиданно сказал:
– Почему-то вспомнил сейчас Соньку Золотую Ручку. Удивительная была женщина. Талант уникальный. Мне о ней много рассказывал Федор Плевако, знаменитый русский юрист. Ведь надо же: сумела продать в Москве дом губернатора, торговала во Владивостоке американскими судами торгового флота, печатала фальшивые деньги… Она могла делать все, любую операцию проворачивала с блеском. Вот это были мозги! Русская нация! Еще Екатерина Вторая отчетливо понимала, какую великую неиссякаемую силу таит в себе русская нация… И она же, Екатерина Вторая, как-то изрекла: «…Пусть вся Европа пойдет на нас, мы выдержим бурю и отразим удары. Пошатнуть могут мою державу и меня, но не опрокинуть вовсе, как иные троны. Великому русскому пароду не страшны никакие жертвы. Россия непобедима!..» Россия – страна загадочная, – улыбнулся старец, – европейцу не понять, надо быть истинно русским человеком, чтобы познать Россию. Между прочим, история сохранила один любопытный факт, – продолжал он. – Однажды зимой к царю Александру II прибыл Бисмарк – «железный канцлер». Катались они на тройке с бубенцами по окраинам Санкт-Петербурга. Сосны в зимнем наряде, искрится снег, поземка метет. Летят они по завьюженному полю в соболиных шубах под звон бубенцов.
– Красиво? – спрашивает Александр II.
– Красиво! – отвечает Бисмарк.
И вот выскакивает тройка из-за леса, и видят они, едет по дороге возок. Старая кляча везет стог сена, а наверху сидит мужичок Кучер как-то не рассчитал и, выскочив на проезжую дорогу с поля, задел санями клячу и сбил ее с ног. Лошадь упала, мужичок тоже свалился на землю. Александр II рассердился, развернул тройку, и оба – он и Бисмарк – побежали спасать мужичка. Вытащили его из-под лошади. Одной рукой он поддерживал пораненную руку.
– Никак зашиб? – спросил его Александр II.
– Ничего, батюшка! Ничего!
– Ты уж нас прости, – молвил царь и сунул мужичку в руку десять золотых десяток. – Никак сильно зашиб руку-то?
– Ничего, батюшка! Ничего! Обойдется!
Так они и расстались. По дороге в столицу Бисмарк спросил Александра II:
– Что это мужичок все одно слово повторял?
– Какое слово? – спросил царь. – Какое? А-а… «ничего»?
– Да-да, «ничего».
Царь не смог объяснить смысл, который вкладывал мужичок в слово «ничего», и сказал Бисмарку:
– Вернемся во дворец, и мой переводчик вам объяснит.
Вернулись. Переводчик пояснил смысл слова «ничего». Бисмарк возвратился в Германию и заказал золотой жезл и ручку к нему из слоновой кости. На ручке просил выгравировать большими русскими буквами слово «НИЧЕГО».
Держа золотое острие жезла рукояткой вверх, Бисмарк, выступая перед генералами, восклицал:
– Вы, представители свободолюбивой немецкой нации, умеете храбро воевать за жизненное пространство, завоевывайте новые земли, но заклинаю вас не воевать с нацией, которая говорит слово «ничего».
Бисмарк в этом слове видел великую терпимость русской нации к трудностям и предостерегал своих генералов…
После короткой паузы Белобородов добавил:
– Слышал я, поговаривают, что когда Бисмарк умер, то на его руке был перстень со словом «ничего». Вот, голубчик, одна из коренных причин того, почему русские побеждают немцев в военных баталиях, – великая терпимость нации к трудностям… А на днях…
Мой собеседник уже не мог остановиться и как ни в чем не бывало выдавал историю за историей…
– Вот прочитал сегодня в газете «Le Matin» («Ma-тэн») о французском авантюристе Пьере Дюране. Этот мошенник путем хитро-мудрых операций в Лондоне столкнул лбами два английских банка. Оба обанкротились, а он, шельмец, изрядно обогатился… А мне, знаете, припомнился наш русский суперавантюрист Савинков.
– Савинков? – переспросил я.
– Нет, не политик-террорист, тот был бездарен. Я говорю о другом Савинкове, его однофамильце. Не человек – уникум! Все тот же Федор Плевако рассказывал мне о нем… Вот хотя бы взять одно нашумевшее тогда дело. Хотите послушать?
– С удовольствием!
– В тысяча девятьсот третьем году в Париже Савинков стал торговать золотыми приисками России… И как все подстроил, подготовил, продумал, шельмец… Итак, однажды из газет парижане узнали, что русский миллионер, золотопромышленник Николай Федорович Сомов приехал в Париж продавать золотые прииски. (Белобородов отпил несколько глотков из бокала.) Парижский обыватель пялил глаза. Сомов разъезжал по Парижу в раззолоченной карете на семерке лошадей, запряженных цугом. Сам правил лошадьми, сидел на облучке с золотым миоголучистым причудливым орденом на груди. А первая лошадь белая в крапинках была цирковой, и она становилась на дыбы, красиво приплясывала на перекрестках улиц, при поворотах кареты. Не картина – загляденье! Газеты сообщали, где Сомов живет, какова его многочисленная прислуга, какие искуснейшие русские повара готовят ему специально русскую пищу, где он бывает по вечерам, чем увлечен, что любит, перечисляли его французских любовниц… И вот в назначенный день и час открылось в Париже его «торговое» заведение. Сомов, он же, как вы понимаете, Савинков, арендовал двухэтажный дом в центре города и соответственно его обставил. Его помощники, а их было человек сорок, имели на соседней улице свою костюмерную. Наряженные, они заходили в это «торговое» заведение, затем выходили, меняли одежду и грим в костюмерной и снова заходили… Таким образом, создавалось впечатление необычайной заинтересованности парижан в этом деле. Богачи стали проявлять интерес к этой «торговой конторе» и посылали туда своих представителей разузнать детали торговли и денежные суммы, которые требуются для заключения контрактов.