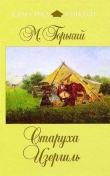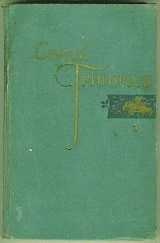
Текст книги "Кругосветка"
Автор книги: Сергей Григорьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Глава десятая
Крутая гора
При подъеме без тропинки по самой большой крутизне гора всегда кажется круче, чем есть в самом деле. Хватаясь за кусты, переступая с камня на камень, скользя по сухой хвое, можно думать, что лезешь на стену, а между тем самые крутые склоны волжских гор (это ясно, когда на них смотришь в профиль) имеют уклон не больше 30–35 градусов. Подъем под таким углом – это известно из механики – требует затраты энергии и времени в шесть-восемь раз больше, чем при ходьбе по ровному месту. Нам предстоял подъем на один из самых высоких в Жигулях курганов: немного больше ста саженей над уровнем Волги (двести пятьдесят метров). Подняться на него – это все равно, что пройти версту-полторы по ровной горизонтальной дороге. Если не торопиться, это займет минут пятнадцать-двадцать. Беда в том, что наши ребята сразу начали состязаться, кто первый влезет, и принялись карабкаться вверх: где можно – бегом, а где круто – даже на четвереньках.
В таких состязаниях побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто легче и ловчее. Маша скоро всех опередила. Ее пестрое платье мелькало высоко среди редких стройных сосен. За нею Батёк, потом Вася Шихобалов; ниже упористо взбирался Козан, норовя уйти от долговязого Абзаца. Но тот не отставал.
Гадюка
Позади оставались Пешков, я и с нами Стенька с той улицы. Его все развлекало, и он спрашивал то Алексея Максимовича, то меня о разных вещах:
– Чей это помет?
– Лосиный, – отвечал Пешков. – Лось – зверь такой, с большими рогами.
– А сам он большой?
– Побольше коровы.
– Ой-ой! Какой большой! А эти ягоды едят?
– Да, это крушина. Есть ее можно, – ответил я.
– А это что за сережки?
– Так и называются: «сережки». Бересклет бородавчатый. Это лекарство. Есть не советую.
– А вот шиповник, я знаю, есть можно!
– Можно, только осторожно, а то чесаться будешь. А вот, смотри: под камнем гадюка лежит.
– Где?
Гадюка лежала, греясь на солнце.
– Смотри, она кусается, ядовитая.
– Да ну?
Стенька поднял палочку и потревожил гадюку концом. Гадюка несколько раз злобно клюнула палку так, что слышен был каждый клевок, а затем поспешно уползла и пропала в камнях.
– Знаешь, Стенька, тут много гадюк, смотри под ноги… Они каждый день на утренней заре ползают к Волге пить воду. Удишь рыбу: сидишь, конечно, тихо, а они десятками ползут к воде. Напьются, выкупаются и опять в гору.
– А плавать они умеют?
– Еще как! Волгу переплывают.
Первый раз на воле
Стенька набрал целый букет веток с разными ягодами. Особенно в букете были красивы сережки, одно из прелестнейших произведений великого ювелира – природы: из алой чашечки висят на нитях фиолетовые лалы ягод… А цветет бересклет невзрачными, чуть приметными рыжеватыми цветочками.
– Цвет яблонь и вишневый сад в снегу цветов воспеты. Но яблоня, отягощенная плодами, и вишневый куст в ягодах неужели не прекрасны?
– Во всяком случае, они вкуснее! – ответил на мои рассуждения Пешков. – Все дело именно во вкусе. Поэты нюхают цветочки и воспевают цветущие сады весной в расчете осенью полакомиться яблочком.
В конце концов от нас отстал и Стенька с той улицы, увидев что-то любопытное в стороне. Оглянувшись на него, Алексей Максимович сказал:
– Видать, парень в первый раз попал на волю и – страшно подумать! – может быть, в последний! А то и знал бы природу лишь по Струковскому саду. А на той улице каких гадостей он не наглядится! Отдадут его потом в люди, например мальчиком на крупчатую мельницу – сита протирать или в обойку – гвозди собирать с магнита. К двадцати годам приобретет чахотку. Покашляет годик-другой кровью и помрет. Вот они – цветочки и ягодки нашего строя…
– А мы, Алексей, кажется, с тобой условились на воле политики не трогать?
– Политика – она как муха: выгонишь в дверь – влетит в окно. Села на щеку – отмахнулся, а она тебе в ноздрю. Апчхи!
– Будь здоров!
– Ты думаешь, я нарочно? В самом деле какая-то козявка в ноздрю влетела.
На вершине
Маша прыгала и танцевала, раскрылив руки, на вершине кургана, напевая:
– А я первая! Первая я!
Алексей Максимович и я за ним сильно отстали, и не потому, чтобы мы были слабее (хотя он все чаще покашливал, а я тяжело дышал), и даже не оттого, что мы всех тяжелее. Дело объяснялось просто: все наши ребята были босы, а мы обуты – он в сапогах, а я в ботинках. Еще в полугоре у нас обоих о хвою и сухую траву так отполировались подошвы, что мы скользили на скате, словно взбирались на ледяную гору. Приходилось выбирать, где ступить, искать голого места или камня, хвататься за кусты, обнимать сосны, чтобы не упасть.
– Жалко, что я не послушал Абзаца, не оставил юру и сапоги, – ворчал Алексей Максимович. – Шельмец давал хороший совет – разуться.
– Зато ребята, чай, ноги разбили, искололи.
– Скорее, что ли, идите! – кричали нам сверху, с голой макушки кургана.
Наконец и мы достигли вершины. Было чем полюбоваться отсюда! Курган – выше всех своих соседей. К югу, как и к реке, он сбегал довольно круто к Бахиловскому Буераку – глубокой сухой долине, стоку вешних вод плоскогорья Самарской Луки. Сосны не закрывали нам дали. Она была ясна августовской прозрачной чистотой. Только к западу плоский круг горизонта прерывал холмы. Видна Усольская светелка на вершине горы. На юг, за голыми увалами плоскогорья Самарской Луки, стелется пестрая, заплатанная Новоузенская степь – рыжие пашни, черные пары и бледно-зеленые клинья озимых. К западу, за Куньей воложкой, – приземистый Ставрополь. К северу от нас – в синих разводах по желтому полю пашен – Башкирская степь. На восток, под синими Соколиными горами, должна быть Самара – ее не видать.
Кое-что о медведях
Всюду по краям земли видны белыми крапинками церкви.
– Хорошо дышится! – легко покашливая, говорил Алексей Максимович. – Приятен горный воздух. Каково, отче Сергие, если бы не ребята, нам бы сюда не попасть. Люблю высоту!
Я ответил стихами:
Хоть я и вью гнездо в долине,
Но чувствую порой и я,
Как животворно на вершине
Бежит воздушная струя.
– Я так бы и улетела! Ах, как хорошо! – взмахивая руками, кричала Маша.
– Когда люди научатся летать, а они научатся, будьте покойны, – заговорил Пешков, – то, конечно, будут вначале летать с горных вершин.
– Медведь тоже иной раз летает с кручи, – вставил скептическое замечание Абзац.
Алексея Максимовича задело на этот раз замечание нашего скептика:
– Ну да, я совершенно убежден, что и медведю свойственно желание стать птицей. Многие медведи стали жертвой этой страсти. «Ах! Полечу…» Полетит и убьется. Об этом кое-что говорится, именно о полете медведей, в «Жизни животных» Брэма, рекомендую почитать. Только некоторым животным из класса пресмыкающихся никогда не приходит в голову летать. Медведь, летающий с кручи, более почтенное животное, чем гадюка… Ужам и вообще змеям несвойственно летать.
Глава одиннадцатая
Китайские змеи
– А как же змеев пускают? – продолжал спорить Абзац.
– Замечание неглупое. Бумажных змеев заимствовали у китайцев. Они запускают змеев, похожих на драконов, особенно когда ждут солнечного затмения. Китайцы народ очень умный, а со стороны поглядеть – чудаки. Думают – и сами этому не верят, – что черный дракон хочет проглотить солнце. Чтобы напугать дракона, китайцы подымают страшный шум: в колокол звонят, из пушек палят, в барабаны бьют, а главное – к этому дню у каждого китайчонка припасен змей, да пострашнее. И только того и молят, ложась спать накануне затмения, чтобы ветер был. А ветер, когда затмение, непременно бывает. Вот они и запускают змеев против черного небесного дракона.
– Он вроде черта? – спросила Маша.
– Допускаю… Ну, и запустят против этого, допустим, «черта» сотни, тысячи, миллионы самых страшных бумажных драконов – пучеглазых, усатых. И непременно каждый дракон с трещоткой.
– Нам полиция не велит с трещотками змеев пускать – лошади пугаются.
– Ну, китайские ребятишки полиции своей не послушались бы. Да и дело полезное. Затрещат змеи в миллион трещоток!
– Можно с тремя трещотками каждый делать. Я умею, – сказал Батёк.
– Три миллиона трещоток? Тем лучше! Такой треск, что ни колоколов, ни пушек, ни барабанов не слыхать. Небесный дракон в бежь! Так китайчата уже много раз спасали солнце. Поверьте мне…
– А у них солнце одинаковое с нашим? – недоверчиво осведомился Вася.
– Одно, вот это самое солнце. Так что и мы должны благодарить китайчат. Однако солнце здорово жарит. Не пора ли нам, ребята, к Волге? Как-то там наш кот мою шляпу сторожит?
– Поглядим еще. Уж очень далеко видать.
Москву видать
Алексей Максимович сделал из ладони козырек и посмотрел правее синих, с белыми обрывами меловых гор за Сызранью.
– Далеко видать, – подтвердил он. – Вон Москву видно. Ишь ты, как золотые главы на солнце блестят – глазам больно. Видишь, Преподобный?
– Как же, ясно вижу… На Спасской башне часы показывают без четверти три.
Ребята стали смотреть в ту сторону, куда смотрели мы. Только Абзац змеисто улыбнулся и уставился вниз, на Волгу, где водяным пауком бежал легкий пароход. Да Маша, сдерживая смех, смотрела, подняв голову, Алексею Максимовичу в лицо.
– Ничего не видать! – сказал Стенька. – Вон на обрыве церква, близко. А до Москвы, бают, тысяча верст…
– Церква над обрывом – это Симбирск. До него, пожалуй, сто верст. А Москву гляди левее.
Стенька тянулся на цыпочки и напрасно щурился в сторону Москвы.
– Раз, два-а, три-и-и!.. – пропела Маша.
– Чего это? – удивился я.
– А это на Спасской башне в Москве часы пробили. Неужели не слыхали?
– Я слышал, – подтвердил Пешков.
– Да, стрелки на часах показывают ровно три, – вынужден был согласиться и я, – а боя часов я не слыхал.
– Ты на ухо туговат. То, что вы, ребята, не видите, тоже вполне объяснимо. Мы с Преподобным, особенно я, высокого роста. Кто хочет увидать Москву, кому Москву показать?
Ребята опасливо отодвинулись от Алексея Максимовича, кроме Стеньки. Только он, очевидно, не знал, как Москву показывают. Предупредить его, что это за штука, никто из мальчишек не хотел: пускай сам попробует. Они посматривали на Стеньку злорадно.
– Боится, боится, боится! – дразнили Стеньку мальчишки.
Абзац презрительно молчал.
Барыня в раскидной карете
Стеньке не хотелось показаться трусом, а с другой стороны, он догадался, что увидеть Москву почему-то страшновато. На лице его отразилось мучительное борение чувств.
Маша по-женски самоотверженно пришла ему на помощь:
– Чего ты, Стенька, боишься? Вовсе не страшно. Вот, гляди! Алексей Максимович, покажите мне Москву.
Маша стала к Пешкову спиной. Он крепко зажал ей голову по ушам ладонями. Маша ухватилась за руки Алексея Максимовича около локтей, подтянулась и оттолкнулась от земли босыми ногами.
– Гоп!
Пешков высоко ее поднял.
– Ах! Сколько в Москве народу! Масса! Алексей Максимович поставил Машу на землю, тяжело дыша.
– Ехала там барыня в раскидной карете. Не успела разглядеть, какое на ней платье. Покажите еще разок! – умоляла Маша.
– Ладно! – решился наконец Стенька. – Пускай он мне Москву покажет. Так-то, как Маша, это мало ли что!
Стенька приготовился.
– Дай я подержу букет, – предложила Маша.
– Ничего, я так.
Пешков охватил голову Стеньки и попробовал поднять его. Стенька подмигнул Маше и ничем не хотел помочь Алексею Максимовичу.
– Смотри, он тебе голову оторвет, – предостерегал Абзац смельчака.
– У меня шея жилистая. Будьте любезны!
И Алексей Максимович и его жертва побагровели от натуги, но так Стенька и не увидел Москвы.
– Тяжеленек ты, – сказал Пешков, взъерошив рыжую шапку волос на голове мальчишки. – Ну и волосы у тебя!
Мы все захохотали. Пешков в смущении опустил голову и, взглянув на сапоги, заметил:
– Жалко, что не захватил ваксы. Три дня сапог не чистил.
Мы еще громче захохотали. Намек на то, что жесткий бобрик на голове упрямого Стеньки напоминает сапожную щетку, не имел успеха. Наш смех говорил только одно, что острота, даже удачная, не всегда служит выходом из неловкого положения.
– Эх, ты! Так Москвы и не увидал! – попеняла Маша.
– Ничего, вырасту – увижу… Сам увижу! – ответил Стенька.
Альпеншток
Спуск с крутизны несравненно труднее подъема. Это должны знать все, кто любит дышать вольной грудью на горных высотах.
Особенно трудно пришлось при спуске с кургана Пешкову и мне на отполированных при подъеме подошвах обуви. Напрасно мы натирали подошвы о крупную дресву – известняковый рухляк не помогал так, как помогает мел цирковым гимнастам.
Спускался с горы, Ты вспомнишь, что забыл Свой альпеншток от той поры, Как ты в долине был.
– Кто это сказал, отче Сергие? – строго спросил, прочитав стихи, Пешков.
– По-видимому, Козьма Прутков, – ответил я.
– Ошибся! Генрих Гейне. Жаль, что я оставил у тебя свою ерлыгу.
– И палку выломать не из чего – одна крушина ломкая. Хорошо бы клен молодой, да не видно.
Спускаться прямиком без альпенштоков было трудно и даже опасно, хотя Маша, а за ней и мальчишки кувыркались с кручи отважно. Девчонка снова оказалась впереди всех… А нам поневоле пришлось спускаться по менее крутой линии.
Застежка с львиными головами
Подходя к нашему стану бурлацкой тропой, мы издали услышали громкий плач Маши.
– Ну, еще горе! – озабоченно нахмурясь, сказал Алексей Максимович. – Девчонка, наверно, повредила ногу.
Мы ускорили шаги. Там, где мы оставили свою кладь, сидела на камешке Маша и, охватив голову руками, плакала. Завидев нас, она заплакала еще громче. Около нее кружком стояли, поникнув головами, мальчишки, не умея и не зная, как помочь подруге.
– Что случилось? – спросил я, подбегая к Маше, и запрокинул рукой назад ее голову, чтобы взглянуть ей в глаза. В них блеснул лукавый огонек. Из глаз ее катились по щекам крупные слезы.
Я успокоился, а Алексей Максимович спросил с тревогой:
– Ну что? Что? Ногу повредила? Зашиблась?
– Чего там ногу! – ответил за Машу Абзац. – Вы глядите, где ваша шляпа и плащ?
– Украли?
– Ясно.
– Эх, а ты еще советовал мне сапоги оставить! – упрекнул Абзаца Пешков. – Ну, не плачь, Маша, эка беда! Вот если б сапоги – это да. Плащ я все равно хотел новый купить, а этот татарину продать.
– Ка-ка-ая удобная вещь-то! – разливалась Маша. – Жал-ко-о как… Ши-ро-кая хла-ми-да!..
– Ничего. Я еще шире закажу в магазине «Дрезден». Да велю еще застежку сделать с цепочкой и золотыми львиными головами, как у моряков… Шикарно!..
Шляпа «борзалино»
– «Ши-и-карно».. «Не жалко», – продолжала причитать Маша. – А шляпу не жалко?
– Гм? Шляпу, пожалуй, несколько жалко. Я ее в Одессе купил, у одного итальянского матроса. Хорошая шляпа, настоящий «борзалино». Ну, что делать – куплю картуз…
– Картуз вам не пойдет!
– Ну, голубушка, не надо так. Довольно… А то я сам заплачу.
Из мальчишек больше всех сочувствовал Машиному горю Стенька с той улицы. Он тяжело вздыхал и перебирал листы своего ягодного букета.
– Эх! – укорял Стенька Алексея Максимовича. – Вы бы хоть внарошку пожалели одежу – ей бы легче стало. А то – ему не жалко. Он, вишь, богатый… Не плачь, что ли… утешься… на…
Стенька протянул Маше свой букет и предупредил:
– Только не ешь – это ягоды все лечебные: живот заболит.
Маша улыбнулась, приняла букет и опять заплакала, отрывая губами от веточек букета ягодки и выплевывая их.
– Довольно, Маша, – сказал я. – Ну чего ты?.. Скажи!..
– Да, «скажи»… Это я ведь пошутила, попытать его хотела… А ему не жалко. Вон, подите, за тем кустом я шляпу и хламиду спрятала… Оденьте его… Его продрожье берет…
Мальчишки кинулись за куст и вернулись с плащом и шляпой.
Плащ накинули Пешкову на плечи, шляпу он лихо заломил за ухо, и легкий ветерок сейчас же загнул широкий обод шляпы на лицо. Ветерок упорхнул, и обод выпрямился сам собой. Настоящий «борзалино»!
Невознаградимая утрата
– Хорош? – спросил Алексей Максимович, красуясь перед Машей, чтобы ее утешить.
– Хо-о-о-ро-ош!.. Обрадовался… Шляпе обрадовался…
Маша снова залилась слезами.
– Все вы, все ра-а-ады… А котик где? Шляпе все рады, а где Маскоттик? Про Маскоттика все забыли…
– В самом деле, где же кот?
– Убежал… Уж я искала его, кискала-кискала – не идет… Убе-жа-ал наш котик, а-а-а!
Мы разошлись и стали на разные лады кликать кота:
– Кис, кис, кис… Маскотт, Маскотт. Маскоттик… Поиски и зовы оказались бесплодными: кот пропал. Когда мы вернулись опечаленные к Маше, она уже не плакала. Размотав черную нитку с иголкой, пришпиленной на груди к платьишку, Маша спросила:
– Мальчишки, у кого штаны порваны? Давайте зашью.
– Эх, и артистка же ты, Маша! – Я погрозил ей пальцем.
Она, откусив кончик нитки, улыбнулась такой же надменной улыбкой, как вчера, когда гадала нам на картах «исполнение желаний» и хорошую погоду и обрезала сомнение Пешкова, не врут ли карты, словами: «Карты никогда не врут!»
Увы! Карты явно наврали. Небо затмевал с заката серый, плотный полог. Ветер тянул ровно, тихо и упорно от «веста» – дождь ночью будет непременно. И вдобавок к тому, что карты наврали, пропал наш Маскотт…
– Трехшерстный кот…
– Никакой он не трехшерстный, – ответила Маша, штопая Стеньке с той улицы штаны, разодранные на коленке.
– Ты же сама уверяла, что трехшерстный.
– Ну да: у него на брюшке по белому были рыжие пятна. Это он где-то вымазался в краске. Всю ночь лизал, чистился и все слизал.
– Да-а, – протянул Алексей Максимович, – Видно, начинается невезенье!.. А как везло поначалу! И кот пропал – невознаградимая утрата. Да еще вдобавок оказался не трехшерстный, а просто серый.
– С белым брюшком, – поправила Маша. – Я вижу, вам вовсе не жалко Маскоттика. Вам смешно! Какие вы все злые, жестокие…
Иду бечевой
Подавленные этим упреком и общим нашим горем, мы собирались дальше в путь в угрюмом молчании. Отсюда до устья реки Усы Волга жмется к горному берегу. Течение быстрое, идти на веслах трудно и долго. Ветер встречный. У всех ребят разбиты, исцарапаны ноги, заставить их идти бечевой по камням босиком – безбожно. Обуты только Пешков и я. Будем чередоваться. Он сел на корму, а я впрягся и пошел лямкой. До Усы оставалось верст десять.
Я шагал мерным, ровным шагом. Уже через две-три минуты я нашел самую выгодную меру шага. Небольшое искусство тянуть лямку, но все-таки и это дело «мастера боится». И в этом простом деле есть своя радость чувствовать, что все идет ладно. Бурлак умеет находить меру траты своих сил: идти медленнее – не сдюжишь, быстрее – утомишься. Между мной и Пешковым сразу через натянутую лямку установилась связь. Он правил мастерски. Идя бечевой, я не чувствовал ни одного рывка, ни одного внезапного ослабления лямки, одинаково досадных и утомительных. Хотя тут не было застругов и бечевник чертил плавную дугу без всяких изгибов, но берег был засыпан крупными камнями. Встретив нагромождение камней, я их не перепрыгивал, не карабкался через, как это делают, идя бечевой, мальчишки (им это забава), а обходил их стороной. Кормчий помогал мне и тут: он следил, чтобы в эти минуты бечева не натягивалась и не ослабевала, и описывал лодкой по воде плавную кривую в сторону, обратную моему обходу. Завидев камень-отпрядыш, торчащий из воды, и зная примерно, через сколько моих шагов Пешков будет обходить его справа, я на этом месте замедлял ход. Бечева сохраняла одно и то же натяжение: если бы в нее включить динамометр, как это делают при изучении законов буксировки судов, стрелка динамометра стояла бы на одном месте, только чуть качаясь около некоторой средней силы тяги. Я рассчитывал ход на два часа.
Глава двенадцатая
Невезенье
Так шагая, я заметил впереди чью-то лодку. Она шла стрежнем нам навстречу. В веслах сидели в первой паре две девушки, во второй паре я издали по выгоревшим плечам пиджака узнал земского врача Ивакина. На корме правил статистик губернского земства Макаров. Узнав меня, Макаров крикнул:
– Сарынь на кичку!.. Куда это вы? В ответ я молча помахал рукой.
Они ушли, как и собирались, много раньше нас, в субботу, из Самары в обычную кругосветку по течению и теперь торопились к ночи вернуться домой.
Гребцы перестали грести. Макаров встал на корме и повторил вопрос, на который я ответил неопределенно.
– Пешков, куда вы?
– В Самару! – ответил Пешков весело.
– Да вы спятили?
– Нет!..
– Там, на баре в Усе, воды всего четверть аршина, мы едва перетащились. Поворачивайте за нами назад.
Я свистнул. Алексей Максимович ответил мне тоже свистом.
«Вот невезенье!.. Наша лодка куда тяжелее ихней!» – сказал я своим свистом. Пешков свистом ответил: «Ничего, вези».
Гребцы у Макарова ударили в весла.
Я не оглянулся вслед счастливцам. Они сделали две трети своей кругосветки, им оставалась последняя треть – самая легкая. У нас впереди – самая трудная треть: волок из Усы в Волгу да еще до него бар – песчаная пересыпь с перекатом, где они едва перетащили свою легкую лодку, а наша сидела глубже.
Спорый дождик
Вечерело. Начал накрапывать дождь. Кто не живал в наших краях, тот не поймет сладостной отрады мелкого, затяжного вроде осеннего дождя в конце знойного, пыльного лета. Да, это очень приятно дома, под крышей, или в каюте парохода. Нам радоваться дождю не приходилось. Начну с себя. Когда спорый дождь начал кропить мне в лицо, при встречном ветре было очень хорошо. Когда же промокли плечи и по спине потекли холодные струйки, я стал поеживаться. Алексею Максимовичу с его слабыми легкими дождь с ветром даже опасен, он и так к вечеру после подъема на курган начал сильнее покашливать. У ребят от дождя и ночного холода одна защита – парус, а он тоже, наверное, скоро промокнет. Идти дальше в темноте не имело смысла еще и потому, что ночью трудно отыскать вход в Усу из Волги, да еще при столь малой воде на перекате. Лучше переночевать на берегу у костра: залить его мелкий дождь не может, да не успел еще он и намочить сушняка – топливо будет…
Я уже собирался остановится и посоветоваться с товарищами, как вдруг с лодки послышались веселые крики и смех. Бечева ослабла… Пешков круто повернул, и лодка уткнулась в песок заплеса. Должно быть, на лодке приняли решение, к которому и я склонялся, но не этим же вызваны бурные восторги? Сматывая на локоть бечеву, я пошел к лодке… Mania издали показывала мне, подняв над головой, белобрюхого кота – Маскотт нашелся.
Ребята наперебой рассказывали мне, что случилось. Они услыхали, что кто-то скребется под палубой лодки на носу. Потом кот замяукал. Открыли люк, и оттуда выскочил Маскотт. Сначала подумали, что это подстроила Маша. Она божилась, отрекалась и так искренне обрадовалась коту, что мы отказались от подозрений и согласились на том, что, когда мы ушли на гору, кот соскучился или ему показалось жарко, и он перебрался в лодку, где я оставил открытым палубный люк. Усаживаясь в лодку, мы люк захлопнули, не заглянув туда, и кот в прохладе проспал там преспокойно все то время, пока я тянул лодку бечевой.
В русской печи
Чтобы укрыться от дождя, сначала мы думали построить, по предложению Алексея Максимовича, «вигвам»: под обрывом утеса среди нагроможденных обломков росло много молодых осинок – прекрасный материал для постройки шалаша. Но пока рубить деревья – мы промокли бы до последней нитки. К счастью, я заметил выше молодой поросли на ровной стене утеса вертикальную черную черту, как будто сделанную мазком огромной малярной кисти. Несомненно, там была «печь», а мазок – след от дыма. Так и оказалось.
В обрывах горного берега Самарской Луки много естественных, а то и сделанных руками человека при добыче извести или асфальта пещер. На южной ветви Луки стоит даже село Печерское, названное так по множеству пещер окрест него. Иные из пещер огромные, другие невелики и с высоким сводом – их и называют «печами». Такою и была открытая нами пещера, размерами вполне достаточная, чтобы вместить всех нас, включая и кота Маскотта. Весною и осенью, а может быть, иногда и зимой, эта печь служила убежищем многим людям на протяжении долгих времен. Об этом можно догадаться по тому, что устье печи носило следы обработки инструментом – каменотесным топором и было отполировано касаниями рук множества людей, когда они хватались за края устья при входе и выходе из печи. Чтобы войти в пещеру, надо было нагнуться, а когда мы вошли, то самый высокий из нас, Пешков, не мог достать рукой «нёба» печи – свода пещеры. Осветив факелом из свернутой в жгут газеты приют, ниспосланный нам счастливым случаем, мы убедились, что пол печи ровный и чистый – из твердой плиты песчанистого известняка, нёбо совершенно черно от копоти, но стены свободны от того коричневого налета, что покрывает белые потолки комнат, если печи в доме хоть чуть-чуть дымят. Значит, мы могли затопить печь, то есть разложить в ней костер, не опасаясь угара. А главное, мы нашли в печи большую вязанку дров.
Новая пропажа
– С весны здесь никто не ночевал, – заметил Алексей Максимович.
– «Что и удостоверяется подписью с приложением печати», – не преминул съязвить Абзац.
Пешков готов был вспылить, но я поспешил вмешаться:
– Почему, в самом деле, Алексей, ты говоришь так уверенно?
– Очень просто. Дровишки перевязаны лыком. Значит, их собирали не зимой. Если их собирали летом, зачем было лазить по склонам за сушняком, если по спаде воды на берегу сколько угодно сухого плавуна. Все это сосновые ветви. Хвоя с них осыпалась. Кто их принес сюда – больше не возвращался.
– Очевидно.
– Если бы кто зашел другой, то поступил бы с дровами так, как мы сейчас с ними поступим, а именно: сожжем.
Мы развели огонек у задней стены печи. Сухие сосновые ветви весело запылали.
Пламя лизало нёбо печи, дым по закопченному своду сизой лентой потянулся к устью. Печь наша превосходно топилась. Все, что можно снять с себя, мы сняли и повесили сушить.
Чайник закипал. Слань, выбранная из лодки, послужила Маше материалом для сооружения чего-то вроде стола, подобного тому, за которым мы праздновали возвращение блудного сына. Вспомнили, что у нас есть десяток воблы, принесенной в дар экспедиции Стенькой с той улицы. Каждый получил по вобле. Одна вобла осталась. Воблу раздавал Стенька, на что имел неоспоримое право: ведь двугривенный-то, на который куплена вобла, принадлежал ему.
– Почему же одна? – удивился Абзаце – Стенька, ты ведь за двугряш купил десяток… А выходит девять.
Стенька насупился и ничего не ответил.
– Ты перебирал их пальцами – значит, считал. А где казовая вобла?
– В самом деле, у кого казовая вобла? Ну-ка, сознавайтесь, – предложил Алексей Максимович.
Казовая вобла
Ребята перемерили друг у друга воблы, ставя их рядом головами на доску стола. У всех воблы оказались одинаковой длины. Правда, вобла, врученная Стенькой Маше Цыганочке, была несколько длиннее и шире прочих и, пожалуй, помясистее, но и она не могла сойти за казовую.
– А что такое казовая вобла? – спросите вы. Уличные торговки вразнос, купив рыбу у оптовика, связывают ее на мочалки десятками, отдельно вяленую и копченую, да так и носят по дворам на коромысле: на одном конце вяленая, на другом – копченая. В каждом десятке должна быть одна вобла заметно крупнее и жирнее остальных. Это и есть казовая вобла. Все искусство торговки в том и состоит, во-первых, чтобы покупатели десятком зарились именно на казовую воблу, во-вторых, чтобы не продать ее покупателям штучным. Торговля воблой вразнос, если в ней разобраться как следует, – хитрая механика, но здесь можно ограничиться и тем, что сказано…
Никто из нас не хотел лупить своей воблы до полного выяснения странного случая. Все ждали, что скажет Пешков. Девятая вобла лежала на столе перед нами как вещественное доказательство.
– Гм, кха! – откашлялся Алексей Максимович и, хмурясь, начал так: – Логически рассуждая, в десятке вобл может быть и девять штук.
– Ах! – воскликнула тоненько Маша.
– Почему нет? Коммерция вся строится на обмане… Считал ты, голова, когда воблу покупал?
– Ох! – тяжело вздохнул Стенька.
Следствие
Маша по собственному почину взяла на себя защиту заподозренного:
– Ах, да как же Стенька мог считать, если торговка бежала за ним и кричала: «Полицейский, полицейский!» Я помню, я видела, что он еще у вас в квартире раза три перебирал воблу пальцами…
– Сколько же выходило? – обратился Алексей Максимович к Стеньке.
– Выходило ровно десяток: девять штук.
– Так! – Пешков прищурился. – Значит, можно считать факт почти установленным: в этом десятке было девять единиц. Но мы должны устранить все сомнения. Установлено, что казовая вобла все-таки была и ее, значит, кто-нибудь съел.
– Например Маскотт, – предположил Абзац.
– Коты не едят копченой воблы, – авторитетно заявила Маша, – только вяленую.
Маша тут же дала коту понюхать вещественное Доказательство. Кот понюхал и равнодушно отвернулся.
– Кот, очевидно, сыт. Подозрительно.
– Я ему скормила свою колбасу. Я сама не ела, оставила ему… Ведь так, Маскоттик? – Маша погладила кота.
Маскотт ответил ей: «мур!», что на языке котов, как известно, обозначает «да».
– Ясно, если кот не лжет, он не ел воблы. Но ведь воблы-то нет! Ее мог съесть тайком от товарищей кто-нибудь из нас, например я, или наш министр финансов, или…
– Ох! – тяжело вздохнул Стенька. – Кабы я ее съел, так опился бы после.
– Правильно. Но мы не заметили и никого не можем обвинить в неумеренном потреблении чая… И поэтому остается последнее предположение: если казовая вобла была, в чем я лично – гм, кха – сомневаюсь, то кто-нибудь из нас утаил ее, и, надеюсь, с похвальным намерением. А потому все мы, подчеркиваю, все без исключения можем со спокойной совестью приступить. Я лично предпочитаю свою неказистую воблу испечь.
– Ах, неказистую! Давайте поменяемся, если вам завидно! – воскликнула Маша.
Но тут мы увидели, что Козан, не ожидая приговора, отвернул своей вобле голову и лупит рыбу. Все остальные последовали его примеру…
Трудный момент
– Не угодно ли вам, Алексей Максимович, к чаю лимона? – медовым голоском предложила после воблы Маша.
– Для лимона еще не настала пора. Некоторые, – Пешков покосился на меня, – давно предсказывали нам – даже за ухой из стерлядей – голод.
– «Голод» – запрещено цензурой, – поправил Абзац. – Разрешается только «недоедание».
– Спорить с цензурой бесплодно. При «недоедании» лимон будет весьма полезен в предстоящей части нашего путешествия, замечу, кстати, очень трудной. В Усе нам придется вступить в соприкосновение с туземцами.
– С дикарями? Ах! – восторженно воскликнула Маша.
– Я не сказал бы, непременно с дикарями. Туземцы могут оказаться и людьми культурными… Но возможно, что встретим и дикарей. Вообще предстоят испытания. Трудный момент! – Алексей Максимович строго обратился ко мне: – Ты слышал, что кричал тебе Макаров? «Что ты, спятил? В своем уме? Тащит и тащит лодку вверх, когда здравый смысл велит плыть вниз!» Ну, сударь, что вы скажете на это теперь?