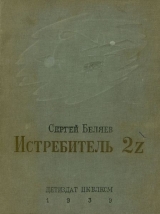
Текст книги "Истребитель 2Z"
Автор книги: Сергей Беляев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Бдительность
Этот осенний день начался в мастерской так же обычно, как все заводские трудовые дни. Голованов пришел, как всегда, первый и сейчас же засел за чертежи. Башметов немного запоздал. Осеннее солнце еще грело через окно. Но когда Башметов открыл форточку, в мастерскую ворвался порыв холодного ветра, взъерошил бумаги на столах, даже как будто прогудел под потолком. Впрочем, это прогудели две большие осенние мухи, притаившиеся в укромном теплом местечке. Ветер сорвал их, и они теперь от злости неприятно жужжали.
– Закройте форточку, Башметов, – попросил Голованов.
– С удовольствием, – согласился тот и, длинной линейкой шумно захлопнув форточку, грузно опустился на стул, долго копался в ящиках стола; наконец как будто успокоился. Но работа у Башметова не клеилась. Он начал мурлыкать свое обычное «Расскажите вы ей, цветы мои-и-и…», но вскоре замолк. Разложил чистый лист бумаги, поводил по нему пером, поставил жирную точку.
– Иван Васильевич, читали сегодняшние газеты?
– Читал, – ответив Голованов, не отрываясь от своего чертежа.
– Серьезные дела, Ваня… – приставал Башметов.
– Серьезные… Спуску фашистам не дадим, – сказал Голованов. – А между прочим, не мешайте, Башметов. В такие дни надо работать только по-стахановски, не меньше.
Башметов засмеялся:
– Ну, вот и обиделся, вот и раздражился! Спросить нельзя.
Он углубился в работу и завертел ручку арифмометра, прикидывая какие-то цифры на счетах.
Голованов неожиданно для самого себя попросил:
– Милый Башметов, вы бы меня со своим родственничком познакомили.
Лениво повернул голову Башметов и приложил ладошку к уху:
– Что такое? Я что-то плохо слышу вас, милый юноша. С родственником? Таковых не имеется.
– Уж будто бы и не имеется? А такой длинноносый, в шляпе…
– У вас, Иван Васильевич, размягчение мозга, – спокойно произнес в ответ Башметов, но Голованов опять приставал с вопросами:
– Башметов, меня давно мучают сомнения. Разрешите их. Почему вы так увлекаетесь фотографией? Почему вы коллекционируете иностранные марки, разные там «Мадагаскары»?..
Башметов сузил глаза и улыбнулся Голованову, обращая вопрос в шутку:
– Добавьте еще, Ванечка, «Тасмании», «Бразилии»… с лебедями и пальмами.
Голованов встретил острый, дрожащий взгляд Башметова и выдержал его:
– Добавим.
Тонкая дрожь теперь была не только в глазах, но и в кончиках пальцев Башметова. Стул упал, откинутый пинком ноги. Казалось, что у Башметова внезапно опухло лицо. Оно стало зеленовато-бледным и странно одутловатым.
– Вы, Иван Васильевич, все лето совали свой нос в мои дела. Ну, что ж… Разве у меня не должно быть друзей, с которыми бы меня связывали чисто художественные интересы? А если мне нравится собирать старые почтовые марки, любоваться их рисунками? Ведь я – коллекционер.
Башметов, как в истерике, вертелся перед Головановым, рылся в своих карманах, выкинул на стол карандаш, носовой платок, записную книжку:
– Смотрите! Что вы в них находите особенного? Обыкновенные почтовые марки!
Вытащил бумажник, раскрыл его… И вдруг, схватив правой рукой Голованова за шею, с силой пригнул его лицо к столу. Голованов закрутил головой:
– Пусти, гад! Знаем мы эти штуки!
Но уткнулся носом в подсунутый бумажник и тишь только почувствовал сладковатый запах, задержал дыхание и закрыл глаза. Промелькнула мысль: «Только бы по голове не тюкнул, собака!..»
Он попытался ухватиться руками за Башметова, но не удалось. В глазах начало темнеть…
Внезапно шее стало легко. Кто-то выдернул бумажник из-под носа. Но все-таки Голованов лягнулся. Каблук звучно стукнулся о стену.
– Легче, товарищ…
Плотная рука дружески хлопнула Голованова по плечу. Он раскрыл глаза и поднял голову. Константин Иванович стоял вместе с Груздевым рядом у стола. Башметова держали за локти двое из заводской охраны. Еще двое в форме НКВД стояли посредине комнаты. Бумажник валялся на полу.
Наркомвнуделец с тремя звездочками в петлице аккуратно спрятал револьвер:
– Идите, гражданин Башметов. Пустите его, товарищи. Он сам пойдет.
Башметов, опустив голову, медленно шагнул к двери.
Международный язык
Штурман Гуров, сидя в одиночной камере концентрационного фашистского лагеря, куда ввергнут был совершенно неожиданно, предавался размышлениям о великой пользе изучения иностранных языков.
В крохотной комнатке, сырой и мрачной, тяжело было штурману. Раз в день желтолицый страж приносил ему кусок черствого хлеба и небольшую миску отвратительной темной похлебки, где плавали какие-то жесткие зерна, перья и селедочная чешуя. Штурман страдал от голода, но еще острее и больнее – от неизвестности.
Где дорогой товарищ Антон? Какая участь ждет самого штурмана? Вероятно, Антона уже уничтожили и теперь собираются уморить и Гурова. Плоховато! Ну, да ладно…
«Если бы я умел разговаривать по-ихнему, – думал Гуров о фашистах, – я бы им крепко выложил все начистоту. Эх-хе, чортово положеньице!»
– Эй, вы! Газет сюда, книг! Литературы!.. Понимаете?
На столике под высоким окном валялись какие-то трепаные книги, но для Гурова они были непонятны, даже не поймешь, на каких языках напечатаны. Глядя, в минуты относительного спокойствия, на непонятные строчки, Гуров ругал себя, приговаривая: «Эх ты, Вася! Не успел научиться, вот теперь и казнись».
По правде если сказать, знал Василий Павлович Гуров, кроме русского, еще и французский язык, но не на столько, чтобы совершенно свободно на нем изъясняться. Нравились Гурову французские слова «кельк шоз», понятным звучало «доннэ муа» и стало совершенно родным и близким слово «камрад». Но в данном положении – это Гуров ясно чувствовал – требовались какие-то другие языки.
Безмолвный рослый слуга входил в камеру и приносил порцию похлебки.
Гуров пробовал было с ним заговаривать, но тот хранил бесстрастное молчание на своем светлошафранном лице.
Преодолевая отвращение, отхлебывал Гуров из миски, стараясь обмануть голод. Черствый хлеб он кусочками клал в рот и медленно пережевывал его, чтобы организму было легче усвоить пищу.
Больше всего он боялся, что обессилеет и сделается беспомощным. Он вспоминал свою прекрасную, счастливую родину, знал, что все там помнят о двух отважных летчиках, что приняты все меры и что если он не погибнет, то обязательно увидит снова рубиновые звезды родного Кремля.
Нет, надо сохранять силы. Надо быть готовым.
Гуров принимался петь. У него был приятный тенорок, и в товарищеских хорах штурман всегда бывал запевалой. Пение вселяло в него бодрость.
Широка страна моя родная…
Вынужденное безделье тяготило штурмана. Он занимался легкими физкультурными упражнениями, чтобы поддерживать крепость мускулов, и дыхательной гимнастикой для правильной вентиляции легких. Подходил потом к двери, стучал в нее:
– Все равно не согнете! Мы – живучие.
Однажды, в усталости, Гуров упал на железную койку и замер. «Спокойствие, штурман!»
Безмолвный страж явился в неурочное время. Положил на стол странный предмет и быстро удалился. Гуров спрыгнул с койки, воззрился на предмет в изумлении: «Вот так штука!»
На столе покоился струнный музыкальный инструмент, напоминавший нечто среднее между балалайкой и мандолиной.
В этих вещах Гуров знал толк и со вкусом умел изображать на них «руколомные» вариации. Попробовал штурман поиграть на этом инструменте. Сначала ничего не получалось: лады были настроены не по-нашему. Но Гуров повозился немного с ладами и струнами, настроил их по-балалаечному в мажорное трезвучие «до-ми-соль» и ударил по струнам концами пальцев, с присвистом да с притопом:
Светит месяц над рекою…
Наигрался доотказа: «Хватит!»
Смотрит, а дверь приоткрыта и чьи-то носы всунулись в комнату.
Гуров, возбужденный музыкой, крикнул, как на колхозной вечеринке:
– Эй, братишки! Подваливай! Подсобляй!
Двое светлошафранных цветом кожи, простоватых чертами лица парней любопытно вглядывались в Гурова. И не было сейчас в них строгой жестокости, как раньше, когда входили они «стражами» в камеру. В глазах у них было любопытство, и, поняв это, Гуров заговорил тихо:
– Что, работнички-подневольнички, нравится? Заходите, только дверь прикройте. Я вам «Чижика» на одной струне изображу.
Те двое осторожно шагнули через порог, прикрыли дверь, встали у стены – слушать. После «Чижика» сыграл Гуров веселые колхозные частушки, пропел задорно:
Колхозную рожь.
Чужаки, не трожь…
Пел штурман и думал, какая это любопытная штука – жизнь. Занесла его на море-океан, оттуда – в неизвестную страну, засадила его во вражескую одиночку, а он, нате-ка, частушки горланит. Вспомнилась девушка с каштановыми волосами, ясно так, будто вот тут кружится, движется в плавном танце, платочком взмахивает…
Платочек тот, подарок девушки, хранил и сейчас Гуров на память, никогда с ним не расставался.
Гуров увидел, что улыбаются оба слушателя, но пугливо как-то. Мысль пришла в голову, неожиданная в своей простоте:
– Подневольнички… Все вы, труженики, одинаковы! Хотелось повеселиться, да хозяина боится? Ну, идите, а то попадемся.
Поигрывая на струнах подаренной балалайки, Гуров успокаивался. Вспоминал он, как вышел Лебедев из необычного летающего танка и как взглянул на своего штурмана, как выражением глаз дал понять ему, чтоб не беспокоился Гуров, чтоб бодр был штурман и готов к действию, использовал бы каждое благоприятное обстоятельство. И тогда же глазами ответил штурман: «Будет исполнено, товарищ начальник».
Двое стражников опять вошли в камеру. Гуров был погружен в свои мысли. Но у парней он увидал такие просящие глаза, что отказать показалось невозможным. Он заиграл очень грустную песню:
Ах, где вы, где, товарищи мои?
Где боевые кони?
И где подружки, шашка и винтовка?
Ужель не мчаться больше мне
На скакуне лихом
Просторами степными?
Склонил голову. Не заметил, как осторожно ушли посетители. Под потолком зажглась крохотная лампа. Надвинулись сумерки и тоска.
* * *
А Лебедев в это время томился в камере на другом конце лагеря.
Когда его перевезли сюда из тюрьмы, он решительно заявил начальнику стражи:
– Вам не удастся заживо схоронить меня и Гурова!
Тюремщик криво ухмыльнулся и ушел. Звякнул замок. В камере воцарилась тишина.
Лебедев подошел к двери, застучал в нее кулаками и ногами.
В двери приоткрылось квадратное оконце, забитое крепкой железной решеткой. За прутьями ее виднелось шафранно-желтое лицо стража.
– Ваши отвратительные дела известны всему миру, – сказал Лебедев.
Оконце глухо захлопнулось. Лебедев постоял перед дверью в раздумье, прошелся по камере, посмотрел на окно под потолком. Там виднелся крохотный клочок голубого неба.
«Мы выехали из подводной лаборатории третьего дня поздно ночью, – подумал Лебедев, – сейчас начинается утро… И где я? Где эта одиночка? Африка? Азия? Европа?»
Ему вспомнился океан, бурный, ненасытный, зловещий, полный неожиданностей. Он тщательно перебрал в памяти все события последних дней: полет с Урландо, проба истребителя, встреча с Бенедетто, пришедшим в бешенство от одного слова «коммунист». Лебедев обдумывал все тончайшие оттенки обстоятельств, как опытный шахматист обдумывает эндшпиль, прозорливо предугадывая последний ход противника.
И когда, через четыре часа напряженной работы мозга, все было продумано, Лебедев снова сильно постучал в дверь.
– Я требую прогулок, – сказал он, когда оконце открылось.
Глаза стража смотрели на него внимательно и бесстрастно. Лебедев повторил свое требование на пяти европейских языках. Окошечко захлопнулось. Через несколько минут страж принес кружку воды, кусок хлеба, шепотку соли на кусочке бумаги, внимательно посмотрел на Лебедева и исчез.
Лебедев обследовал бумагу. Кусок был не более четверти ладони. Грязновато-серая бумага, без всяких следов букв или цифр. «Но все-таки это – неспроста», подумал Лебедев.
Он вспомнил стражей Урландо. Широкогрудые великаны, у которых только, пожалуй, туловище длиннее, а ноги короче, нежели у европейцев. Да, вероятно, это были туземцы с тихоокеанских островов, маори. Сейчас здесь Лебедева сторожат люди, тоже не похожие на европейцев. Значит, и здесь фашисты на черную работу берут туземцев. Это удобно для Урландо и Бенедетто. Но разве мирные цветные народы колониальных стран так уж безмолвно переносят угнетение фашистских варваров?
Часы тянулись томительно и тоскливо. Страж принес миску с похлебкой и опять внимательно посмотрел на Лебедева.
В камере зажглась крошечная тусклая лампа, и Лебедев догадался, что наступает вечер.
Он не спал ночь, дожидаясь, когда покажется в окне кусочек неба. И стражу, принесшему утром кусок хлеба, он шопотом сказал:
– Аддис-Абеба…
На мгновение Лебедеву показалось, что в глазах стража мелькнуло что-то, – мимолетное сочувствие, что ли?..
После ухода стража Лебедев медленно стал жевать хлебную корку, обдумывая, как быть дальше. Он плохо чувствовал себя без сна, но мысль, которая занимала его, придавала ему бодрость.
И когда страж принес в урочный час обычную порцию тепловатой похлебки, Лебедев выждал внимательный взгляд его и сказал выразительно:
– Я – коммунист.
Лицо стража дрогнуло. Это мгновение, когда человек безмолвный и, повидимому, замуштрованный до потери собственного «я», все яге отозвался, хотя бы легким движением, на его слова, потрясло Лебедева. Он почувствовал, что нащупывается какой-то выход из положения. Родная страна принимает все меры, чтобы разыскать и спасти своих верных сыновей, в этом Лебедев ни на секунду не сомневался. Но надо и самому итти навстречу товарищеской помощи всеми способами, какие есть в распоряжении. Может быть, друзья и товарищи тут где-то, близко…
– Я – коммунист, – повторил Лебедев.
Страж опустил глаза и быстро вышел.
Тянулись нудные и однообразные часы заключения. Сменялись дни и ночи. Вечером в камере Лебедева зажигалась крохотная лампа. Когда белесый рассвет лениво вползал в окошко и кусок потолка светлел, лампочка потухала.
Дважды в день приходил страж, и Лебедев повторял:
– Я – коммунист.
В эти слова он вкладывал всю силу своих чувств, всю свою великую надежду.
Однажды вместо одного пришли два стража и вывели Лебедева из камеры. Шагая по коридору, он приготовился к самому наихудшему. Через какие-нибудь пять-шесть минут все будет кончено…
Небольшой дворик, обнесенный забором из колючей проволоки, был пуст и тих. Солнце склонялось к западу. Тонкий золотой край светила брызгал последними лучами над далеким безлесым надгорьем.
Лебедев остановился на пороге и жадно вдохнул в себя свежий вечерний воздух. Нескольких секунд достаточно было для пленника, чтобы вглядеться в окружающее. Низкие, приземистые дома, под крышами – квадратные окна. Вдали – ряды проволочных заборов, за ними чуть зеленеет лес…
Страж подтолкнул Лебедева, и он сошел по ступенькам. Остановившись посредине дворика, он поглядел на небо. Оно расстилалось над ним, такое знакомое и такое манящее. Воздух, прозрачный и неподвижный, наливался сумерками. Далеким огоньком выступала первая звезда, и Лебедев узнал ее: «Сириус, и так низко над горизонтом? Следовательно, я – в Северном полушарии…»
…Пробежали еще дни, и снова – предвечерняя прогулка. Лебедев услышал рокот мотора. Где-то над лагерем летел самолет. Сердце Лебедева сжалось в такой тоске, что он до крови прикусил себе губу, чтобы не закричать. Надо быть хладнокровным, никому нельзя давать повода заподозрить себя в малодушии. Лебедев чувствовал, что сзади за каждым его движением следит обычный безмолвный страж. И Лебедев решился. Он пойдет сейчас на приступ с развернутым знаменем, чтобы завоевать человеческое сердце. Теперь на земле живут слова, которые одинаково звучат на всех языках. Пусть эти слова сейчас раздадутся за колючей проволокой фашистской тюрьмы.
Лебедев повернулся к стражам, поманил к себе и, когда они приблизились, показал рукою на север:
– Сталин!
Он ждал, что сделают в ответ эти люди. И еще раз он медленно произнес имя человека, дороже которого не было у Лебедева никого. И тогда вдруг почувствовал он осторожное прикосновение теплой ладони стража, стоявшего слева. Лебедев увидал, как оба стража смотрели туда, на север, с робкой, затаенной надеждой. Глаза их светились новым выражением, какого Лебедев никогда раньше у них не видал. Но это длилось только мгновение. И снова лица их стали суровы и непроницаемы.
«Поняли! Но как быть дальше?»
В камере Лебедев опять провел долгую ночь без сна. Он закрывал глаза и видел свежее синее небо в звездах. А откроет глаза – прежний сумрак, железная койка, крохотный стол, миска, кружка с водой, кусок хлеба, щепотка соли на клочке бумаги.
Лебедев машинально взял его, думая одно и то же: «Что дальше, если поняли?»
И когда утром пришел страж, то ни слова не произнес Лебедев, а только протянул ему кусочек бумаги. Тот взял и взглянул на нее. Бумага была попрежнему пуста и безмолвна. Лебедев осторожно оторвал уголок. Страж прищурил глаза и, тая в них что-то такое, чего еще не отгадал Лебедев, в свою очередь оторвал другой уголок.
Мысль ворвалась неожиданно, как яркая молния, как бешеный прилив вдохновения. Лебедев, делая усилие воли, чтобы не дрожали пальцы, взял клочок бумаги из рук стража. Ему показалось, что из этого бесформенного куска получались теперь очертания фигуры. Страж следил за пальцами Лебедева… Затем дрожащей рукой взял бумагу. Он работал пальцами неуклюже, и биенье сердца угадывалось Лебедевым в порывистом дыхании этого человека, затянутого в черный тугой мундир.
Лебедев отступил на шаг, смотря на стража в чрезвычайном волнении. Этот безмолвный замуштрованный раб понял мысль Лебедева.
Захлопнулась дверь, стукнул замок. Лебедев опять один.
На столике рядом с кружкой воды лежал кусок бумаги. Очертания ее были теперь новы. Лебедев бросился к столику. Здесь лежала бумага… Нет, из бумаги… пятиконечная звезда.
Будем готовы!
На опытном аэродроме завода Груздев с Головановым смотрели в мощные бинокли, как в воздухе кружили две небольшие авиамодели с крохотными бензиновыми двигателями.
Модели спиралями ввинчивались в голубую небесную высь, двигались по прямой, расходились в разные стороны, потом быстро летели навстречу. Казалось, что быстрые птицы сейчас столкнутся, но вдруг одна пролетала над другой, поворачивала, и снова они кружили вместе.
Груздев наклонился и сказал в полевой телефон:
– Товарищ Завьялов, пускай садятся: бензин на исходе.
Модели повернули и начали снижаться.
– Двести секунд в воздухе, – посмотрел Голованов на хронометр. – Бачок бы побольше! Нужно не менее десяти минут.
– Хватит на первый раз, – ободряюще отозвался Груздев. – Смотри, как приземляются наши птички, совсем ручные…
У ангаров модели опустились на землю. К ним спешили техники и рабочие экспериментальной бригады.
У раствора шестого ангара, откуда выводили серийный самолет «Б-19», стоял и смотрел на мощную стальную птицу секретарь заводского партколлектива. Голованов как-то несмело поздоровался:
– Здравствуйте, товарищ Звягин…
Но Константин Иванович подозвал комсомольца к себе:
– Ты что это глаза опускаешь, будто красна девица?
Голованов посмотрел на секретаря:
– Все совестно мне… Как же это я тогда так прошляпил?
– Что такое?
У Голованова глаза заблестели горечью и тревогой:
– Сами посудите. Я забыть не могу про Башметова-то. Стоит он тогда у окна неподвижно, прямо скульптура какая-то… Помню, муха уж в окно улетела, а в мастерской, слышу, «тик-тик», будто будильник. А у гада правый локоть вот этак, вот этак…
– Ну?
Голованов сжал кулаки:
– Мне бы его тогда за лапу цап – и с поличным… Эх, прошляпил я тогда, Константин Иванович! С тех пор покою не нахожу. Товарищам в глаза не совсем удобно даже смотреть, честное слово!
Подошел Груздев. Секретарь кивнул ему головой:
– Слыхали, Владимир Федорович? Из-за трусливой душонки, из-за негодяя никак не может успокоиться ваш помощник.
Груздев покачал головой:
– Я Ваню понимаю.
Константин Иванович положил руку на крепкое плечо комсомольца:
– Можешь успокоиться, товарищ Голованов. Ты хоть и горячился тогда, но вел правильную линию. Если припомнишь, в тот день, как ты мне заявил о своих подозрениях, пришел ко мне приятель из Наркомвнудела тоже с предупреждением. Взяли мы кого надо под наблюдение. Длинноносый, которого ты заприметил у завода, оказался действительно вредный человек. Это хитрый и потому вдвойне опасный враг. Он забрал в руки Башметова, запугал его. А у Башметова оказалась душонка мелкая, ничтожная. Вот вражьи семена и дали всходы…
Очень ясно вдруг представил себе Голованов, как на опытном поле сорный чертополох пытался заглушить пшеницу и как потом пришлось заново перепахивать поле, выжигать сорные травы… И «Урожай» при втором опыте прошел замечательно.
Голованов с жадностью слушал секретаря партколлектива.
– Этот Башметов должен был немедленно заявить кому следует о наглых предложениях фашиста-диверсанта, а вместо этого он стал колебаться и якшаться с ним. А началось с самых невинных пустяков…
– Интересно! – заволновался Груздев.
– И поучительно. Началось у них с почтовых марок. Коллекционеры-любители. Сначала редкостные марки собирали, разные там «Борнео» и «Целебесы». Потом этот самый Любитель втянул Башметова в переписку с заграницей, в «обмен коллекциями». А на самом деле – марки эти были шифр.
– Как?! – воскликнул Голованов.
– Ну, уж подробностей рассказать я тебе не сумею. Но, во всяком случае, все эти фашистские штучки были раскрыты нашими прозорливыми товарищами. Разгадали они, что переписка велась не словами, а марками. Надо было только переписывающимся знать секретный код. Марка такая-то означает то-то. Если ее, как бы по ошибке, наклеить чуть наискось, это уже означает иное…
– А от переписки с заграницей перешли к прямому шпионажу и диверсиям, – вмешался в разговор Груздев. – Мерзавец систематически фотографировал через окно мастерской, что делалось у наших ангаров. И часть этих снимков Любителю удалось переправить своим хозяевам.
У Голованова гневно сжались кулаки:
– Это-то я и прозевал! Все хотел на разговоре его изловить. А он моим ротозейством пользовался, чтобы к окну пробраться…
Константин Иванович заметил с удовлетворением:
– Шпиону ничего важного заснять не удалось. Теперь об этом и вам сказать можно.
– Не удалось?
Константин Иванович утвердительно кивнул головой.
– Испытание моделей мы тогда же перенесли на другой аэродром. А из пятого ангара нарочно кой-когда выводили дефектные экземпляры, ста-арые, из складов доставали. Перехитрили мы любителя фотографии.
Голованов с восторгом посмотрел на секретаря:
– Вы все знаете, Константин Иванович!
Звягин хитро улыбнулся:
– Теперь и вам, Иван Васильевич, нужно знать кое о чем. Вам не казалось странным, что товарищ Груздев стал что-то мало бывать на заводе?
Голованов смутился:
– Да… то есть нет… Я не понимаю.
Груздев тоже улыбнулся. Потом стал простым и серьезным, взял Голованова под руку:
– Видите ли, Ваня, есть одна такая лаборатория, номерная, недавно организована. Я руковожу ее работами. Туда подбирают людей только сугубо проверенных. Вот мы с Константином Ивановичем и решили привлечь к работе и вас.
Тот подтвердил:
– Обязательно.








