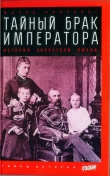Текст книги "Выстрел Собянской княжны"
Автор книги: Сергей Лавров
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Глава вторая
СВИДАНИЕ
I
Костя умолк, опершись локтями о старый аналой, покрытый вытертой церковной парчой. Друзья, затаив дыхание, смотрели на него во все глаза, ждали продолжения романтической истории. Слышно было, как поверху, над этой кладовкой, полной старой церковной рухляди, ходит меж скамей для певчих дьячок, бормочет молитву и колпачком на длинной палке гасит свечи у верхнего оклада царских врат.
– Ну же! – не выдержал Петька Шевырев. – И она призналась?! Ты арестовал ее?!
– Как я мог ее арестовать?! – вскричал Константин. – Я люблю ее больше всей жизни – как же я мог ее арестовать?! Я пропал, я погиб, все кончено… Мне без нее не жить! – и он в отчаянии уронил голову на аналой, лицом на скрещенные руки.
Вася Богодухов, мальчик с лицом спокойным и благостным, как огонек свечи, ласково погладил Кричевского по ершистому затылку.
– Уныние, Костичка, самый тяжкий грех. Господь даст – все будет хорошо. Что же дальше было с Александрой? Где она сейчас?
– Дома она, где же ей еще быть? – со вздохом отвечал Константин. – Евграфыч отпустил ее. Спросил у нас у всех, хорошо ли мы расслышали сделанное заявление, переписал все фамилии… Она объяснила, конечно, что выстрел был ею произведен нечаянно, во время заряжания револьвера. Станевич велел ей не покидать Петербург и утраты револьвера не допустить, и отпустил… Уважительно даже отнесся, когда узнал, что она княжна!
– А она княжна? – зачем-то усомнился Василий.
– Ну конечно! Если бы ты ее видел, сразу бы поверил!
– Ты проводил ее? – жадно полюбопытствовал Петька, щуря узкие глаза на широкой, круглой, точно сковорода, роже. – Вы целовались?!
– Пристав велел с ним идти, протоколы оформлять, – с сожалением вздохнул Кричевский. – Вот и провозился дотемна!
– А раненый? – спросил Богодухов.
– Какой раненый? – не понял его помощник пристава. – А, этот… Инженер… Ничего! Дали ему опиумных капель, он уснул, и кровотечение остановилось! Только Сашеньку оговорил, гад!
– Он не оговаривал, – мягко поправил друга Василий. – Он правду сказал. Ведь она же в него стреляла.
– Кому она нужна, его правда?!
– Правда нужна всегда, – возразил Богодухов.
– Надо, прежде всего, быть благородным человеком! – возмущенно крикнул Константин. – О других думать, а не только о себе! Она же не со зла стреляла, а случайно!
– А вот в этом разберется наш новый российский суд присяжных! – хохотнул Петька.
– Не будет никакого суда, – убежденно сказал худенький золотушный Васька. – Твой немец выздоровеет, и они помирятся.
– Час от часу не легче! – воскликнул Костя. – А я?!
– А надо думать не только о себе, но и о людях! – подкузьмил его Петька. – Везет тебе, Костька, с княжнами знаешься, не то что мы – только с местными дуньками… Господа, позвольте, теперь я расскажу! Я сегодня в городе, на Невском, в большой думской зале слушал публичные лекции по истории! Профессор Костомаров читал! Народу было – тьма! Уморительно просто! Оказывается, все, чему нас с вами учат в гимназии, – чистой воды вранье!
– Кроме Закона Божьего, – кротко поправил его Василий, наставительно подняв тонкий палец.
– А что это тебя понесло в большую думскую залу? – спросил глухо Константин, не отрывая лица от стола. – Ты прежде не имел такого рвения к наукам!
– Алексей Феофилактыч говорит, что журналист должен постоянно расширять свой кругозор! Я буду ему помогать, бывать на разных подобных собраниях и ему рассказывать, а ежели в последующем у меня и слог выявится, сам начну публиковаться! Представляете?! Во всю страницу в «Петербургском Вестнике» моя фамилия!..
– Он не с Фонтанки, твой Феофилактыч? – угрюмо, со знанием дела поинтересовался Костик. – Не из Третьего отделения? А то он, похоже, в осведомители тебя вербует, а тебе, прянику тульскому, и невдомек!
– Еще чего! – открестился Петька. – У меня своя голова на плечах! Я в утиратели слез note 4
[Закрыть]не гожусь! Корреспонденты – независимые ни от кого люди!
– Нельзя быть независимым ни от кого, – возразил Богодухов. – Это грех – только от себя зависеть.
– Что ты понимаешь! – свысока похлопал приятеля по плечу Шевырев. – Дремучий ты наш проповедник! С такими, как ты, мы никогда Европу не догоним! Как вы полагаете, месье Кричевский?!
– Не знаю! – отрывисто и нервно отозвался Константин. – Ничего не знаю, ни о чем не могу думать! Только о ней!
– О родителях думай, – с назойливой требовательностью и заботой указал ему подрастающий пастырь. – Они-то знают?
– Еще чего! – возмутился Костя Кричевский. – Я и дома-то еще не был! И не скажу я им ничего! Все одно, они в любви ничего не смыслят, это же ясно! «Страсть, безумное желанье!» – им и слова-то такие неизвестны, честное благородное слово! А ты, Васька, если вдруг влюбишься, неужто все отцу расскажешь?!
– Отцу не знаю, – чрезвычайно честно и твердо ответил Василий, – а матушке непременно расскажу.
– Это дело твое! Но заруби на своем поповском носу: если хоть слово кому про княжну сболтнешь – не быть тебе патриархом, семинаристская твоя рожа! Туда увечных не берут!
– «Она лежала при луне, нагие раздвоивши груди, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне…» – мечтательно пропел Петька, зажмурив глаза.
– Ух ты!.. – открыл рот Кричевский. – Чей стих?!
– Не запомнил. Какой-то Фетр… или Хетр? Алексей Феофилактыч дал прочесть. Говорит – будет знаменит…
– Дай списать!
– Не здесь! – возмущенно зашипел на приятелей Васька Богодухов, замахиваясь на святотатцев толстым томом поучений Иоанна Златоуста. – Вы же в церкви! Вон пошли, бесовы дети! Уже отец Ираклий двери запирает! Господи, прости меня, грешного, и дай силы…
– Вразумить этих заблудших овец! – в один голос подхватили Костя с Петькой знакомый им с младых ногтей рефрен. – Уймись, святой Василий! Уходим мы! А то, чего доброго, соблазнишься – и погубишь безгрешную душу! В угол! На горох! Молиться, пока свеча не сгорит! И свечку поставь не копеечную, а в алтын, не меньше! Не лукавь перед Господом! Он все видит!
Добродушно улыбающийся Богодухов закрыл за хохочущими юношами двери бокового притвора. Морозный ветерок освежил Костю Кричевского. Внезапно ощутил он такой прилив сил и уверенности, как тогда, когда подал ей меховой салопчик.
– Ого-го-го! – закричал Костя что есть мочи, сбежав с крыльца. – Ого-го-го!!
Он схватил под микитки тучного приземистого Шевырева и, не слушая причитаний, легко закружил его в воздухе, после чего, точно пушинку, швырнул в большой сугроб у церковной ограды, тщательно выровненный приходским сторожем. «Я люблю ее! Я люблю ее!» – билось сердце в его груди. Кричевский вскинул руки в щегольских перчатках, насколько позволяла шинель, и принялся посылать в темное заснеженное небо один за одним воздушные поцелуи. За перчатки не по форме ему не раз перепадало внушение от Розенберга, но Костя не мог отказаться от такого шарма.
Петька Шевырев все возился в сугробе, все пыхтел и угрожал проделать с «господином полицейским» то же самое, но, когда выбрался наконец, почел за благо не связываться. Кричевский помог ему очиститься от снега, нахлобучил на уши приятеля теплый картуз. Они пошли расчищенной дорожкой, у церкви широкой, на улице – узкой. Анютка Варварина, в драной овчинке на плечах, в чунях и впопыхах накинутом платке, весело стреляя глазами, улыбалась чему-то до ушей, попалась им на дороге и засмущалась, пробегая мимо.
– Слышь, Костя! – заговорщицки начал Петька, забегая. – А что если я заметку напишу об этом деле? Феофилактыч ее в «Дневнике приключений» note 5
[Закрыть]поместит! Ну, надо же мне с чего-то начать! А? Чего еще в нашей жизни дождешься необычайного, об чем в газетку прописать можно?! Насчет гонорара не сомневайся – честное благородное слово, пополам! А?! Чего ты смеешься? Выручи, а?!
– Дурак ты, Петька! – твердо сказал Кричевский, любуясь своим благородством. – Даже думать забудь! Любовью не торгуют!
– Еще как торгуют! – азартно возразил Петька. – По всей Утешной улице! И в Пассаже, во втором ярусе, у белошвеек! «Не очень много шили там, и не в шитье была там сила!..» – продекламировал он модный в Петербурге стих Некрасова.
– Это не любовь, – красиво сделал двумя пальцами жест Кричевский, посмотрел на пальцы внимательно и еще раз повторил жест. – Нет, эт-то не любовь!.. Прощайте, господин щелкопер! Предупреждаю: если хоть словечко накропаете о том, что я вам по дружбе рассказал, вызову на дуэль! Я не шучу! Пиф-паф-ф!.. – и он прицелился в голову Петьке Шевыреву все теми же пальцами в тонкой лайке.
Когда за Шевыревым со знакомым стуком захлопнулась дверь парадного, юный Кричевский пошел по улице, полагая, что направляется к родительскому дому, но на самом деле забирая все влево и влево, кривыми поперечными дорожками, пока не оказался прямо перед инженерским домом, где жила княжна Омар-бек, она же Сашенька. Здесь он остановился, задрал голову так, что форменная шапка-пирожок едва не слетела с макушки (из желания пофорсить Костя по осени попросил скорняка сшить ему шапку размером поменьше), и принялся выглядывать окна предмета своей страсти. В окнах третьего этажа там и сям тускло светились фитили керосиновых ламп и свечей. Отчего-то Константин облюбовал одно окно с темными бархатными портьерами и кистями, где три свечи стояли на подоконнике в изящном подсвечнике.
– Милая!.. – напевал Константин Афанасьевич, мечтательно раскачиваясь, постанывая страстно и со стороны напоминая подгулявшего приказчика. – Ты услышь м-меня-я!.. Под окном с-стоюю! Я с гита-ро-ю-у!..
Отчего-то слова романса выходили у него угрожающими, будто милой, если она туговата на ухо, не избежать скорой и справедливой расправы.
Внезапно увидал Константин Кричевский, как в облюбованном им окошке меж портьер с кистями появился точеный профиль Собянской княжны. В том, что это была она, сомневаться не приходилось. Она взяла подсвечник и смотрела на пламя. Черная четкая тень отбрасывалась ее красивой женственной фигурой и курчавой головкой на заиндевевшее окно. У молодого Кричевского перехватило дыхание, он замер с открытым ртом, и баба с ведрами, проходившая мимо, невежливо толкнула его, плеснула на ноги, сказала:
– Эка остолбенел барчук!.. Не иначе померещилось чего… Свят-свят! Много нынче всякой нечисти… – и несколько раз смачно плюнула по сторонам, полагая, что плюет прямо в рожу дьяволу.
Видение продолжалось едва ли дольше боя часов. Княжна отошла вглубь темной комнаты, унося свечи.
Несколько раз закрыв и открыв глаза, видя перед ними все один и тот же черный силуэт (это словечко только входило в моду), Костя Кричевский ощутил вдруг озноб, да такой, что крепкие молодые зубы его застучали. Несколько раз вдохнув энергически воздуху, как учил их преподаватель фехтования в гимназии, незаметно и быстро перекрестился трижды малым знамением в области сердца, вспомнив неожиданно морщинистую добрую руку матери с колечком и синим камушком, Константин вошел в темное парадное. Решительно, без колебаний, не зажмуриваясь – одним отчаянным движением, каким летом нырял в темную, холодную, быструю Неву с высоких свай заводской пристани…
II
В такт ударам сердца поднимался он по лестнице: удар – ступенька, удар – ступенька… Дверь в седьмой номер была заперта, и он нервно подергал корявую проволочную петлю, заставив уныло брякать в глубине квартиры жестяной колокольчик. Никто не отвечал, и Кричевский подергал проволоку снова, с некоторым раздражением, поскольку точно знал, что княжна дома.
– Ч-черт!.. Дверь, что ли, сломать?.. – хрустя костяшками пальцев, сказал он себе под нос.
Он испытывал небывалый ранее нервический прилив сил, желание поскорее, во что бы то ни стало, увидеть ее, и грубое препятствие в виде глупой коричневой двери раздражало его. Он громко постучал костяшками пальцев, а потом даже гулко бухнул в дверь носком сапога.
Внезапно послышалось ему за дверью тихое шевеление, осторожные шаги.
– Княжна! – обрадованно закричал Константин. – Княжна, откройте! Это я, помощник станового пристава! Вы помните меня?! Господи, неужели я напугал бедняжку?.. Идиот!..
Довольно долго ему не открывали. Константин Афанасьевич со свойственной ему прозорливостью решил, что княжна уже собиралась отойти ко сну после всех перипетий сегодняшнего непростого дня, а теперь поспешно приводит себя в порядок, вспомнил розовый с воланами лиф и решительно прогнал от себя видение стройного смуглого женского тела.
Терпение его было, наконец, вознаграждено. Дверь открылась, и сама Сашенька встретила его на пороге с оплывшей свечой. Лицо ее казалось похудевшим и оттого еще более прекрасным. На ней была темно-синяя домашняя юбка и просторная кофта грубой вязки с очень широкими рукавами, открывающими руки до локтя, стоило ей поднять их. Волосы она стянула атласной синей лентой, обвитой вокруг головы через лоб, отчего выражение лица сложилось неприветливое и дикое.
– Полиция?! – сердито сказала она, вглядываясь во тьму лестницы. – Не довольно ли на сегодня, господа?!
– Княжна, простите, Бога ради… – умоляюще сказал Константин, внезапно оробев, не зная, как объяснить ей все чувства, им пережитые по дороге. – Я просто проходил мимо и подумал, что вам, может статься, есть в чем-либо нужда… Я… Я просто хотел вас увидеть.
Он виновато, точно школяр, снял свою шапку-пирожок и держал ее перед собой двумя руками.
– А! Это вы!.. – сощурилась княжна и поднесла свечу к его лицу, так, что пламя вовсе заслонило ему весь вид. – Что, на дворе мороз?
– Не очень… А почем вы судите?
– У вас уши и лицо красные. Что ж, проходите, поздний гость, в келью одинокой затворницы! Входите, входите, не смущайтесь! Я вам обязана участием, а я это помню! Неблагодарности не терплю с детства! Выпьете чаю или вина? Или, может быть, нам приготовить пуншу?
Кричевский снял в прихожей тяжелую шинель, тотчас ощутил себя подтянутым и ловким, и, поеживаясь, вошел в нетопленые комнаты, освещенные свечами и керосиновой лампой, стоявшей на маленьком столике с инкрустацией. Тут же стояла фарфоровая грубая тарелка с нарезанным яблоком, лежала серебряная вилка. В старинной вазе в форме чаши, поддерживаемой купидоном, лежали горкой восточные сладости, рядом стояли узкие темные бокалы и початая бутылка красного вина. В красном углу, где место образам, курились благовонные палочки. Поискав глазами икону, Костя припомнил, что княжна магометанка, а Лейхфельд лютеранин, и перевел глаза на обстановку комнаты.
Тотчас поразил его хаос, царивший всюду. Дверцы тяжелых шкапов были приоткрыты, посуда в горке сдвинута с места, пара резных фигурок, изображавших аллегорически семейное счастье, стояла как придется, покрывала на диванах вдоль стен лежали кое-как и было такое впечатление, что их сию минуту только накинули в спешке. Тяжелый бухарский ковер пошел крупными волнами, точно морская гладь, и даже картина, изображавшая императорскую охоту, висела на стене криво.
Едва успев оглядеться, Константин с превеликим неудовольствием для себя понял, что они с княжной в квартире не одни. Из глубоких кресел, стоявших спинкой к двери, навстречу ему поднялся массивный рослый человек лет тридцати пяти, с окладистой бородой, в добротном сюртуке, с цепью и значками на ней. Незнакомца, как видно, тоже не обрадовал приход Константина. Особенно не по вкусу ему пришелся новенький мундир полицейского чиновника тринадцатого класса, с сияющими медными пуговками. Оглядев его (не Костю, а именно мундир) небрежно и недоброжелательно, неизвестный господин убрал руки за спину и отвесил холодный поклон, не сказав ни слова.
– Знакомьтесь, господа! – хрипловато произнесла Александра из-за спины Кричевского. – Господин Кричевский, мой новый приятель… Господин Белавин, мой старый добрый друг…
– Очень приятно, сударь! – горячо сказал Костя, а господин Белавин лишь сдвинул теснее каменные скулы и повторил поклон.
– Что это у вас, княжна, все так перевернуто? – спросил Константин, озираясь. – Точно Мамай прошел?
– Ах!.. – сказала княжна Омар-бек и потянулась, словно жалуясь на усталость. – Это, однако, мы с господином Белавиным деньги искали!
– Однако вы скажете, княжна! – завертел бородою господин Белавин, так, точно твердый крахмальный ворот рубахи стал ему внезапно тесен. – Можно разве такие вещи говорить при полицейском?!
– Полноте вам, Ефим Мартынович! – Сашенька легко и доверчиво, точно играючи, постучала пальчиком по его гулкой груди. – Костя не полицейский сей час, а мой гость! И он видит прекрасно, что я шучу! Не правда ли, Константин Афанасьевич, вы это видите?
– Разумеется, – сухо сказал Кричевский и кивнул, хотя вовсе не находил сложившееся положение годным для шуток.
Вид у господина Белавина был если не грозный, то уж точно недовольный. Он хмурил густые брови и недобро посматривал из-под них на княжну, которая, как показалось молодому человеку, с приходом нового лица воспряла, обрадовалась и, кажется, подсмеивалась над хмурым видом своего «старого доброго друга». Его недовольство и несвобода его высказать в присутствии постороннего забавляли Сашеньку. Ощутив себя в роли защитника, Костик тотчас расправил плечи и вовсе перестал робеть незнакомого господина, готовый даже при надобности выставить его за дверь по первому желанию милой хозяйки.
Белавин, однако, вовсе не собирался проявлять враждебность. Напротив, приглядевшись, Константин со свойственной ему наблюдательностью, обостренной ревностью, заметил, что Ефим Мартынович изрядно нервничает и чего-то побаивается, чувствуя себя не в своей тарелке. Широкие сильные пальцы его, унизанные большими перстнями, заметно дрожали, когда он достал из кармана плоскую серебряную коробочку с вензелями на крышке.
– Экая забавная у вас табакерка! – не сдержал удивления Кричевский.
– Это портсигар-с!.. – с плохо сдерживаемой неприязнью ответил Белавин и щелкнул крышкой. – Для папирос-с!..
В коробочке рядком, одна к другой, лежали невиданные ранее Константином белые бумазейные палочки. Белавин достал одну и прикурил от фитиля лампы, закоптив стекло, а портсигар убрал.
– Фи, Ефим Мартынович! – улыбнулась ему в лицо Сашенька, дразня хмурого господина. – Отчего же вы не угостили господина Кричевского папироской? Это же дурной тон!
– Еще чего! Стану я угощать всякого… – пробурчал этот моветон, и Костя поклясться был готов, что Белавин хотел сказать «всякого полицейского», да не решился.
– Тогда я его угощу своими! – и княжна легко порхнула в другие, темные комнаты. – Константин, вы еще не курили папирос? Они только недавно в продаже! «Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не любить? – высоко запела она из темноты слова наиновейшего романса. – Не по прихоти ж случайной стали все тебя курить!»… Вот, попробуйте, вам понравится! Это сейчас курит вся светская молодежь, и я решительно не хочу, чтобы вы отставали! Возьмите, возьмите всю коробку! Я приказываю! Как, господин Белавин, вы уже уходите?! Я сейчас приготовлю пунш!
– Покорнейше благодарю! – сердито отозвался Белавин, твердыми шагами пройдя в прихожую и натягивая там свое тяжелое пальто. – У вас есть теперь более приятная компания для пунша и всего прочего, извольте далее шутить в ней! Позвольте лишь вам напомнить, что приятели мои люди серьезные и шуток подобных на дух не переносят! И у них есть средства, чтобы заставить раскаяться любого! Так что постарайтесь припомнить то, ради чего я приходил! Ради вашего же блага, княж-на!
В последних фразах его прозвучала откровенная неприкрытая угроза и саркастическая насмешка, почти издевка.
– Извольте, сударь, выражаться яснее! – вскричал Костя, сжимая кулаки, ощущая яростный холодок под ложечкой и шевеление волос на коротко остриженном затылке.
Он готов был тут же на месте заставить толстого нахала принести извинения! Но Белавин даже не глянул в его сторону, ушел, высоко задирая голову и бороду, точно засупоненная лошадь, громко стуча тяжелой тростью со свинцовым стержнем внутри.
В наступившей затем тишине молодые люди долго смотрели друг на друга, не шевелясь. Константин был не в силах отвести глаз от милого лица, каждая черточка которого сделалась ему вдруг роднее всего на свете. Сашенька стояла у двери, держась за щеколду, и длинные черные ресницы ее отбрасывали тени на щеки. Она со вздохом распустила синюю ленту, опоясывавшую голову, и освобожденные волосы, шелестя в тишине, покрыли виски.
– Княжна! – горячо сказал Кричевский. – Если у вас в чем-то затруднительные обстоятельства, доверьтесь мне, прошу! Вы не найдете друга вернее!
Александра подняла голову и с любопытством посмотрела на него иным взглядом. Не так, как полминуты назад.
– Я верю вам, – сказала она. – Все пустое… Евгений оставил меня без средств… Он все деньги держал обыкновенно у себя… Так им было заведено. Они где-то здесь, в квартире, но я не знаю, где. Ефим Мартынович его заимодавец… Вот и пришлось нам перевернуть здесь все вверх дном… Увы, тщетно! Нет-нет, не смейте! – воскликнула она, заметив движение молодого Кричевского к накладному карману мундира. – Вы меня оскорбляете этим! Я не для того вам все это сказала, чтобы получить от вас деньги! Или это будет наша последняя встреча!
Константин повиновался тем более охотно, что в кармане у него не было ровным счетом ни гроша. Собянская княжна, гордо вскинув голову, зябко поежилась.
– Холодно… Негодяй дворник не принес сегодня дров. Я пойду, приготовлю вам пуншу, чтобы согреться. Надо только найти чистые стаканы. Проська, мерзавка, не пришла сегодня убираться…
Она взяла лампу со столика и пошла в кухню. Константин, чтобы не оставаться в темноте, пошел следом за нею, с нежностью и любовью глядя на ее узкие нервные плечи. Ему хотелось приблизиться сзади и обнять ее, но он боялся, что Александра его прогонит.
Бесцельно побродив с огнем по темной неприбранной кухне, Сашенька остановилась у замерзшего окна, привлеченная криками пьяного извозчика с улицы.
– А недурно было бы, граф, поехать сейчас в Италию! – с внезапным оживлением в голосе воскликнула она так неожиданно, что Кричевский не сразу сообразил, что обращается она именно к нему, и даже оглянулся в поисках невесть откуда свалившегося графа. – Надоела, знаете, эта зима!
– Я не граф… – хмуро сказал он.
– А напрасно! – рассмеялась Собянская княжна, запрокинув голову, привлекательно приоткрыв свои чудесные, сладкие губы. – Вам бы очень пошел мундир камер-юнкера! Разве не хотелось бы вам, Константин, хоть иногда помечтать? Ну что с того, что родились вы сыном фельдшера?! Ведь рождение – это такая случайность… Я просто вижу вас графом! Граф Кричевский с супругой! Звучит великолепно!
– Именование себя не принадлежащим именем или же званием есть деяние уголовно наказуемое! – живо воскликнул Костя, заражаясь ее весельем. – Но для вас, милая княжна, я готов на все! Прошу вас, сударыня!
Встав фертом, он подставил ей согнутую колесом руку, выпрямился, заложив другую руку за спину, и важно повел ее анфиладой комнат, притворно лорнируя направо и налево, забавно вышагивая, дурачась и отпуская шуточки, от которых княжна смеялась, а он весь дрожал, чувствуя локтем ее теплое дышащее тело, стараясь не думать о нем – и не имея силы думать о чем-либо еще… Она несла лампу, и тени их, то смешные, то величественные, метались по стенам, то прячась, то выскакивая вдруг по углам.
Веселье продолжалось, пока они, блуждая по квартире, не уперлись в спальню, в спинку кровати, где все это и произошло. Княжна остановилась вдруг, точно ударившись о незримую преграду. Рука ее крепче сжала локоть юноши, она упругой грудью прижалась к его плечу.
– Мне кажется, меня все здесь осуждают, ненавидят… – со слезами в голосе прошептала она. – А ведь это была роковая случайность, в которой он сам был виноват! Сходите завтра к нему! – неожиданно обернулась она к Кричевскому, умоляюще глядя на него снизу вверх. – Он, вероятно, не захочет меня видеть, но вы, с вашим умом и талантом, вы постарайтесь его убедить! Я в затруднительной ситуации, которая, разумеется, не столь тяжела, как его, но тоже причиняет мне страдания и может стать причиною событий еще более ужасных и трагических! Он должен одуматься, должен! Обещаете мне?! Обещаете?! Ну, обещайте же! – почти что крикнула она и в раздражении откинула руку Кричевского, которою он попытался нежно дотронуться до ее щеки, чтобы смахнуть нечаянную слезу. – Поклянитесь же!
– Обещаю! – восторженно сказал Костя. – Клянусь!
Голова у молодого человека шла кругом от близости ее полных губ, от запаха ее волос и кожи, от нежных касаний обнаженных рук, с которых широкие рукава кофты свалились до плеч. Не утерпев, он схватил ее в объятия и поспешно и неловко поцеловал куда-то в ухо, потому что княжна отвернула лицо. С неожиданной силой Александра оттолкнула его.
– А теперь уходите! Все! Довольно! Не забудьте же, в чем поклялись! И приходите теперь завтра, расскажете новости! Приходите в эту же пору, я буду вас ждать! Н-ну… ступайте же!
– Не забуду! – вскричал переполняемый счастьем Кричевский. – Приду! Помню! – но спроси его кто хоть тогда, хоть после, в чем же именно поклялся он Собянской княжне – не припомнил бы юный помощник станового пристава, хоть разрази его гром небесный.
Когда затворилась за ним коричневая дверь с номером «семь», сходная теперь для Константина с райскими вратами, он пошел сперва вниз по лестнице, шатаясь и бормоча нечто несуразное, но вдруг остановился, поднял вверх указательный палец и сказал сам себе:
– Ага, каналья!.. – после чего огромными прыжками ловко помчался наверх, под крышу, в дворницкую.
Дворник Феоктистов, отбив положенное количество поклонов земных и поясных, исполнив утренний обет по числу прочтений «Отче наш» и подкрепив его дополнительным трехдюжинным исполнением «Богородицы» в честь избавления от утренних бесовских напастей, собирался уже благочестиво отойти ко сну, когда в тихую обитель его вихрем ворвался полубезумный помощник станового пристава и прямо с ходу, ничтоже сумняшеся, засветил Филату в ухо по примеру будочника Чуркина. Схватив громадного, перепуганного вконец дворника за грудки, Константин Кричевский встряхнул его несколько раз, и, глядя остекленелыми от приступа бешенства глазами в косенькие от страха глазки бедного мужика, захрипел, брызжа слюной:
– Чтобы сию минуту!.. Сию секунду чтобы… Дрова в седьмой номер! Чтобы печь истопил исправно! Ты меня понял?! Понял, каналья, спрашиваю?! Девке Проське скажи: ежели завтра все в хозяйстве барышни блестеть не будет – я ее на съезжую за косы сам оттащу! Так отхайдакают кнутом – век меня будет помнить! Ты понял?! Скажи: помощник станового пристава приказал! Холопская твоя морда! И чтобы барышне почет и уважение, понял?! Чтоб в пояс кланялся и шапку ломал! Одно слово ее – и тебе на Обуховке не жить более! Сгною в околотке! Пошел за дровами, сволочь!..
Нагнав на дворника страху смертного, весьма довольный собой, Константин Афанасьевич Кричевский в расстегнутой шинели, в шапчонке набекрень, весело подпрыгивая, пошел, почти что побежал пустынной уже улицей к выходу на Обуховскую, к дому, тою же самою дорогою, которой шел поутру. Нащупал по дороге в кармане мундира коробку, удивился. Припомнил – папиросы! Подарок милой княжны! Ах, какая она милая!..
– Сашенька… – ласково приговаривал Костя, достав папироску, оглядывая ее со всех сторон и даже обнюхивая. – Милая Сашенька… Моя Сашенька!..
При выходе из Инженерного поселка под зажженным уже чадящим фонарем, опершись на начищенную толченым кирпичом алебарду, стоял у своей полосатой будки все тот же Чуркин, неизменно краснорожий, неповоротливый и злой.
– Здравия желаю, ваше благородие Константин Афанасьевич! – весело крикнул он, завидев приближающегося Кричевского. – Премного благодарны вам за бумагу! Шибче торговлишка пошла! А что это вы такой расхристанный?! Застегните шинелку-то! Сиверко задул, не ровен час лихоманку какую подхватите!
Будочник был изрядно навеселе по случаю тезоименинства его кумы, но Константин этого не заметил.
– Чуркин!.. – счастливо улыбаясь, сказал он.
– Ваше благородие!.. – растягивая рот в подобие улыбки, скаля желтые зубы (так могла бы улыбаться московская сторожевая), охотно отвечал будочник.
– Чуркин!..
– Ваше благородие!..
– Чуркин!
Они обнялись и расцеловались, причем будочник поцеловал юного помощника станового пристава в пуговицу на мундире, а Костя уличного стража порядка и законности – в древко алебарды, случайно им прихваченное в объятия.
– Чуркин, дай огоньку! – весело попросил Кричевский, с непривычки неловко держа меж пальцев папиросу, как это делал на его глазах Белавин.
– Сию секунду! – Чуркин обернулся всем телом, издал мощный рык, подобный львиному: – Сады-ык!! Огня их благородию! Да поживее! А что это у вас будет, ваше благородие, позвольте полюбопытствовать? Трубка, что ли, бумажная?
– Темнота ты непросвещенная, Чуркин! Папироса это! Табак по новой моде курить! Трубки вовсе скоро из употребления выйдут, все начнут курить одни папиросы!
– Это-то быть никак не может, чтобы трубки вышли из употребления, – недоверчиво проворчал Чуркин, приглядываясь к незнакомому опасному предмету. – Потому как трубка вещь надежная и красивая, а эта фигля-мигля еще неведомо как себя покажет… А дозвольте, ваше благородие, в руки взять?
– Да бери, Чуркин! Вот, хоть три бери! Видишь, у меня их сколько?! – протягивая картонную коробку, обрадовался Костя и, заговорщицки понизив голос, с гордостью сообщил: – Она дала!
Будочник протрезвел на миг, внимательно, с прищуром глянул на молодого полицейского, но ничего не сказал, как бы и не обратил вовсе внимания, а весь увлекся разглядыванием папиросы.
– Вот она, значит, как заклеена… На манер шутихи… – бормотал он, вертя бумажную палочку с просыпающимся табаком в толстых коротких пальцах перед самым своим носом. – С любого конца, значит, можно прикуривать… Хитро, хитро…
Насмотревшись, решительно вернул папиросу Кричевскому, заявив:
– Нам барские забавы ни к чему. Ступайте домой, Константин Афанасьевич, да уж никуда не сворачивайте. Батюшка с матушкой заждались, поди. А коли лихие люди повстречаются – дуйте в свисток погромче, я уж услышу! Да помните: курение на улицах высочайшим указом воспрещается!
– Спасибо тебе, Чуркин, за заботу! – растрогался молодой человек. – Поздно уж, не увидит никто, как я курю.
И Константин Кричевский, попыхивая папироской, отправился домой.
Домашние уже спали. Лишь в окне матушки горела еще свеча. Встревоженная старушка в ночной рубашке и платке вышла к крыльцу.
– Костинька, сынок! Где же ты пропадал весь день? Щи в печке, еще теплые, должно…
– На службе, мама, на службе! – радостно сказал Костя, сияя глазами в потемках сеней. – Все завтра, все потом. Есть не буду, спать пойду.